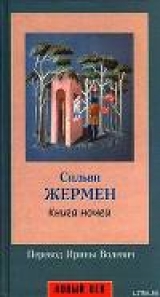
Текст книги "Книга ночей"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
Ночь пятая
НОЧЬ ПРАХА
Настало время, когда Пеньели окончательно сделались «сухопутными» – людьми земли, этой холмистой земли, насквозь пропитанной дождями и туманами, укрытой густыми лесами, прорезанной широкой рекой с капризными извивами и пепельно-серыми водами. Земли, ревниво хранившей свою первозданность, где с приходом сумерек глухо звучали древние легенды о колдунах и феях, о неуловимых разбойниках и неприкаянных духах. Земли, так часто терзаемой войнами, что она постоянно жила настороже, храня страшную память о прошлом, обагренном кровью невинных жертв.
Только небо над их головами оставалось прежним, совсем как в те времена, когда они еще были «речниками», – бескрайним серо-голубым небосводом, озябшим от ветра, усеянным ярко-белыми облачками, точно брюхо волшебного коня в яблоках, бесконечно летящего к горизонту.
Этот блеклый, пепельный цвет небес от века пронизывал души людей, окрашивая все, вплоть до их крови, голосов и взглядов. И сердца их тоже приняли этот пепельно-серый цвет, в ко тором смешались сияние дня и мрак ночи.
Они долго омывали свои сердца в безнадежно пресной воде каналов, потом донесли их до здешних полей и лесов, укрыли в глубоких бороздах пашни, меж корней деревьев. И сердца их, в свой черед, пустили корни в этой земле, расцветая подобно диким розам и окрашиваясь, как они, в кроваво-красный цвет.
Кроваво-красный.
Шло время, и имена вещей и роз принимали все новые, все более странные формы, вплоть до того, что сделались и вовсе непроизносимыми. Нашлись люди, которые до такой степени злоупотребили игрою сходств и свободой называть вещи, что исказили их до неузнаваемости. В конце концов, они всё окрестили по-своему, окрасив мир в цвет черной крови, куда бесследно канули все прочие оттенки и нюансы.
Эти люди уподобили слово «кровь» словам «прах» и «небытие».
Кроваво-красный.
Имена людей и роз, раздираемые криком боли, исчезли в безмолвии небытия.
Кровь-прах, кровь-ночь и туман.
И тогда сам человек утратил имя – а стало быть, утратил его и Бог.
Бог-кровь – это не Бог-любовь.
Это уже Бог-пепел, Бог-прах.
Прах, пепел, пыль.
1
Но мир, который, по мнению Золотой Ночи-Волчьей Пасти, воссиял от взгляда Рут, был обречен на гигантское, всеразрушающее затмение. И не Рут первой увидела роковые признаки катастрофы; даже не Тадэ, доморощенный астроном, все ночи напролет созерцавший звезды на небе. Другая узрела их – та, что отринула все мирское, вплоть до самой себя; та, что укрыла свое имя страшным двойным плащом – Виолетта-Святая Плащаница.
Они получили письмо, написанное ее сестрой, Розой Святого Петра. «…Это случилось так внезапно, так странно; никто из нас не понимает, что произошло и происходит вот уже три недели подряд. Поэтому я и решила написать вам. Ее осматривали многие врачи, но и они тоже ничего не могут сказать. Она страдает от какой-то неизвестной и, видимо, неисцелимой болезни. А разве можно лечить болезнь, не зная причины?
Она не жалуется, как, впрочем, не жаловалась никогда в жизни. И, однако, страдания ее безмерны. Но идут они не от тела, а из сердца, я в этом уверена. Бог словно решил поразить в сердце ту, которая больше всех нас предана Ему, любит Его. Кровь, что несколько раз в детстве сочилась у нее из виска, теперь показалась вновь. Но только сейчас она течет не каплями, как раньше, а струей, безостановочно, словно из настоящей раны, и лицо ее все время окровавлено. Она совсем ослабела и не встает с постели; у нее нет сил ни ходить к мессе, ни есть, ни говорить. Причастие, что носит ей каждый день наш капеллан, стало ее единственной пищей.
Изредка она что-то произносит – так тихо, что нужно нагнуться и приложить ухо к ее губам, – но все равно, ее шепот почти невозможно разобрать. Это даже не фразы, а отдельные слова, всегда одни и те же: „Зло, Бог, мир, руины, прах, агония“. Невыносимо смотреть ей в глаза – столько в них тоски и боли. Это взгляд человека, увидевшего страшные вещи, какие нельзя, не должно видеть никому. Я сижу около нее все свободное время, но не думаю, что она узнает меня: она никого больше не узнает, ее терзает то ужасное видение, от которого из ее виска и струится кровь, денно и нощно…»
Роза исписала своим мелким, убористым почерком целых пять страниц. Никогда еще она не посылала родным таких длинных писем, никогда так дерзко не нарушала обет молчания с тех пор, как переступила порог монастыря. Видно было, что в ней самой непоправимо нарушилось нечто важное.
Золотая Ночь-Волчья Пасть уразумел из ее письма лишь одно: его дочь тяжело больна и виной этому – та затворническая жизнь, на которую она обрекла себя из любви к несуществующему Богу – Богу, возникавшему лишь тогда, когда нужно было унижать и мучить людей. И в нем снова вспыхнул гнев против этого Бога, слишком часто доказывавшего ему свою безграничную жестокость. Он был готов силой вырвать у него своих дочерей, чтобы вернуть их к себе, на ферму.
Но Два-Брата вспомнил иное. Он вспомнил Бланш, мать Виолетты-Онорины, тот день, когда она впала в агонию, тот привидевшийся ей кошмар, от которого она умерла. И он понял то, что отказывались понимать другие, все, кроме Рут, в которой жила древняя память предков, безликих и безымянных призраков, что вновь возникли в ее снах испуганными толпами, гонимыми серым ветром сквозь пустоту и ночь.
В ее душе забрезжили воспоминания о родных; так из-под наносов просачивается мутная вода, размывая и искажая облик любой вещи. Ей чудилось, будто и лица ее детей и их портреты, сделанные ею, приняли второе, более значительное выражение. Особенно ярко это было видно на фотографиях: сквозь застывшие навеки, запечатленные лица проглядывали другие, более старые, забытые, казалось бы, навсегда. Все эти снимки, сделанные за многие годы, на долгую память, теперь бесконечно поражали ее. Разглядывая их, она видела на лицах детей не столько мимолетные, изменчивые выражения, которые ей хотелось закрепить на бумаге, сколько другие, исполненные глубокого, древнего смысла.
Она видела даже то, что давно успела похоронить в памяти, – своих родных, которых покинула, от которых бежала. Она поняла, что не может, не должна больше забывать их. Ее отречение от семьи оборачивалось теперь бесконечной, долгой памятью о ней. Все те преходящие мгновения, что застыли в ее фотоальбоме квадратиками вечности, внезапно ожили и подали голос. Что-то оттаяло в этих образах, стронуло их с места, унося из привычного семейного круга в неведомые дали, на встречу с прошлым.
В лицах сыновей, еще по-детски округлых, она различала теперь черты своих братьев, погибших в возрасте восемнадцати и двадцати лет во славу империи, сгинувшей с ними вместе, и сходство с Яковом, третьим братом, потерявшим рассудок. Жив ли он еще, по-прежнему ли обитает в родительском доме? Вряд ли, она хорошо знала, что его там нет, как нет и отца с матерью. На ее прежней родине не осталось ни одного дома, способного приютить ее родных; всем им, конечно, пришлось бежать, этим несчастным с позорной желтой звездой на груди, напоминавшей мишень или жалкое тряпичное сердце. Где же скрылись они, да и успели ли скрыться? Возможно ли, чтобы ее мать, которая боялась собственной бледной тени и никогда не выходила за порог темной лавки, нашла в себе силы и мужество бросить дом, уйти куда глаза глядят?! Ее мать, чьи кроткие черты явственно проступали теперь на личике Альмы. Ее мать… как мало Рут знала о ней; лишь сейчас она пыталась восстановить эту разорванную связь, почти что заново узнать мать через свою дочь, которая вскоре достигнет того возраста, когда она, Рут, покинула семью и родину, – узнать и свою мать, и свою историю, и своего Бога.
Ее семья, ее история, ее Бог – все это смотрело на нее сквозь лица на снимках, которые она не переставая делала, ретушировала, увеличивала, стараясь оживить мучившую ее память о былом. Эту внезапно пробудившуюся память больно подстегнуло еще и письмо Розы, ее рассказ о загадочной агонии Виолетты-Святой Плащаницы. Рут чудилось, будто кровь молодой послушницы обагрила всё и вся вокруг, вплоть до отцовского лица, преследующего ее днем и ночью.
Теперь борода отца казалась Рут лишь протяжным горестным стоном ночи. Ночи, которая после стольких лет разлуки, конечно, стала ночью праха, ночью бессонных терзаний и бесплодных надежд.
Кровь юной монахини ныне сочилась отовсюду – кровь настоящего, отравленная прошлым, оскверненная будущим.
«…Изер, столица – Гренобль; Ланды, столица – Мон-де-Марсан; Луар-э-Шер…». Этот школьный голос, перечислявший департаменты Франции, нескончаемым эхом отдавался у него в голове во время долгих бессонных часов. Ибо Два-Брата совсем потерял сон, как будто что-то заставляло его бодрствовать день и ночь, чтобы спасти сына, единственное его дитя, в тот миг, когда на колокольне Святого Петра вновь зазвучит роковой набат. Его слегка успокаивало только то, что Бенуа-Кентен – калека; в армии не шьют мундиров для горбатых, говорил он себе. Сам же Бенуа-Кентен мучился совсем другим – своей беззаветной любовью к Альме. Ибо уродливое тело не создано для взаимной любви, с горечью думал он.
Один только Жан-Франсуа-Железный Штырь не был в курсе беды, постигшей ту, что была единственной радостью его простодушного сердца, ту, которую он звал своей душенькой, своей голубкой. Старость настолько прочно укоренилась в нем, что он как будто жил вне времени. Он по-прежнему любил сидеть по вечерам на пороге своей каморки, глядя в поля, которые пахал всю свою жизнь, хотя нынче глаза его заволокла пелена, позволявшая видеть лишь прошлое. И так же он больше не слышал звуков земли, криков животных и голосов окружавших его людей. Одно только достигало его слуха – воркование очередной пары горлиц в клетке, которых он постоянно держал у себя в память о Виолетте-Онорине. Временами старику чудилось, будто он и сам превратился в клетку, где его любимые птицы, нежно воркуя, сидят на краешке его сердца.
Так что, когда ударил набат, Жан-Франсуа его не услышал. Смерти не было доступа в старое сердце, где укрывались горлицы. Они оберегали его от любого зла, от любой напасти.
А колокол Святого Петра на сей раз звонил громко и отчетливо – ведь это был не прежний, надтреснутый, а новый, отлитый в торжественные дни побед и завоеванного мира.
И, однако, трещина не исчезла полностью; она просто переместилась с бронзы на этот благословенный мир. Вот отчего колокол звучал так громогласно, разнося окрест страшное известие: вернулось время зла, время крови и страха, вернулось и семимильными шагами идет по земле.
Он звонил так громко, что даже Габриэль и Микаэль услыхали его в своей лесной глуши и тотчас поспешили на ферму, – не для того, чтобы вернуться к родным, но чтобы еще раз уйти от них. И на сей раз окончательно и бесповоротно. Ибо эти братья-любовники, братья по крови, инстинктивно почуяли, что настал час, когда их страсти, их жестокость и рвущийся из горла крик найдут выход в ослепительных зарницах битвы, объявшей весь мир.
И лагерь, который они выбрали для достижения цели, своей великой цели, был лагерем противника. Их кровавые деяния могли вершиться лишь по ту сторону фронта, питаемые жгучей ненавистью, возвышенным чувством братства и жаждой разрушения. Ибо они жаждали разрушать. Разрушать, разрушать и разрушать. До тех пор, пока хватит дыхания, сил и ярости. Той ярости, что с самого рождения терзала их сердца.
2
Итак, оно вернулось – время зла, – и вновь, и опять никто сначала особенно не всполошился, не поднял тревогу. Только на сей раз враг не мешкал и мгновенно утвердился на завоеванной земле. Нужно сказать, что еще не кончилась весна, и все произошло так быстро, что она даже не успела потерять свое очарование, несмотря на первые разрушения и первых мертвецов, кое-где уже омрачивших веселый пейзаж.
Черноземье, расположенное на холмах, над Мезой, поначалу избегло тягот войны. Укрытое густыми лесами, селение просто оказалось отрезанным от территории страны и как бы пропало из виду, словно дикий зверь, безмолвно затаившийся в своей норе. Впрочем, и вся страна тоже была рассечена на зоны, уподобившись архипелагу из трех островов, трех Франций, разительно несхожих меж собой. Одна зона называлась свободной, вторую объявили оккупированной, третья, приграничная, и вовсе находилась под запретом. Кроме того, имелось и много других зон: люди покидали страну морем, унося в карманах горсть родной земли, чтобы обосноваться вместе с нею на чужбине, кто в Англии, кто в Африке. А город – самый главный, огромный город с парками и садами, где Виктор-Фландрен встретил свою последнюю и самую великую любовь, – претерпевал позор и горечь вражеского плена.
«Там». Ни «здесь», ни «сегодня» больше не существовало. Осталось одно лишь «там» – неведомое, недостижимое, и еще «завтра», грозящее страхом и бедой. Явилась новая, наспех созданная картография, не перестававшая удивлять людей: городишко, доселе известный лишь больным печенью, нежданно выдвинулся на первый план в нынешней сумасшедшей географии.[7]7
Имеется в виду курортный город Виши в так называемой «свободной» зоне Франции, где во время войны находилось правительство под руководством маршала Петэна.
[Закрыть]
Весь район Черноземья, угодивший в запретную зону, казалось, сменил широту. Теперь он стоял на широте войны, уродливо преобразившей этот край. Земля засохла, словно изошла кровью; ураган, налетевший с той стороны границы, смел все подчистую – поля, стада, людей. Целые деревни исчезали с лица земли по прихоти жуткого кадастра, со дня на день подкрепляемого огнем пулеметов и взрывами бомб. Повсюду, куда ни глянь, возникли кошмарные творения военной архитектуры – бункеры, авиабазы, лагеря, казармы, железнодорожные пути. Бетонный пейзаж, ощетинившийся колючей проволокой. Жилища и поля внезапно сменяли владельцев и назначение. Враг по-хозяйски водворялся в лучших домах и беспощадно изгонял местное население, заменяя его тысячами бесплатных рабов – пленных, доставляемых сюда со всех оккупированных восточных территорий.
В первое время оккупанты, в упоении легкой победы, вели себя более или менее корректно, пытаясь даже приобщить к своему триумфу этот разрозненный завоеванный, поверженный в страх народ. Но продолжалось это недолго – преимущества и права, неоспоримые в глазах победителей, расценивались побежденными как обыкновенный грабеж и насилие, с которыми следовало покончить как можно скорее.
Это сопротивление заставило врага открыто выказать свою ненависть. Улицы городов и сел обагрились красными плакатами, вестниками ужаса и смерти.
Черноземье практически не имело улиц, и его единственным общественным зданием была старая мыльня, поэтому оккупанты некоторое время не обращали внимания на деревню, так что ее обитатели почти не чувствовали близости врага, разве лишь мельком видели в щелочку ставней большие черные грузовики, мчавшиеся туда-сюда по дороге. Люди, однако, еще не забыли прошлое нашествие и чувствовали, что смерть только взяла отсрочку, но бродит где-то рядом, готовая наброситься и поразить их в любой миг. Ее присутствие ощущалось повсюду, только они не знали, где и когда появится она в открытую. А пока, в ожидании ее удара, они затаились и молчали.
И она пришла – эта смерть, которую они ждали с тоскливым страхом, – пришла внезапно и странно, поразив, для начала, не живых, а мертвых. Ибо на широте войны возможен любой абсурд, даже трагикомический.
Однажды ночью, перед самым рассветом, прямо на кладбище Монлеруа упал подбитый самолет. На сей раз церковь лишилась не только своего колокола, но и самой колокольни. А кладбище оказалось на три четверти разрушенным. Когда рассвело, жители Монлеруа увидели изуродованные тела своих покойников, над которыми до того основательно потрудились черви. Эти тела, без лиц, без признаков пола, вышвырнуло взрывом из могил и вперемешку раскидало по крышам ближайших домов и ветвям деревьев, только-только начавших ронять листву.
Вот таким оказался для обитателей Монлеруа первый сбор осеннего урожая на широте войны; им пришлось шестами сбрасывать трупы с крыш и ветвей, чтобы закопать их без разбора в общей могиле, вырытой под бдительным оком врага, которого интересовало в этой мешанине останков только одно – останки погибшего самолета.
Золотая Ночь-Волчья Пасть ощутил невыносимую боль при виде оскверненного кладбища, представлявшего теперь свалку костей. У него было такое чувство, словно это ему самому вспороли живот и вывернули наизнанку, опоганив воспоминания об усопших, его любовь к ним.
Мелани, Бланш, Голубая Кровь, его дочь Марго – один звук этих имен причинял ему теперь страдание, останавливал сердце. Его прошлое, все его прошлое, валялось в общей яме, грубо вырванное из истории, изгнанное из памяти.
На сей раз сомневаться не приходилось: беда и смерть подошли вплотную и нанесли свой первый удар, нанесли коварно и нежданно, в спину, со стороны прошлого. А теперь они должны были взяться за живых – обойти их с флангов и, в конце концов, безжалостно поразить прямо в лицо.
Вот так Черноземье, стоявшее на широте войны, двинулось в сторону широты смерти.
Бенуа-Кентену послышался тихий всхлип по ту сторону пламени, когда загоревшийся белый слон рухнул набок и развалился на куски. Он неотрывно, до слез, смотрел в худенькое личико Альмы, искаженное метавшимися отблесками пожарища; еще никогда ее глаза не казались ему такими огромными. Он даже не чувствовал отцовскую руку, больно стиснувшую ему плечо, – Два-Брата прижал сына к себе так судорожно, словно хотел втиснуть его в собственное тело, укрыть там.
Огонь пылал долго, ведь у него было вдоволь пищи – груды мебели, утвари, белья. Казалось, буйное пламя окрасило в розовое даже снег вокруг дома, заставляя его вздрагивать и плясать вместе с собой. Людям, стоявшим у пожарища, было одновременно и странно холодно и невыносимо жарко.
Младшие девочки, Ивонна и Сюзанна, спрятали головенки в юбку матери и вцепились ей в руки, царапая кожу. Они не хотели, не могли видеть этот кошмар. Рут застыла на месте, беззвучно плача. На ее глазах в черном столбе дыма вздымались и тут же съеживались и исчезали лица и руки – это горели ее альбомы. Слезы и языки пламени… ее глаза видели даже сквозь них. А черный дым все стлался и стлался по ветру, точно длинная борода.
Одна только Матильда держалась поодаль от женщин, сложив руки на груди. Ее седые волосы ярко белели в свете пожара.
Золотая Ночь-Волчья Пасть стоял в окружении своих сыновей, Сильвестра, Самюэля и Батиста. Он еле заметно пошатывался, как сомнамбула на грани сна и пробуждения. Его веки все еще чувствовали касание пальцев Рут, прикрывших ему глаза нынче утром. «Ну-ка, угадай, что я сегодня надела?!»– спросила она. Когда она отняла руки, он повернулся и увидел зеленое платье, платье их первой ночи. «Помнишь?»– «Конечно, помню. Оно тебе идет так же, как тогда». И верно, зеленое платье по-прежнему было к лицу Рут, как будто ни она, ни платье ни чуточки не изменились за прошедшие десять лет. И все же в его складках и карманах ему чудилась затаившаяся опасная тень, что навела на него страх тем утром, – зеленая тень, которая сейчас багровела в огне пожара и куда обе девочки спрятали испуганные лица. Тень поражения.
Даже Жана-Франсуа-Железного Штыря выволокли из его закутка и поставили перед огнем; поддерживаемый с двух сторон Тадэ и Никезом, он пытался определить, где горит, протягивая вперед трясущиеся руки. В ушах у него все еще стоял пронзительный писк двух его горлиц, которых солдаты прямо в клетке швырнули в костер.
Когда пламя наконец улеглось, офицер, который командовал расправой, сидя, нога на ногу, на единственном, специально оставленном для него, стуле, встал и выкрикнул новый приказ. Солдаты произвели второй отбор, разделив на сей раз не женщин и мужчин, а тех, кого должны были увезти, и всех прочих. Затем они пересортировали уезжавших. Рут, с ее пятью детьми, поставили в одну сторону, а молодых мужчин, способных работать на рейх, в другую; сюда попали Батист, Тадэ и Никез. Горбуна, совсем уж никчемного, оттолкнули от них. Однако оккупанты решили и его заставить потрудиться, пусть хоть единожды, во славу рейха. Офицер распорядился дать мальчику револьвер и приказал ему застрелить старого Жана-Франсуа, виновного в сокрытии горлиц, которые вполне могли полететь против ветра славной, триумфальной истории, за которую он, немецкий офицер, боролся всеми силами души.
Бенуа-Кентен оторопело глядел на оружие, лежавшее у него на ладонях. Он стоял один посреди двора, перед чадящим пожарищем. Совсем один – между офицером и Жаном-Франсуа, который испуганно шарил вокруг себя, ища опору, чтобы не упасть. Офицер велел поднести стул и даже помог старику усесться. Всех остальных оттеснили подальше, к амбарам и дому; им было разрешено только смотреть.
Офицер повторил приказ, но Бенуа-Кентен как будто не расслышал или не понял его. Он глядел то на немца, то на Жана-Франсуа, по-прежнему держа револьвер на ладонях. Его мучила боль в спине – казалось, в горбе что-то ворочается. «Сейчас он лопнет, – подумал мальчик. – Оттуда высунется рука и выстрелит». Эта мысль и напугала и утешила его. «Сейчас высунется и выстрелит…» – «Стреляй же, – прошептал ему Жан-Франсуа. – Я уже стар, так и так помру. Они убили моих горлиц, и мне теперь все равно жизнь не мила… Давай, малыш, стреляй… стреляй быстрее…» Он шептал это еле слышно, тихонько покачивая головой и улыбаясь бесконечно грустной, отрешенной улыбкой. Бенуа-Кентен поискал глазами Альму. Она стояла у стены хлева, так далеко от него, в окружении братьев и сестер. Ее огромные глаза залили синевой беленую стену.
Офицер опять повторил команду – в третий и последний раз. Его терпение подошло к концу; он предупредил Бенуа-Кентена, что, если через минуту тот не выстрелит, его самого казнят за неповиновение. Глаза Альмы заливали теперь синевой все стены вокруг, весь снег до самого горизонта. Бенуа-Кентен не видел, не слышал и не чувствовал ничего другого, только этот сизо-голубой свет, что струился из глаз Альмы, озаряя небеса и землю и трепеща в его собственном сердце протяжным немым плачем. Спина теперь болела невыносимо, хоть кричи, как будто кто-то изо всех сил разбивал ее изнутри кулаком.
Он медленно переложил тяжелый револьвер в правую руку; ему было неизвестно, как из него стреляют. Отступив на несколько шагов, он вытянул руку вперед и осторожно положил палец на курок. «Ага!» – бросил довольный офицер и, заложив руки за спину, отошел к стулу, чтобы лучше видеть происходящее. Жан-Франсуа начал издавать странные звуки, похожие на воркование его горлиц. Согнувшись в три погибели, положив руки на колени, он подался всем телом вперед, точно уже готовился упасть.
Бенуа-Кентен последний раз взглянул на Альму и поднял револьвер, держа его обеими руками. Он прицелился в голову осужденного и выстрелил. Все произошло мгновенно: пуля попала прямо меж глаз, и убитый рухнул лицом вниз. Жан-Франсуа по-прежнему тихо насвистывал, сидя на стуле. Бенуа-Кентен бросил револьвер наземь.
Раздались крики, люди у амбаров в панике заметались, но солдаты тут же восстановили порядок ударами прикладов.
Потом они пошли на Бенуа-Кентена, застывшего среди двора, целясь в него из тех странных массивных стволов, с помощью которых час назад подожгли имущество Пеньелей. Золотая Ночь-Волчья Пасть схватил сына за плечи и насильно вжал его лицом в стену, не давая обернуться и смотреть.
Раздался глухой шипящий звук, и на Бенуа-Кентена обрушились три мощные струи жидкого пламени. В последний миг он еще успел увидеть глаза Альмы. Потом его тело объял огонь, и оно вспыхнуло целиком, с головы до ног. Воркование Жана-Франсуа перешло в пронзительный стон. Его тоже подожгли, и он загорелся вместе со стулом.
Бенуа-Кентен хотел выкрикнуть имя Альмы, позвать ее, признаться наконец, как страстно любит ее сейчас – больше, чем когда-либо. Но вместо имени своей обожаемой, единственной возлюбленной он прохрипел другое слово – в тот самый миг, когда рухнул наземь, корчась в пламени: «Старуха!..» Его обожженные глаза увидели старую колдунью из парка Монсо, сдававшую стулья; она вытащила из обвисшего кармана с монетками огнемет и подожгла карусель с детьми и белыми слонами.
Это Альма завела песенку – тоненьким, совсем детским голоском; она глядела так, словно лишилась рассудка. Ей приказали молчать, но она продолжала:
Ее ударили прикладом в грудь, и у нее пресеклось дыхание, но она тотчас запела снова, теперь уже совсем слабо: «Красотка я, красотка…» Пуля, попавшая ей в горло, оборвала песню, и девочка мягко упала к ногам сестер и братьев, захлебываясь кровью, которая обагрила их башмаки.
Ни дети, ни Рут не успели даже крикнуть; их с грубыми ругательствами загнали прикладами в грузовик, где уже сидели Батист, Тадэ и Никез. Одна только малышка Сюзанна прошептала, поднимаясь в машину под крики солдат, так тихо, что никто не услышал: «Красотка я, красотка, да в красных башмачках…»
3
Теперь во дворе остались только Матильда, Виктор-Фландрен и Два-Брата. Грузовики давно уже скрылись из виду, а они по-прежнему молча стояли на месте, как вкопанные. Золотая Ночь-Волчья Пасть все еще прижимал сына к стене, боясь отпустить его и ощущая под пальцами бешеный стук его сердца. Ему казалось, что, разожми он руки, и тело сына тотчас распадется, как бочонок без обручей. Но вдруг разум и силы оставили его, и он весь обмяк, ничего не видя, не слыша, не понимая. Глухой стук сердца в теле его сына внезапно смолк. И тут же он ощутил острую боль в левом глазу.
Два-Брата медленно сполз вниз по стене, царапая лоб о штукатурку, и недвижно скорчился у ног отца.
Золотая Ночь-Волчья Пасть бессмысленным взглядом обвел двор, огромное кострище в центре, два обугленных тела рядом. Альму, комочком лежавшую возле хлева, в нимбе чернеющей крови вокруг белокурой головки. «Значит, кончено? – вымолвил он задумчиво и недоуменно. – Все кончено?..» День тоже кончался; вечерние тени мало-помалу затопили холм. Кому же задал он свой вопрос – уж не этим ли теням? Взглянув на «школьную» тропу, он хрипло сказал: «Два-Брата вернулся по этой дороге. Я помню. Он шагал так тяжело… Я его даже не узнал. Это как будто только вчера было…» Но ему казалось, что и все остальное тоже было вчера, – Мелани, Бланш, Голубая Кровь, Рут, и все дети, рожденные от него, и Бенуа-Кентен. Вчера…
Да, отныне здесь будет царить только «вчера», ничего, кроме «вчера». Само время сгорело у него на глазах вместе со всем добром и телами близких. Сгорело и настоящее и будущее. Остался лишь смутный призрак былого, выброшенный из потока времени.
Золотая Ночь-Волчья Пасть нагнулся к сыну и взял его на руки. Силы вернулись к нему, и вернулась память – память, обремененная столькими смертями и печалями, столькими радостями любви. Он донес сына до крыльца и сел, держа на коленях его тело. «Значит, кончено, – повторил он. – Все кончено». И он заговорил вполголоса, временами почти с улыбкой. Он обращался к своим родным, ко всем умершим, ко всем ушедшим. Так он говорил с ними до самой ночи, бережно укачивая сына и гладя его застывшее лицо. Он говорил также и с ночью, и с поднявшимся ветром, и со снегом, который закружился над его головой. «Отец, – вдруг спросила Матильда. – Что мы будем делать с… телами? Земля промерзла, могилу вырыть невозможно». Ей с трудом удалось выговорить эти, казалось бы, простые слова – такой страшный смысл отягощал их, – и она произносила их нерешительно, невнятно, словно и ее губы промерзли насквозь.
Тела… Вырыть могилу… Эти слова были так неимоверно тяжелы, так мрачны, так мертвенно холодны – еще холоднее этой оледеневшей земли. Матильда бродила по двору, стиснув на груди руки и не понимая, от какого холода ее бьет дрожь, – от холода ночи или от холода этих слов. Она боялась зайти в дом, зная, что там пусто, двери и окна выбиты, полы сорваны. Она боялась зайти в дом, потому что дома больше не было, ничего больше не было, они остались ни с чем.
Отец. Все эти тела. Вырыть могилу. Эти слова бились у нее в голове, такой же опустелой сейчас, как дом; они стучали в виски больно и громко, как вот эти перекошенные двери об стену, под порывами ветра. Но вот одно из этих слов отделилось и зазвучало явственнее прочих. Отец. Отец… отец…
Но отец не глядел на нее или, быть может, не видел. Он беседовал с ночью и мертвецами. А ведь ей было бесконечно холоднее, чем убитым, и куда более одиноко, чем им! Отец, отец, отец… Неужто ей тоже надо умереть, чтобы он наконец обнял ее, взял на руки и утешил в неизбывном, вечном горе? Неужто для этого надо умереть?!
И Матильде захотелось лечь наземь рядом с изуродованными трупами и, как они, затихнуть навеки. Она подошла к куче пепла, уже подернутой тонкой снежной пеленой, и упала на нее. «Там, внизу, наверное, еще тлеет огонь, – думала она. – Там еще осталось тепло… тепло…» Она принялась раскапывать пепел, ища под ним горячие уголья, но вдруг порезалась обо что-то железное. И боль от этой раны – наконец-то живой, реальной раны – тотчас привела ее в себя и заставила подняться.
Предмет, о который поранилась Матильда, был продолговатой жестяной коробкой, почерневшей от огня. Два-Брата принес эту коробку с прошлой войны. И какая теперь разница, чья рука лежала в ней – Огюстена или Матюрена?! Матильда засунула коробку поглубже в пепел и встала на ноги. «Да что же это я? – сердито подумала она, отряхивая платье. – Разве мое место здесь? Ну нет, я осталась в живых. Я жива. Мой отец и я – мы живы. А пепел – это удел мертвых. Тех, кто умер давно, и тех, кто умер сегодня. Но ведь я-то жива!»
И пускай тянется из опаленной коробки страшная рука прошедшей войны – ее, Матильду, она не схватит. Пускай забирает другие тела – вот эти, безжизненные, похолодевшие. И, если земля отказывается принимать их, то, может быть, примет огонь? «Отец, – вскричала она, обернувшись к Золотой Ночи-Волчьей Пасти. – Нужно что-то делать! Земля слишком твердая, мы не сможем раскопать ее. Придется сжечь тела, иначе набежит зверье».
«Земля… – отдаленным эхо повторил за ней Виктор-Фландрен, – земля…» Но говорил он не с Матильдой, он говорил во сне. Ибо он заснул с открытыми глазами, сидя на пороге и по-прежнему держа на коленях тело сына. Он прижимал его к груди, точно младенца – этого своего старшего сына, такого большого, такого тяжелого теперь.
Он спал и видел сон. Ему снилась земля. Вот эта земля, на которой он не родился и которая, может быть, именно поэтому отторгала его от себя, не принимая даже его мертвецов. И, значит, он так и остался «речником», лишь тенью проскользнувшим среди «сухопутных» людей. Да, землей нельзя было овладеть насильно, нельзя было даже мертвым проникнуть в нее. Конечно, он всю свою жизнь копался в ней – первые семь лет спускаясь в шахту и еще полвека распахивая и засеивая эти поля. Но все это были жалкие, поверхностные царапины, которые тотчас и бесследно затягивались. Он был «речником», отвергнутым рекой; теперь он стал крестьянином, отвергнутым землей, возлюбленным и отцом, отвергнутым любовью, живым, отвергнутым жизнью, но не принятым и смертью. Ему нигде не было места. Вот почему он не спешил подниматься с порога, где спал сидя.








