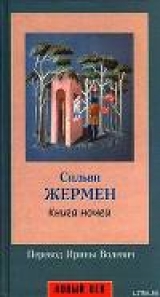
Текст книги "Книга ночей"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Ему виделась земля, ее медные и золотые колосья, ее изумрудные и голубоватые травы, леса и источники, цветы – розовые, как губы, синие, как глаза, красные, как кровь. И от всего этого ничего не осталось. Только смертельный холод и прах.
«Земля… земля…» – шептал во сне Золотая Ночь-Волчья Пасть. Робко забрезжил рассвет, на горизонте мелькнули его первые розовато-белые сполохи.
Однако разбудила Виктора-Фландрена не утренняя заря, а пылающий костер, который Матильда развела на месте вчерашнего пожарища, собрав последнюю солому в давно пустых стойлах и все оставшиеся дрова. Потом она сложила в него тела Альмы, Бенуа-Кентена, Жана-Франсуа и даже брата, которого с трудом вырвала из объятий спящего отца. Все эти тела казались неподъемными, налитыми свинцовой тяжестью холода и смерти, но как же покорно дались они ей в руки! Сама же Матильда, так внезапно вернувшаяся к жизни в тот самый миг, когда уже отказалась от нее, ощутила в себе новую, свирепую силу. Она пристально глядела в этот второй огонь – на сей раз очищающий и благословенный. Жаркий, прекрасный огонь, вновь соединивший все, что разрушило вчерашнее злое пламя, и теперь освобождавший мертвецов от их мертвого обличья, чтобы отдать ветру.
Золотая Ночь-Волчья Пасть встал и медленно подошел к огню. Он не сказал ни слова, только смотрел и смотрел, вместе с дочерью, на этот погребальный костер, где исчезали останки его детей и старого товарища. В его душе не было теперь ни гнева, ни ненависти, ни возмущения против Бога. К чему все это, если Бога попросту нет, если небеса так же пусты, как земля, как его дом?! Не было у него иных богов, кроме близких, которых он так любил и которые теперь мирно сгорали у него на глазах. Он смотрел, как эти боги обращаются в прах, и молчал.
Уже совсем рассвело, и небо приняло тот же светло-серый цвет, что и груда пепла на дворе, как будто и оно тоже горело всю ночь напролет. Поднявшийся ветер вздымал тучи снега и уже начал уносить пепел.
Виктор-Фландрен и Матильда решились наконец войти в разоренный дом. Ветер врывался в разбитые окна и стонал по углам; ободранные стены отражали и разносили по комнатам скорбное эхо его завываний. Казалось, это звучит нестройный хор разрозненных голосов, вырванных из уст и тел, беспорядочно метавшихся по дому, точно стая обезумевших, ослепших птиц.
Матильда взглянула на отца; он стоял посреди комнаты спиной к ней, уронив руки и глядя в пол. «Столько лет, столько жизней, – и чем же все это кончилось!» – мысленно воскликнула она, пораженная его видом. Ибо отец вдруг показался ей точно таким же, каким она запомнила его тридцать пять лет тому назад, у смертного ложа ее матери. Просто со временем плечи его стали чуть шире, а спина немного ссутулилась. Что же – зарыдает ли он теперь, как рыдал в тот день? Ее любовь к отцу была в этот миг и острой ненавистью и бесконечной нежностью, и эти два чувства боролись в ее сердце, грозя вот-вот разорвать его. Матильда схватилась за голову – комната завертелась вокруг нее, стены зашатались. Да, она сдержала свою клятву: она до конца осталась преданной отцу, не покинула его ни в любви, ни в смерти. Из пятнадцати рожденных им детей она одна была рядом с ним всегда, во всех жизненных бурях и невзгодах. И какую же награду получила она за свою бесконечную верность? Только безразличие и предательство за предательством. Она почувствовала, как ненависть берет верх над состраданием, превращается в безумную ярость. Беспощадное сознание обмана вспыхнуло в ней: как же посмеялась над нею жизнь! Матильда впилась зубами в руку, чтобы не завыть в голос, и, рухнув на колени, разразилась истерическим хохотом. Столько лет, столько любовных драм, ревности, смертей, и в результате – ноль, пустое место! Стуча кулаками в пол, она хохотала, хохотала до икоты. Виктор-Фландрен обернулся к ней. «Матильда, Матильда, что с тобой? Перестань, умоляю тебя! Замолчи, успокойся!..» Этот безумный, злобный смех разъедал ему душу. Опустившись на колени, он схватил дочь за руки. «Я тут, я тут! – крикнула она, не переставая смеяться. – Я всегда тут, при тебе! Других уже нет, а я осталась. Но только зачем, Господи боже, зачем?! Ты ведь никогда меня не любил, ни ты, ни все другие! А я вот выжила, и некому меня любить, некому!..» Всклокоченные волосы падали ей на лицо, лезли в глаза и рот. Эти седые пряди, свисавшие со лба, блестели, как слезы. Она подняла было руку, чтобы оттолкнуть отца, но рука задела его плечо и судорожно вцепилась в него. И отец открыл ей объятия, прижал к груди и дал выплакаться; ее слезы струились по его шее, под рубашку, обжигая кожу.
Наконец слезы иссякли; Матильда решительно поднялась и, отбросив назад волосы, твердо сказала: «Ну, а теперь за работу! Нужно все начинать сначала». В который уже раз она сумела совладать с собой.
4
И они взялись за работу – голыми руками, стремясь лишь к одному: бороться, день за днем, со страшной пустотой и горем, вторгшимися в их жизнь.
Однако вскоре у них появилась и другая цель. Она возникла вместе с молодой женщиной, пришедшей однажды вечером на ферму. Все ее достояние заключалось в одежде, что была на ней, и в ребенке, который только-только зашевелился у нее под сердцем. Она пришла пешком, и ей понадобился целый день, чтобы добраться до Черноземья. А добраться было необходимо, ибо ее городок тоже сгорел дотла. Самолеты сбросили на него больше бомб, чем там насчитывалось домов, не оставив камня на камне, одни лишь дымящиеся воронки. Исчез с лица земли и книжный магазин Бороме со своей красивой голубой витриной, крышей, стенами и книгами, да и сам хозяин вместе с женой нашел смерть под развалинами. Спаслись только Полина, их дочь, да ребенок, которого она носила, – ребенок Батиста. Вот почему она пришла искать убежище на Верхнюю Ферму. И Золотая Ночь-Волчья Пасть принял ее, как принял некогда Жюльетту и Ортанс.
Спустя короткое время присутствие Полины вернуло лица и плоть всем тем неприкаянным голосам, что гулко звенели в опустевших комнатах. Постоянно пребывая в неистовом ожидании, она сумела вовлечь в него и Виктора-Фландрена, вырвать его из оцепенелого одиночества. Она ни минуты не сомневалась в возвращении Батиста; кончится же когда-нибудь эта война, твердила она, все войны рано или поздно кончаются. И в самом деле: вокруг уже начали тихонько поговаривать, что враг смотрит хмуро и уныло, как оно всегда и бывает, если дело идет к разгрому. Ходили слухи, что он теряет последние силы, продвигаясь там, далеко, на востоке, в глубь заснеженных бескрайних равнин, навстречу своей погибели. Батист и Тадэ на фронт не попали, их отправили в трудовой лагерь где-то в Германии. И, значит, нужно было ждать и надеяться на их возвращение – с такой силой, чтобы оно стало реальностью.
Золотая Ночь-Волчья Пасть не мог вынудить судьбу вернуть родных на ферму, но он заразился неистовой надеждой Полины, как лихорадкой, и эта надежда грела ему сердце до самого конца войны. У него отняли близких, увезли их неведомо куда, неведомо зачем, но ведь не для того же, чтобы убить?! Страшная сцена во дворе, в день обыска, пожара и разорения фермы, была следствием зверской жестокости отдельного офицера и рокового поступка Бенуа-Кентена, но, разумеется, не являлась частью системы – просто ужасный, из ряда вон выходящий случай. И, однако, в последнее время он четырежды почувствовал ту жгучую, слишком хорошо знакомую боль в левом глазу, только не захотел придать ей значение, заставил себя позабыть о ней.
Иногда он думал: а может, его близкие находятся в большей безопасности в тех лагерях, под охраной самих врагов; может, там они меньше страдают от голода и лишений, чем здесь, на пустой ферме?
Он еще мог кое-как представить себе лагеря для военнопленных или иностранных рабочих, но был совершенно неспособен вообразить себе лагеря, куда свозят евреев. Он вообще слабо понимал, что это означает – быть евреем, и вражеская антисемитская пропаганда никак не прояснила для него этот вопрос, который он, впрочем, никогда и не задавал себе. В начале его знакомства с Рут она как-то сказала: «Знаете, я ведь еврейка». Но нет, он не знал, да и что тут было знать? Единственная разница между ними, которую он заметил тогда, была разница в возрасте, и только она одна мучила его. Однако и это оказалось неважным – счастье его союза с Рут смешало их года воедино, как воды двух светлых, неторопливых рек. Только сейчас эта фраза Рут вспомнилась ему и заставила размышлять. Но, сколько он ни думал над ней, он не находил ответа и в конце концов пришел к одному: Рут – его жена, его возлюбленная, и она обязательно вернется к нему, вместе с их четырьмя детьми, как только правнуки германского улана сгинут на краю света, в снегах, которые мечтали завоевать.
Да, Рут должна была вернуться к нему, вместе с детьми. И не только ради них самих, но ради тех двоих, со смертью которых он никак не мог примириться, – Альмы и Бенуа-Кентена. Он горевал о них еще больше, чем о сыне или Жане-Франсуа. До сих пор он не верил в то, что увидели его глаза. Любимый внук Бенуа-Кентен, милый, кроткий мальчик, благодаря которому он встретил свою последнюю любовь, сгорел заживо в струях пламени. И Альма, хрупкое дитя с глазами, вечными, как время, с душой, огромной, как ее глаза, пропела, захлебываясь кровью, свою последнюю скорбную песнь.
Именно ради этих двоих, обратившихся в прах, он должен был вновь найти Рут, чтобы они смогли, помимо их собственной любви, жить любовью своих детей, не успевших ее познать. Он твердо верил, что только подле Рут найдет утешение – и возрождение. Ибо только им двоим отныне дано было, наперекор смерти, возродить тех, кто был и остался лучшей их частью. И другие – другие тоже должны вернуться к нему, – и сыновья Бланш, и сыновья Голубой Крови, и даже те трое, зачатые в Лесу Ветреных Любовей, хотя от них не было никаких вестей с самого начала войны.
К осени у Полины родился сын. Она назвала его Жаном-Батистом. Это последнее рождение ребенка на ферме, как и рождения всех Пеньелей в течение полувека, укрепило надежды Виктора-Фландрена. Значит, не напрасно он восстановил стены своего дома, навесил двери и ставни – в этих стенах, где пустоту разорения сменил наконец домашний уют, раздался новый младенческий крик, зашевелилось новое детское тельце, всей своим существом вовлекая других в жизнь и в поток времени. Этот крик потряс Виктора-Фландрена даже больше, чем крик его первых сыновей, ибо в нем он как никогда ясно распознал горькую, но прекрасную истину – непрестанное обновление мира. Он придал ему новые силы и надежды для того безрассудного ожидания, которое держало его в напряжении день и ночь. Теперь он уже не сомневался в возвращении близких. Крик младенца уверенно, хоть и несвязно, возвещал: они вернутся.
Полина еще сильнее, чем Золотая Ночь-Волчья Пасть, уповала на то, что ее сын – залог возвращения близких, которых они так упорно ждали. Ведь он был плодом ее любви, зачатым в волшебный день дождя и обнаженной кожи.
Как ясно помнился ей этот день, когда они с Батистом отправились за город на велосипедах. Выбравшись на проселочную дорогу, они покатили вперед, прямо к серому мерцающему пятну, заволокшему горизонт, спеша так, словно опаздывали к нему на свидание. Но они не успели: пятно внезапно расползлось по всему небу, которое, словно огромный серый брезент, затрепетало под порывами ветра. Испуганные птицы с криками заметались вокруг них. «Сейчас хлынет. Нужно возвращаться», – сказал Батист, приостанавливаясь. И как раз в этот момент упала первая капля. Крупная, холодная, она звонко шлепнулась ему на лоб и скатилась к губам, оставив на них вкус коры и камня. Этот вкус мгновенно пронизал все его тело, возбудив в нем острое, сладкое желание. «Нет, давай останемся! – глухо и решительно ответила Полина. – Дождь будет такой сильный, такой прекрасный! А потом, все равно уже слишком поздно». И, схватив Батиста за руку, она увлекла его к ближайшему пригорку. Ливень наконец разразился в полную силу, молотя их по плечам и лицам. Они бросили велосипеды на обочине, взбежали на пригорок, но тут же поскользнулись и съехали вниз, в ложбинку с быстро намокавшей травой. Полина чувствовала, как нетерпеливо жаждет ее кожа этого ливня, и холодного и обжигавшего, жаждет объятий и поцелуев, и она сбросила с себя всю одежду, чтобы подставить обнаженное тело струям воды и безраздельно отдаться ласкам Батиста. Одно из колес брошенного велосипеда еще долго вращалось в пустоте, и Полина до головокружения смотрела из-за плеча Батиста на это сверкающее под дождем металлическое солнце.
В тот самый день – день обнаженной кожи – на дне ложбины со скользкой травой и влажным мхом она и зачала своего сына. Он был живым напоминанием о волшебном миге ее безумной любви и страсти, размытом вокруг них нескончаемым ливнем, под звуки глухих барабанов грома в сумрачном шатре небес.
Именно так Полина и прозвала своего сына – Барабанчик. И этот кроха-барабанчик стал для нее не только посланником надежды и хранителем ее любви, но и предвестником близящейся победы и счастья. Ведь он впервые произнес главное волшебное слово детства – «мама» – именно в тот день, когда мир узнал о капитуляции врага в снегах и стуже Восточного фронта; он сделал первые свои шаги в день, когда неприятель понес второе поражение на другом конце земного шара и был изгнан из Африки. Еще немного, и ребенок заговорит, и будет петь и бегать – так пусть это случится, когда оккупантов выставят наконец с ее родной земли. И Батист вернется к ней.
Шли дни, мальчик подрастал, а вместе с ним росла их надежда; однако в то же самое время враг, почуявший упадок своей славы, которую считал непреложной и вечной, пытался укрепить ее с помощью беспощадных облав, грабежей и казней. Многие деревни и даже города бесследно исчезали с лица земли, загубленные пожарами, покинутые своими обитателями. Но войне мало было ползти по земле, теперь она обрела крылья и взвилась в небо. Самолеты, бороздившие ночные небеса, казались стремительными тучами, сеявшими стальные и огненные дожди, а иногда и диковинных белых птиц, опускавшихся на ветви деревьев. Одна из таких птиц упала однажды на крышу Верхней Фермы, повредив себе при этом ногу. Золотая Ночь-Волчья Пасть укрыл раненого у себя в доме. Этот человек говорил на непонятном языке, но все же сумел объяснить, что ему нужно. И, как только он оправился. Золотая Ночь-Волчья Пасть проводил его до Леса Мертвого Эха: теперь в чащах скрывались не только дикие звери и живучее воспоминание о свирепых волках, но и люди, решившие бороться с ходом истории. Тщетно враг пытался выловить и уничтожить их, ему это не удавалось. Поезда в округе то и дело сходили с рельсов, мосты рушились, немецкие составы с солдатами взрывались. Ведь на широте войны ход бытия нередко делает самые странные зигзаги, и жизнь строится путем разрушения.
Одна только земля оставалась самой собой, неуязвимым тысячевековым телом, наделенным волшебной силой возрождения и готовым, несмотря ни на что, продолжать свой извечный цикл. Золотая Ночь-Волчья Пасть наконец понял ее суть, почти достигнув рубежей своего недвижного изгнания. Озарение это пришло к нему внезапно, как удар грома, в тот день, когда он возвращался домой через поля, с вязанкой хвороста на плечах. Он застыл на месте, настолько потрясенный, что у него перехватило дыхание; дикая мысль о том, что Бог все-таки существует, пронзила его сердце. Но это был не тот Бог, что восседает, точно гигантская птица, где-то там, высоко в небесах, над временем и светилами, раз в год являя себя людям. И не тот, в чье милосердие верила Полина, каждый вечер молившаяся ему у кроватки сына. Это было другое, безликое и безымянное божество, растворенное в земле и скалах, в корнях и грязи. Божество-Земля, обитающее в лесах и на горах, в водах рек и морских приливах, в дожде и ветре. А люди – всего лишь марионетки в руках этого неведомого, но вездесущего Божества, погруженного в космический сон. И разве сам он, Виктор-Фландрен Пеньель, не являет собой одного из тех, кто, волею Его, медленно погружается в бездны ночи, описав перед тем несколько незавершенных кругов бытия и рассеяв по пути несколько блесток величественной и вечной грезы, бесконечно более длинной, чем его собственная жизнь?!
Да, он был всего лишь марионеткой среди сонма других. И война – та война, что повторялась так же регулярно, как урожаи, солнцестояния и женские месячные, – тоже, наверное, была, как и он, проявлением божественного начала – быть может, одним из жестов Божества Земли, неловко повернувшегося в своем сонном забытьи. А мертвые – они были еще ближе к Нему, чем живые; ближе любви, лесов, рек, даже войны, ибо цикл их бытия, пусть и оборванного до времени, стал завершенным жестом Бога-Земли, жестом, указующим в ее недра, где они растворились в несказанной сладости Его величественной дремы.
Уронив наземь свою вязанку, Виктор-Фландрен стоял посреди поля, захваченный фантастическим смешанным ощущением легкости и тяжести, ликования и грусти. Он долго смотрел вокруг себя, полной грудью вдыхая холодный воздух, точно стремился измерить и попробовать на вкус окружающее пространство. То самое пространство, которое он когда-нибудь покинет, оставив после себя разве что легкое дуновение ветерка в ветвях бука. И ему вдруг почудилось, будто все его существо устремилось вниз, в ноги. Ибо, в конечном счете, разве не сводилось его присутствие в этом мире к крошечному пространству ступней, попиравших землю? И он принялся топать ногами, словно этими глухими тяжелыми звуками хотел воззвать к своим мертвецам, лежавшим во прахе, и хоть на миг вырвать Бога-Землю из его непробудного сна. А потом он зашагал дальше, высоко неся свою надежду и радостно ощущая полнокровную тяжесть своего сильного мужского тела, живого и все еще бесконечно жаждущего жизни. Теперь он чувствовал себя не изгнанником рек, земли и любви, как это было совсем недавно, на широте войны, но просто тем, кто дошел до самого края неведомой, безумной ночной грезы, которая миг назад привиделась ему и от которой он хотел во что бы то ни стало пробудить всемогущего Бога.
5
Неизвестно, что же именно – топанье Золотой Ночи-Волчьей Пасти или детское обаяние Барабанчика, шумно скачущего по ферме, – возымело действие, пробудив от долгого богатырского сна Бога-Землю, который столько лет подряд называл мир войной, обрекая полчища людей на смерть. Но факт остается фактом: те, кто выжил, решились все-таки поднять головы и безбоязненно взглянуть в сияющие летние небеса, ибо ощутили в себе новую дерзкую силу благодаря словам, радостно повторяемым во всех уголках их страны: «Они высадились!», «Париж освобожден!», «Они уже подходят…»
Время врага истекало; оккупанты спешно откатывались назад, к своей границе, вспомнив наконец ее точное нахождение. Но даже и в этом паническом бегстве они еще успевали делать остановки то тут, то там, в разоренных деревнях, стараясь изничтожить все, что еще уцелело, и камни, и людей.
Так оно случилось и в Черноземье. Немецкий транспорт, спасавшийся от победителей, внезапно нагрянул в деревню. Ровная колонна грузовиков остановилась в центре селения; солдаты, спрыгнув с машин, выстроились повзводно, а затем, с дотошной немецкой аккуратностью и тончайшим пониманием театрального искусства, сымпровизировали оркестровую оперу в трех действиях.
Опера крови и праха. Действие первое: каждый дом был тщательно обыскан сверху донизу, а все обитатели деревни выведены на улицу и расставлены вокруг колодца. Закончив с этими попавшимися под руку статистами, немцы приступили ко второму действию. Каковое воплотилось в багровом гудящем пламени от гранат, щедро разбросанных по всем домам. Теперь, в этих роскошных, прекрасно задуманных и выполненных декорациях, под яростный рев пожара, можно было вывести на авансцену и главных героев драмы.
Мужчин – а здесь остались только самые молодые и самые старые, – загнали в мыльню. Там им приказали встать на колени в маленькие деревянные, набитые соломой лотки вокруг водоема и мерно, ритмично бить вальками то по воде, то по бортику. Третье действие приближалось к кульминационному моменту. За стенами мыльни по-прежнему бушевало багряное пламя; обезумевшие женщины, сбитые в плотную бесформенную толпу возле колодца, с ужасом вслушивались в мерный, то звонкий, то глухой, стук вальков. И только одна небольшая группа женщин держалась наособицу. Закутанные в черные шали, они стояли молча, деревянно выпрямившись и стиснув руки на груди. Этим женщинам давно уже некого было оплакивать; их вдовьи слезы иссякли много лет назад, тела иссохли от долгого одиночества, а сердца раз навсегда застыли в непреходящей скорби. Они бесстрастно глядели, как проклятие их вдовьего дома настигает целое селение.
Внезапно музыка сменила ритм: треск автоматов ворвался в мерное постукивание деревянных вальков, почти тотчас заглушив его. И всплескам воды, принявшей мужские тела, сразу же ответил пронзительный, звериный вопль женщин у колодца.
По завершении третьего действия немцы, соблюдая все тот же безупречный порядок и тишину, сели в грузовики и отбыли восвояси.
Они не стали заниматься Верхней Фермой – время поджимало, – а эту короткую оперу решили поставить напоследок просто для того, чтобы продемонстрировать, пусть даже из-под раздавившего их колеса истории, свое непобедимое презрение к новым триумфаторам.
Так что, когда освободители прибыли в деревню, освобождать было уже нечего. В центре сожженного дотла селения они только и обнаружили, что ополоумевших от горя женщин, которые прямо в одежде возились в кровавой воде мыльни, пытаясь вытащить из нее длинные узлы белья, непонятно почему отягощенные мужскими телами. Среди освободителей находился и Никез. Он так и не попал в трудовой лагерь, куда его собирались отправить после обыска на Верхней Ферме. По дороге он сбежал, выпрыгнув наугад, в темноту, вместе с несколькими своими товарищами, из вагона для скота, в котором везли пленных. Он тотчас кинулся бежать, не разбирая дороги и не останавливаясь, слыша за спиной длинный свисток, лязг остановленного поезда и злобный треск выстрелов. Он бежал стремительно, во весь дух, бешеными прыжками, инстинктивно угадывая верный путь, подобно дикому зверю, преследуемому охотниками; бежал так, будто путешествие в вагоне для животных и впрямь наделило его животной силой и увертливостью. Он оказался сильным и хитрым, как одичавший пес, и собаки, обученные охоте на беглецов, не смогли вернуть его тем, кто отправлял людей в лагеря. Когда одна из них настигла Никеза и вцепилась ему в ногу, чтобы задержать и выдать своим хозяевам, он извернулся, схватил ее за горло и задушил. Так он и бежал всю ночь без оглядки. И с той поры ему стало казаться, что он непрерывно, безостановочно бежит куда-то, словно тысячи других злобных, несущих смерть псов гонятся за ним по пятам, не отставая ни на шаг. И даже когда ему удалось наконец достигнуть морского побережья и сесть на корабль вместе с другими, встреченными во мраке скитаний беглецами, ему почудилось, будто он все еще продолжает бежать, теперь уже по воде. И когда он вернулся на родину, спустившись среди ночи на парашюте в лесные дебри, ему тоже померещилось, что он прибежал сюда по небу. Война превратила его в вечного бегуна, обреченного никогда не оборачиваться, никогда и нигде не задерживаться. И, надо сказать, что именно благодаря этой удивительной, почти безумной одержимости бегом он и спасся от всех ловушек, расставленных врагом.
Но вот пришло время, когда направление бега изменилось на сто восемьдесят градусов: теперь он бежал не от врага, а следом за ним. Из дичи он превратился в охотника, в загонщика. В этом-то качестве он и ворвался в Черноземье, свою родную деревню. Однако он вынужден был признать, что покамест не научился бегать достаточно быстро, – на сей раз противник оказался вдвое проворней его. С первого же взгляда он понял, что опоздал, и притом безнадежно. Из семнадцати домов Черноземья сохранился в целости лишь один – большая ферма, стоявшая на отшибе, высоко на склоне холма, под спасительной сенью густого леса. От всех же прочих остались только чадящие развалины. Да, в этот раз Никез проиграл гонки; ему не суждено было войти в отчий дом ликующим бегуном-освободителем. И этот человек, сотни раз легко ускользавший от смерти, вдруг почувствовал себя до ужаса тяжелым, мучительно тяжелым и неповоротливым. Смехотворно тяжелым.
Он стоял у колодца, как вкопанный, не в силах сделать хоть один шаг к мыльне, откуда неслись дикие крики, рыдания и плеск взбаламученной воды. Тело не слушалось его, не могло делать две вещи разом – видеть и шагать; это у него никак не получалось. Он только смотрел, а двинуться с места не мог. Несколько солдат, зашедших в мыльню, тотчас выскочили обратно, и их начало рвать.
Но вот вышли и женщины. Никез знал их всех – и не узнавал ни одну. Их лица были искажены одинаковым безумием, платья мокры и пропитаны кровью, словно они все разом встали после каких-то кошмарных коллективных родов. Среди них он увидел свою мать или, вернее, жуткое, уродливое подобие своей матери – грузную старуху с седыми космами, которая шла, качаясь из стороны в сторону, хрипя и как-то нелепо, судорожно взмахивая руками. Никеза охватило невыносимое отвращение; он пошатнулся, и ему пришлось, чтобы не упасть, привалиться к колодцу. Что же такое она произвела на свет в мыльне – эта обезумевшая, страшная, как в античной трагедии, мать?!
Она прошла мимо него, даже не заметив. Значит, видеть и шагать одновременно стало теперь непосильно для всех, не только для него? Она шла, и потому ничего не могла видеть. Он хотел позвать ее, но слова застряли у него в горле, и наружу вырвался лишь крик. Странный, слабый, младенчески-мяукаюший крик, который напугал его самого. Этот крик упал в глубину колодца, и черная пустота вернула наружу его неузнаваемое, мрачное, гулкое эхо.
Мать не услышала крик, зато эхо достигло ее слуха. Она остановилась, обернулась и наконец узнала в молодом парне, скрючившемся над колодцем, своего сына. Бросившись к нему, она стала трясти его за плечи, потом силой приподняла голову и закричала в лицо: «Никез! Никез!» – «Никез!.. Никез!..» – скорбно, приглушенно повторял за ней колодец.
Он открыл глаза и взглянул. На этот раз он признал ее. Да, это была она, его мать, с ее добрым взглядом и любящей улыбкой. Это было ее прежнее, ее истинное лицо. И он прижался к ней, спрятал голову на материнской груди. От ее мокрого платья исходил тошнотворный сладковатый запах крови, смешавшейся крови его отца и младшего брата. Но он оттолкнул его от себя, жадно впитывая только одно – давно забытое мягкое тепло материнской груди.
Итак, Верхняя Ферма избежала несчастья. И Золотая Ночь-Волчья Пасть открыл двери своего дома для тех, кто лишился крова и кому негде было приклонить голову. В пустовавших амбарах и стойлах, свободных от инструментов и скота, он обустроил места для ночлега женщинам и детям. Теперь он да Никез были единственными мужчинами в поселке. А от его пятерых старших сыновей, так же, как от Рут с малышами, по-прежнему не приходили вести. И Золотая Ночь-Волчья Пасть – патриарх в толпе помешавшихся от горя женщин – чувствовал себя куда более обездоленным, чем все эти вдовы и сироты. Сколько же можно ждать, сколько можно надеяться на возвращение близких! – сердце его не выдерживало такого неистового напряжения, а любовь оборачивалась гневным протестом.
Прошло еще два-три месяца, и возвращение началось – правда, едва начавшись, оно тут же и прекратилось. Первым вернувшимся был Батист. Он не отважился ни спрыгнуть с поезда, как Никез, ни сбежать из лагеря, куда его засадили немцы. Тадэ – тот удрал в первые же дни заключения, и никто не знал, что с ним сталось.
Ну, а Батист стойко выдержал долгие месяцы плена, исполняя подневольную работу с примерной покорностью. Зачем, а главное, куда было ему бежать? Для него во всем мире существовала только одна-единственная обитель – Полина.
Полина, его кров, его земля, его вселенная. Вне ее не было ничего, ни пространства, ни даже времени. Бежать из лагеря, чтобы встретиться с ней, не имело никакого смысла – просто потому, что она жила в оккупированной зоне, где царил враг; его тотчас схватили бы и вновь разлучили с нею. Нет, Батист предпочел смириться с тяготами плена, замкнувшись в себе и не усугубляя мучительную боль разлуки бегством и скитаниями, ибо тогда он наверняка пропал бы, разыскивая ее повсюду, за каждым деревом в лесу, на углу каждой улицы. Кроме того, он рисковал быть убитым, а этого он позволить себе не мог – ведь тогда он потерял бы Полину навеки. И, раз уж ему было невозможно ни жить, ни умереть вдали от нее, он зажал себя в кулак и принудил позабыть обо всем на свете – о времени, которое тянулось и тянулось, о голоде и холоде, об усталости и болезнях. Это все происходило где-то там, на окраинах его существа, не достигая сознания, не затрагивая неистовой одержимости Полиной. В конце концов, товарищи так и прозвали его – «Моя Полина», ибо он был способен говорить только и исключительно о ней, даже во сне. Хотя во сне он больше кричал, чем говорил, и кричал ее имя. Он выкрикивал его с болью и страстью, в каждом своем сне видя одно и то же – обнаженное тело Полины, безраздельно отдающееся ливню, любви, наслаждению. И это атласное, струящееся, нагое тело, до которого никак было не дотянуться, денно и нощно мучило его сердце и плоть, исторгая из груди отчаянный крик.
Но вот наконец он вернулся – без славы, без заслуг, кроме разве одной – непоколебимой верности своей любви, – без боевого прозвища, с одной только смешной кличкой «Моя Полина». Он возвращался, как тень после долгой разлуки со своим телом, и в миг встречи с этим телом, вернувшим ему плоть и жизнь, судорожно затрясся от счастья.
Однако он нашел не одно тело, а целых два. Полина бросилась к нему с малышом на руках. «Вот видишь, – сказала она, протянув ему ребенка, – я ждала тебя вдвойне! Я знала, что ты вернешься. Благодаря ему я ни разу не усомнилась, ни разу не потеряла надежды. Он так похож на тебя, наш сын! Я смотрела, как он растет, и сквозь него видела, как ты возвращаешься ко мне».
Тадэ вернулся только спустя долгое время. О своей задержке он сообщил открыткой с несколькими простыми словами: «Я жив. Хотя мне придется заново учиться жить. Я вернусь. Но не знаю, когда, так как по дороге к вам должен сделать большой крюк. И потом, мне еще нужно выздороветь. Обнимаю вас. Хотелось бы знать, скольких из вас я смогу обнять по возвращении».








