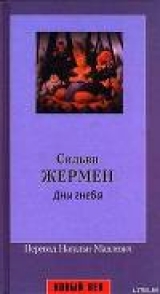
Текст книги "Дни гнева"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Была середина ноября. Подморозило. Стояла тишина, ни одной птичьей трели, только похрустывала мерзлая земля под ногами. Ледяной воздух словно трепетал. Проходя мимо Среднего двора, Амбруаз увидел в окне дряхлого Альфонса. Петух тряс свисавшим на глаза рыхлым гребнем и тщетно силился кукарекнуть. Сам Гюге Кордебюгль был в лесу, как все остальные мужчины с хутора. Амбруаз шел широким шагом. Его бодрил мороз, он чувствовал в себе спокойную, холодную, как это прозрачное ноябрьское утро, решимость. Миновав дом Фолленов, откуда несся детский крик, и Крайний двор, где укутанный в толстую шерстяную юбку Луизон-Перезвон мел крыльцо, он вошел в Жалльский лес.
Все здесь принадлежало ему: его хутор, его лес. Его деревья, земля, люди. Он здесь хозяин. Хозяин этого погожего студеного утра и всех его звуков: хруста ветвей, гулкого эха шагов. Он владел всем и всеми. Слезы, которые он пролил у ног Камиллы, первые и последние в его жизни, и, поя:, которым обливался все десять дней, пока его трепала лихорадка, омыли ему память и сердце. И теперь его память была, как никогда, ясной, чистой, озаренной лучами зеленых глаз Катрин-Камиллы. Память его была наполнена гулом лавины круглых серебристо-серых стволов и звоном, льющимся из поднебесья, словно само солнце стало колоколом. И в этом колоколе билась вписанная в клеймо буква «К»… Катрин… Камилла… Звенящий колокол в самом сердце утра. И его собственное сердце было слито с этим солнечным звоном. Остро отточенными лучами сияли и звенели «К» – Камилла, Катрин-Камилла, две женщины в одной, неразличимые, единые. Живинка, волшебная змейка, его любовь и ярость, Катрин-Камилла, всплеск листьев, света, ветра. Живинка, змейка, зеленоглазая резвая девочка… шлюха, пропахшая ночной сыростью и мужским потом.
Амбруаз разыщет виновника. Он, конечно же, здешний, один из его работников, если не из Лэ-о-Шен, то с какого-нибудь из соседних хуторов. Мерзавец, вор, подло посягнувший на его Живинку. Ну да ничего: Амбруаз его выследит и отнимет у него власть над Камиллой, которую тот бесстыдно присвоил. Выметет его из сердца и души Камиллы. Прогонит негодяя прочь – здесь он один хозяин, он, Амбруаз Мопертюи. А тот пусть убирается, чтоб и духу его не было.
Амбруаз Мопертюи шел по лесу, среди искрящихся инеем стволов. И в сердце его кристаллами льда застыло спокойствие и терпение. Терпение, полное желчи и злобы.
ЗАТОЧЕНИЕ
В то время как Амбруаз Мопертюи, укрепив сердце панцирем ледяного терпения, подходил к опушке Жалльского леса, Камилла спала у себя в комнате. Спала блаженным, без видений, сном. Ей вообще больше ничего не снилось. Чтобы видеть сон, ей не надо было засыпать. Сон был явью, у него было имя и тело, у него был запах, Симон был ее сном и ее явью. Сном наяву и явью во сне. Все остальное в мире казалось серым и скучным. Жизнь без него была лишена движения, она ползла, тащилась еле-еле. Возвращаясь из амбара, Камилла еще хранила вкус губ Симона, тепло его объятий, его запах, еще слышала его дыхание и стон, еще чувствовала в себе его семя. Она старалась поскорее запереться у себя, юркнуть под одеяло, свернуться комочком и провалиться в сон. Все неистовство любви: волны желания, властное влечение плоти, вся безудержность, с которой каждый из любовников, осыпая другого ласками, прижимая к себе, увлекал его в бездну жадной нежности, – во сне унималось, плавно растекалось по телу, проникало в глубины плоти, достигало сердца. Во сне разлученные тела Камиллы и Симона, в силу некой таинственной алхимии, передавали друг другу ощущения, дыхание, взгляды. Каждый становился копией другого, воспроизведением его тела и души. Его желания. И оба пробуждались, дыша еще больше, чем прежде, страстью и счастьем.
Когда Камилла увидела деда, то удивилась его подчеркнутому спокойствию. Он не только не заговаривал о том, что случилось между ними, но избегал всякого намека на продержавшую его десять дней в постели болезнь. Вел себя с внучкой как ни в чем не бывало, разве что казался слегка растерянным – можно было подумать, что он решил закрыть на все глаза и позволял Камилле украдкой бегать на любовные свидания, которым он не придавал особого значения. Удивление и недоверие Камиллы быстро прошли, и она, отбросив все страхи, беспечно и беззаботно включилась в игру, в которую вовлекал ее дед. Игра эта казалась двусмысленной, ибо, как только Камилла, обманутая внешним спокойствием деда, вернула ему прежнюю приязнь, старый Мопертюи и сам чуть не поддался на ласку. В конце концов, думалось ему порой, может, ничего и не произошло и все еще будет хорошо. Однако это не усыпляло тлеющую в глубине его души постоянную настороженность. Чуть что – и ревность его вспыхнет с новой силой.
И случай не замедлил представиться. Подозрения его ожили, и он перешел от выжидания к действиям. Это произошло в первые дни декабря, в Жалльском лесу, в разгар рубки. Умаявшись, лесорубы сидели вокруг костра и молча обедали. Присутствие старика Мопертюи не давало им разговориться. Угрюмую тишину нарушил приход трех женщин: Роз Гравель с дочкой Луизой и Мари Фоллен – да увязавшегося с ними Луизона-Перезвона. В корзинках они принесли свежеиспеченные, завернутые в тряпицы лепешки со шпигом. Хлопоты женщин и Луизона, аппетитный дух горячих лепешек подняли настроение мужчин, они оживились. Посыпались шутки. Больше всех смеялся Глазастый Адриен, заражая хохотом остальных. Только двое не разделяли общего веселья: Амбруаз Мопертюи, по-прежнему подозрительно насупленный, да Гюге Кордебюгль. Этот с появлением женщин отсел подальше и сердито нахохлился. Мужчины по обыкновению принялись поддевать его. «Эй, Гюге, где же твоя женушка? Или ты ждешь, пока тебе принесет лепешек петух? Да ведь у твоего Альфонса, как у тебя самого, нет пары, кому же у печки стоять?» – «Потому-то вы оба такие мрачные да грязные, – прибавляли женщины. – Да ладно уж, Гюге, иди к нам! Отведай лепешек, мы не скажем Альфонсу, что ты лакомился без него, да еще и в компании с женщинами!» – «А может, девственники не любят лепешки со шпигом, ведь им все приятное не по вкусу!» – «Наш Гюге любит только бабье исподнее, а самих баб не выносит, ни голых, ни одетых, ни вблизи, ни издали. Правда, Гюге?» – «А верно, что ты из женских тряпок шьешь подштанники для своего Альфонса?» – «А может, ты прячешь бабенку в своих хоромах? Скажи-ка, где: в хлебном коробе или в ящике с золой, обсыпанную пылью или завернутую в паутину?» – «Должно быть, она у тебя разодета, как королева, твоя женушка-паучиха, экую кучу белья ты ей по садам натаскал!» – «Смотри, как бы твоя паучья королева зимой себе зад не застудила: зимой много одежки не насобираешь!..» Мужчины вечно отпускали соленые шуточки по поводу сомнительного и упрямого целомудрия Гюге, вот и на этот раз потешались от всей души. Наконец Амбруаз Мопертюи, до тех пор безучастно слушавший, сурово выговорил: «Предупреждаю тебя, Кордебюгль. Если хоть раз застану тебя в моем саду за воровством, воткну тебе вилы в зад да еще собаку спущу!» Амбруаза рассказы о набегах Гюге не только не забавляли, но приводили в ярость: его бесила сама мысль о том, что этот старый неряха может прикоснуться к белью Камиллы.
Гюге Кордебюгль терпел град насмешек, не говоря ни слова, но угроза Мопертюи заставила его взорваться. «Уж лучше бы, хозяин, вы приберегли свои вилы да своего пса для кое-кого другого, для молодца, что щеголяет голым задом по ночам на вашем лугу! Гуляет себе нагишом под луной, да не один! Ей-ей, хозяин, кое-кто у вас за спиной недурные штучки выделывает!» Гюге выпалил все это единым духом, скорчившись над своей миской с супом. Смех и шутки как отрезало. Довольный собой, Гюге шумно опорожнил котелок. Амбруаз Мопертюи, мертвенно-бледный, поднялся на ноги. «Что ты тут врешь? Да я твои грязные россказни запихну тебе обратно в глотку, тварь» – рявкнул он. Но Гюге взвился еще пуще: «И вовсе не вру! Чистую правду говорю, я сам все видел! Видел их обоих, твою драгоценную внучку да ее милого, как они в обнимку по траве катались, голые, что твои червяки!» – «Заткнись, пока цел!» – крикнул Фернан-Силач. Амбруаз Мопертюи, не раздумывая, бросился на него, но Фернан легко отшвырнул его. А Гюге, нимало не смутившись, проворчал сквозь зубы: «Да это не он, это Си…» Договорить он не успел. Скаред-Мартен выплеснул свою миску ему прямо в лицо. Взбешенный Гюге вскочил и заорал: «Ах так! Ах, вот так, и все из-за бабы! Все они шлюхи и гадины, все как одна! И Камилла не лучше других! Недаром в ней течет кровь ее распутной бабки, городской потаскухи!» Он плюнул, подобрал котелок и торбу и зашагал прочь, собираясь снова приняться за работу. Остальные тоже разбрелись, а женщины подхватили пустые корзинки и собрались домой. У костра остался один Амбруаз Мопертюи, словно пригвожденный к месту и потерявший дар речи от разоблачений Гюге, его брани и оскорблений, которые он при всех обрушил на Катрин и на Камиллу. Затаенная ревность, хитрое терпение, с которыми Амбруаз, таясь от всех, подстерегал Камиллу, вдруг рассыпались в прах, он стал всеобщим посмешищем. Выходит, все то, во что он, несмотря на свои сомнения, старался не верить, что желал раскрыть и с чем желал разделаться один, не посвящая никого в сокровенные глубины своей души, было тайной лишь для него. Остальные давно все знали. И были сообщниками. Он предан, обманут, унижен всеми и открыто. Как же они должны его ненавидеть, чтобы оскорбить так страшно! Оскорбили не только его, но и единственное в мире, двуликое существо, которое было его светом и любовью, гордостью и радостью на этом свете.
Значит, Симон. Хоть Кордебюглю и не дали договорить, он понял. И удивился, как не догадался раньше, кому же было похитить красоту Камиллы, как не молодчику, живущему с ней чуть ли не под одной крышей. Тому, кто был так похож на нее. Симон, пятый сын Эфраима, погонщик, Бешеный Симон, что трубил во всю мочь в тот злосчастный августовский день. Сияние медной трубы, отражающей яркое солнце, блистательная дерзость трубача – тогда он и околдовал Камиллу, словно злой дух, морочащий путника в лесной чаще. Разбойник, вор, колдун, заворожил Камиллу, чтоб увести ее. Увести от него, Амбруаза, которому принадлежало неоспоримое право любить ее и быть любимым ею, который почитал себя ее судьбою. Да-да, Симон повинен не только в колдовстве, но и в преступлении против самой судьбы. Против него, Амбруаза Мопертюи.
Застыв на месте, Амбруаз уставился невидящим взором на догорающее пламя костра. Образы Катрин и Камиллы, всегда сливавшиеся в его сознании, теперь обрели совершенную ясность единого существа. И это видение все разрасталось в его горячечном воображении, пока он глядел на остывающие угли. Все догорало в нем самом: мысли, память и чувства. Остались угли, пепел, скрытый жар, который выжигал все смутное, что до сих пор затуманивало этот образ. Он рождался в пепле, выковывался в раскаленных углях. Амбруаз уже забыл об оскорблении, которое претерпел при всем честном народе, в нем замолчала гордость и чувство единовластного хозяина, что так бурлило в первый день выздоровления. Он не помнил ни обиды, ни обмана, ни угроз Утренних братьев, готовых защищать Симона. Он никого не боялся. Не помнил даже о предательстве Камиллы. Нет, он не простил, он просто все забыл. Забыл ее, какой она была прежде, ее образ расплылся, погас. Он сознавал одно: надо вырвать Живинку из черных чар, которыми ее околдовали. Камиллы словно бы и не было больше, он думал только о той, что жила в обличье Камиллы, но значила больше, чем она. Лишь это существо надо было спасти, он один мог видеть эту красоту, ему одному она принадлежала. Он снимет с нее путы, чтобы она летела, неудержимая в своем порыве, чтоб снова воспарила и преобразилась. Живинку надо освободить от падшей Камиллы, спасти от грязи, которой запятнали ее Камилла с Симоном, а для этого разъять их тела. Он должен уберечь образ и душу Живинки от всех, и даже от самой Камиллы. От нее-то особенно.
Амбруаз вернулся на хутор. Войдя во двор, он увидел Камиллу, поджидавшую его около магнолии. Женщины, едва вернувшись из леса, конечно же, все рассказали ей и посоветовали остерегаться гнева старого Мопертюи. Но Камилла решительно ответила: «Ну и отлично. Теперь он знает все, оно и к лучшему. Дождусь его и поговорю». Она и сама не знала, что скажет деду, но чувствовала, что разговор необходим, чтобы покончить со страхом, подозрениями и ложью.
Завидев деда, она пошла ему навстречу, сжимая концы наброшенного на голову и на плечи шерстяного платка. «Мне надо с тобой поговорить!» – воскликнула она. «Чего ради? – возразил Амбруаз чуть ли не равнодушно. – Что ты можешь мне сказать? Я и так уже все знаю. Зайди в дом, не стой раздетой в такой холод, простудишься». Они оба вошли в дом. «Сходи в мою комнату и принеси со стола трубку с кисетом. Я совсем окоченел с мороза», – попросил Амбруаз. Камилла все больше удивлялась: мало того что дед вовсе не был рассержен, он еще посылал ее за трубкой, к которой почти не прикасался. «В твою комнату? – нерешительно спросила она. – Но ты же не любишь, когда я или Фина туда заходим». – «Ну и что? Вы что, не заходили туда, когда я был болен? Мне нечего прятать. Я просто хочу курить, но у меня окоченели руки и ноги, ты найдешь и принесешь трубку быстрее, чем я. Поди же скорее». Камилла послушалась.
Пока она искала в комнате деда трубку и кисет, которых там не было и в помине, он неслышно поднялся по лестнице, подкрался к дверям своей спальни. Ступал в носках, на цыпочках и затаив дыхание. Прежде чем Камилла успела что-нибудь понять, он захлопнул дверь и запер ее на ключ. Камилла растерянно шагнула к двери, не веря тому, что произошло. Но, дернув дверь и убедившись, что она крепко заперта, заколотила в нее кулаками и завопила: «Открой!» – «Э нет, девонька, не так скоро, – ответил Амбруаз. – Придет время, открою, но не теперь. У меня дела, а ты, стоит мне отвернуться, невесть что творишь, так что посиди-ка взаперти». И, не обращая внимания на крики Камиллы, он пошел вниз по лестнице.
Внизу он натолкнулся на Фину, прибежавшую на шум. Старик грубо оттолкнул ее. «Все, Фина, хватит: кончились ваши плутни, вранье да пакости. И служба твоя здесь кончилась. Ты мне больше не нужна, на что ты годишься, раз не уследила за Камиллой, как тебе было велено, пустила ее шляться где попало. Теперь я сам возьмусь за нее, научу мерзавку уму-разуму! А ты собирай свой хлам да проваливай. Хочешь, к сыну, хочешь, к дочке, дело твое, только чтоб я тебя больше не видел. Не желаю никого видеть». Как Фина ни плакала, как ни умоляла, как ни оправдывалась, Амбруаз остался непреклонен. Заставил ее тут же, не медля, сложить вещи, вытурил из закутка на кухне, где она ютилась, и с позором вытолкал со двора. «Пошла прочь и не вздумай возвращаться! – кричал он. – Никогда! Пусть только кто-нибудь попробует ко мне сунуться или вообще показаться поблизости!» Он вернулся в дом, поднялся на чердак и, освободив один угол, положил там соломенный матрас, бросил на него простыню с одеялом, поставил таз, кувшин с водой, ведро. Потом укрепил дверь, проделал в ней глазок, заткнул паклей щели в потолке, притащил старую ножную грелку и керосиновую лампу. Новое жилище для Камиллы было готово. Амбруаз спустился вниз.
Камилла больше не кричала, не колотила в дверь. Но Амбруаз знал: это вовсе не значило, что она смирилась. Он приоткрыл дверь и тут же заслонил проем своим телом. Камилла набросилась на него, как пойманный в ловушку зверь. Молча, стиснув зубы, обрушила на Амбруаза град ударов. Гнев удесятерил ее силы, но Амбруазу все было нипочем. Его сила была неизмеримо больше, мощнее. Стоя на пороге, он схватил Камиллу за волосы и оттянул назад ее голову. Камилла снова принялась кричать, от боли и бессилия. Так, за волосы, он оттащил ее на чердак. Швырнул внутрь и снова запер. Теперь она упрятана надежно. Задвинув щеколду, он приоткрыл глазок. Камилла стояла около постели, опустив руки и глядя в пол. Смеркалось. Сквозь мутное от пыли чердачное оконце пробивался слабый холодный свет. В изголовье постели дрожал красноватый язычок зажженной лампы, в грелке мерцали раскаленные угли. Только эти огоньки на полу и оживляли серый полумрак чердака. Все здесь было серо и тускло – от пыли, холода, тоски, пустоты, заброшенности и уныния. Два огонька были похожи на два чахлых цветка, что пробились на грязном полу. На две кровоточащие язвы посреди этой темницы под самой крышей. На две открытые раны у ног неподвижно застывшей Камиллы. Лицо ее было мертвенно-бледно, губы посинели от холода, пробиравшего до самого сердца. Она озирала блуждающим взглядом серую пустоту своей тюрьмы. Плечи ее дрожали. Амбруаз, приникнув к глазку, с бьющимся сердцем смотрел на нее. Жадно разглядывал тонкую, хрупкую фигурку, растерянную и горестно поникшую. Вот она, его Живинка, – спасена от Камиллы, избавлена от объятий Симона. Никто, кроме него, не будет больше на нее глядеть.
Внезапно выйдя из оцепенения, Камилла шагнула на середину тесного чердака и громко произнесла: «Если ты меня не выпустишь, я умру». Амбруаз молчал. «Умру, – повторила Камилла сдавленным голосом. – Умру…» – прошептала чуть слышно. Казалось, этот шепот исходил не из ее губ, а из дрожащих огненных цветков, красного и желтого. Доносился откуда-то издалека. И тогда Амбруаз вскричал безумным, молящим и ненавидящим голосом: «Умрешь! Да ты и так давно мертва, уж тридцать лет! И больше ты не можешь умереть. Наоборот, вернешься к жизни, воскреснешь. Уже воскресла. И будешь снова жить! Ты наконец вернулась! Я столько ждал тебя! Вернулась та, что умерла, такой же прекрасной, как в день своей смерти. Что ж, умирай, если хочешь! Умирай опять и опять – ты мертвая так хороша!» Он закрыл глазок и пошел по лестнице, продолжая разговаривать сам с собой. Камилла наконец прозрела, осознала все. Только теперь она поняла, что не гнев и не месть, а безумие руководило поступками деда. Он попросту сошел с ума. Безумие, о котором она никогда не подозревала, давно укоренилось и завладело им. Вся сила, глубина и безнадежность этого безумия открылись ей разом. Она задрожала, но дрожь тотчас оборвалась, словно пресеклось дыхание и застыла кровь. Безумие старика поразило ее собственную душу, ослепило молнией, сразило неожиданным ударом. Ворвалось в ее рассудок. Она снова огляделась: не на старом чердаке была она заточена, а в трясине этого внезапно проявившегося безумия. Серая пропыленная каморка, почерневшие балки, мутное оконце, наваленные повсюду груды хлама, завывающий под крышей ветер, отсыревшие стены, скрипучие доски пола и эта наглухо закрытая дверь с глазком – все это был лишь остов, каркас души безумного старика. Она почувствовала, что заточена внутри его черепа, как вросший в мозг осколок пули, как застарелая опухоль.
КЛИЧ «РУ-ЗЕ»
Безумие не мешало Амбруазу Мопертюи действовать осознанно и успешно. Вернувшись из леса, он успел надежно запереть Камиллу, прогнать Фину, запретить всем доступ в свою цитадель. Оставалось только прогнать Бешеного Симона. Он должен был вот-вот явиться – подходило время кормить волов и чистить стойла.
Амбруаз поджидал Симона во дворе, перед хлевом. В руках у него была мотыга. Он выбрал в сарае самую острую, на самой длинной ручке, и теперь держал ее наперевес. Вот и Симон. Луизон-Перезвон предупредил его о ссоре, разгоревшейся в лесу. Симон шел спокойным, решительным шагом. Как только он приблизился, Мопертюи закричал, размахивая своим оружием: «Не смей входить! Ноги твоей больше не будет на моем дворе! Скотников в округе навалом – завтра же найму другого. А ты убирайся. Не только отсюда, но вообще из Лэ-о-Шен. Убирайся куда подальше. Ищи себе работу где знаешь, только не здесь. И девок порть где хочешь. А не уйдешь нынче к вечеру – позову полицию. Камилла несовершеннолетняя, ты на нее прав не имеешь. Я скажу, что ты взял ее силой. Упеку тебя на каторгу, ясно?» – «Не выйдет, – ответил Симон. – Камилла скажет правду, я ее не принуждал. И если я уйду, то только с нею вместе». – «Ах так? Перечить мне задумал? Да кто ты такой? Нищий, голодранец паршивый. Захочу – и тебя посадят в два счета. За мной сила, а ты никто! И потом, так и знай: не уйдешь до ночи, так я оставлю без работы и твоего мерзавца отца, и твоих паскудных братцев! Вышвырну вон! Всю семейку! И куда вы денетесь, где найдете работу, что будете жрать? Придется выметаться с вашего поганого Крайнего двора. Так что проваливай, да поживее, не то я сделаю, как сказал. Предупреждаю – так и будет!» Симон дрогнул. Полиции он не боялся, но, чтобы его родные, которым и без того приходится туго, обнищали вконец, этого он допустить не мог. Чтобы их прогнали из дома, с хутора и они искали хоть какую-нибудь работу, лишь бы не умереть с голоду, – ни за что! Симон очутился в ловушке, не успев схватиться с врагом. Старик выполнит угрозу, не моргнув глазом, ничто – ни жалость, ни совесть – не могло остановить его, когда в нем разгорались гнев и жажда мести. «Где Камилла?» – спросил он хрипло. «Там, где надо! Дома. Поумнела и сидит смирно. Поняла, что со мной шутки плохи. Со мной не потягаешься! Больше она меня не ослушается и из дома не выйдет. Можешь орать сколько влезет, она все равно не придет. Я ее, мерзавку, приструнил, а то ишь, надуть меня вздумала! Хватит вранья да паскудства! Кончено раз и навсегда! Так что убирайся и больше сюда не суйся. Иначе вся ваша орава – папаша, братцы, толстуха Версле да старая карга – пойдет по миру, выгоню ко всем чертям, останутся без работы и без крова. По миру пойдете, а о моих лесах можете забыть. Понял?»
Симон, обычно взвивавшийся по пустяку, стоял в двух шагах от старика, понурившись и опустив руки. Его трясло, но не от ярости, а от отчаяния. И сила его, и мужество оказались беспомощны. Он был вынужден сдаться перед угрозой Мопертюи, ничего другого не оставалось, и он мучился своей беспомощностью. Глухо, с дрожью в голосе, он спросил: «А Рузе… я хотел последний раз… можно я попрощаюсь… хоть с ним… позволь, я войду в хлев… только взгляну на Рузе». Вол Рузе был его любимым питомцем. У Симона отняли разом все, он был раздавлен, уничтожен, и ему захотелось опереться хоть на кого-нибудь. Захотелось сию же минуту обхватить любимца за шею, уткнуться в теплую шкуру, вдохнув родной, уютный запах, и дать волю обжигавшим щеки слезам. Но Амбруаз только ухмыльнулся, не опуская мотыги. «Да ты никак слюни распустил? Меня не разжалобишь! Когда втихаря гулял с Камиллой, тебе небось было наплевать и на меня, и на Рузе? Нечего, нечего, убирайся отсюда, не видать тебе больше ни Рузе, ни Камиллы. Я сам о них позабочусь. Обойдусь без тебя. Так что слезами можешь не обливаться. Не ровен час, захлебнешься. А меня только смех разбирает на тебя глядеть!»
Слезы обжигали не только щеки, они жгли Симону душу, прожигали плоть до самого сердца. А Амбруаз Мопертюи злобно смеялся, с каждым смешком выдыхая белесое облачко пара, как бы размывавшее его лицо. Симону вдруг показалось, что перед ним не человек, а какой-то злой дух, стоящий совсем рядом, но недосягаемый. Вся лесная нечисть вцепилась ему в душу. Клубы пара обволакивали злобно ухмылявшееся лицо старика и всю его грузную фигуру. Он словно растворялся в вечерней стуже, превращаясь в леденящий ночной ветер, безжалостно треплющий голые кусты, мертвой хваткой сжимающий деревья, камни, дороги, пронизывающий сны несчастных, которые, и уснув, не могут обрести отдыха, а лишь глубже погружаются в трясину безысходного горя, голода, нужды. Холод, терзающий бедняков, бередящий разбитые сердца.
Сердце Симона было воистину разбито. Разбита его любовь, гордость, радость и даже мужество. До тех пор бедность не доставляла ему страданий. Он просто не думал об этом. Он работал, любил свой хутор, лес, где провел всю жизнь, братьев. В их чреде он был средним. Счастливчик, сын Полудня, рожденный в разгар августовского дня, он рос, ощущая силу старших братьев и обаяние вечно грезящих младших. Ясный день, горячее лето наградили его здоровой красотой, пылкой душой. Им гордился отец, восхищалась мать. И Камилла любила его. В ней он нашел свою половину, свое отражение в женском обличье, эхо своих желаний, источник радости. И вдруг Мопертюи все это опрокинул, разметал и швырнул ему в лицо его бедность, показал, что он всегда был жалким рабом, зависящим от хозяйской милости, а теперь и вовсе превращался в нищего бродягу.
Одержимость Симона, обычно обращенная на других, на внешний мир, выражавшаяся в необузданном веселье или гневе, восторге или страсти, теперь устремилась внутрь, в самые темные и мрачные пропасти души. Обострила до боли одиночество его отверженного, отторгнутого от всех и всего сердца. Заставила безысходно замкнуться в себе. Повергла Симона в пустоту, туман, молчание.
В двух шагах от него, но на другом краю света и времени, стоял Амбруаз Мопертюи в мутной дымке зловещего смеха. Человек, которого он дотоле как бы и не знал, зато теперь узнал слишком хорошо, слишком близко, ибо он преградил ему путь собой, своей мощью, своей яростью. Взбешенный, сжимая мотыгу, острие которой сверкало в вечернем тумане, словно разбрасывая искры раскаленного докрасна, ослепительного гнева.
Амбруаз Мопертюи смеялся, хохотал, как никогда в жизни, раскатистым, громким смехом. Довольный тем, что усмирил Камиллу, прогнал Фину, одолел Симона. Что показал себя хозяином всего и всех в округе, хозяином судеб. Что разнял два слитых воедино тела, оторвал друг от друга дерзких ослушников: Камиллу и Симона. Теперь Камилла заперта на чердаке, Камилла – пленница его ревнивой любви, любви-заклятья. Камилла примет свое истинное обличье. Святой для него облик Катрин. Амбруаз смеялся, довольный тем, что утолил жажду мести, насытил свой гнев, утвердил свою силу. Тем, что вновь обрел Катрин-Камиллу, что спас свою Живинку.
Амбруаз Мопертюи смеялся, и смех его отталкивал Симона, как неумолимый, холодный, колючий зимний ветер. Как будто смех этот оттачивался острием мотыги. Симон пятился, пошатываясь, ощущая за спиной разверстую ночь, как пропасть, в которую он вот-вот сорвется.
Симон чуть не падал, земля уходила у него из-под ног, черная бездна за спиной ширилась до умопомрачения. Он не решался повернуться лицом к этой зияющей черноте, в которой бился смех старика. Он уже падал, судорожно цеплялся руками за воздух, ища, за что или за кого бы ухватиться. И ухватился: не за самого вола, а лишь за его кличку. Принялся выкрикивать: «Рузе!» Кричал, растягивая слоги на все лады, так что «Ру-зе» дрожало, изгибалось и струилось. Клич ввинчивался в сумрак, разгонял тьму и страх ночи. «Рузе» разносилось полнозвучно и весомо, медленно и гулко, как колокольный звон, вестник скорби, беды и тревоги. «Рузе» – неумолчный рыдающий зов обретал очертания грузного вола. Наполняя округу, раскатываясь в темноте, как стон, как волна горячей, душной крови.
И Камилла в своей тюрьме на другом конце дома услышала этот долгий призывный вопль. Он вырвал ее из оцепенения. И она тоже принялась кричать, звать Симона. Но никто не услышал ее. Голос ее бился о стены, балки, дверь, как бьется в комнате обезумевшая птица, не находя щели, через которую впорхнула. «Ру-зе» перекрывало, заглушало крики Камиллы. Она колотила в дверь, ломала ногти о железный запор.
Вол Рузе, привязанный в стойле, напрягал шею, бил землю копытами, натягивал цепь, рвался изо всех сил. Он слышал свое имя, разносящееся как горестное мычание. И ответил на зов. Принялся оглушительно мычать, а скоро и все остальные волы в хлеву присоединились к нему.
Амбруаз Мопертюи больше не смеялся. Глухой, натужный рев, поднимавшийся из хлева, перебил его смех. Он попробовал унять Симона, замахнулся на него мотыгой. Но тот, продолжая пятиться нетвердыми шагами, ревел в лад с волами.
Наконец дверь хлева разлетелась в щепки. Амбруаз Мопертюи едва успел отскочить, выронив мотыгу. Оборвавший цепь Рузе вылетел во двор. В тот же миг Симон очутился у него на спине и обнял за шею. Рузе, пригнув голову, несся вперед, не останавливаясь и не пытаясь сбросить прижавшегося к нему всем телом Симона. Вол вместе с живой ношей, человеком, навьючившим на него свою печаль и отчаяние, пересек двор и вскоре скрылся в потемках. Амбруаз Мопертюи и не пытался остановить его. Пусть Симон забирает с собой вола, лишь бы убрался сам. Он отдаст все, даже свои леса, лишь бы оставить при себе, сохранить для себя Живинку. Он подобрал мотыгу, отнес ее в сарай и вернулся в хлев утихомирить и накормить волов. Затем пошел в дом ужинать. Наглухо закрыл ставни, забаррикадировал дверь. Тишина стояла в доме и вокруг: в хлеву, на дворе, на всем хуторе. Быки умолкли, Симона поглотила ночь. Амбруаз зажег лампу, поднялся на чердак и застыл перед дверью, прислушиваясь. Ни звука. Он приоткрыл глазок. Камилла стояла посреди чердака, неподвижная и немая. К двери не подняла и глаз, а неотрывно глядела в пол. Свет лампы у ее ног уже слабел. Темнота сгущалась в каморке, подползала к Камилле, окружала ее плотным кольцом. И сама Камилла тихо таяла, погружалась во мрак, поглотивший Симона. Амбруаз Мопертюи захлопнул глазок. Стук отдался в сердце Камиллы. Она вздрогнула. И в тот же миг поняла всю безмерность холодной, темной силы, заточившей ее здесь и сразившей ее любовь. От ужаса глаза ее расширились.
Симон ушел, исчез во тьме. Кто же освободит ее? Да и можно ли ее освободить?
Освобождают пленников, но она не просто в плену. Ее больше нет или вообще никогда не было. Она умерла, прежде чем родиться. Так сказал ее дед. Она – лишь видимость, бесплотный образ, замурованный в безумии старика. Он вырвал его у смерти и теперь каждое утро и каждый вечер будет любоваться им через глазок. И правда, от нее осталась лишь видимость, а тело, ее настоящее тело, похищено; распростертое на спине вола, оно углублялось все дальше в ночь. Тут она вспомнила, что говорил ей Леже в тот день, когда они сидели в саду на каменной ограде и он подарил ей свой сон. О силе, стойкости и подлинности видений. «У нас много глаз, – сказал он, – и ночью они все открываются. Сны – это то, что видят наши ночные глаза». Каждое слово теперь обретало для Камиллы внятный смысл. Вдобавок она совершенно отчетливо увидела ярко-желтые островки песчанки между камнями изгороди. Старик обратил ее в плоскую картинку, запечатанную смертью. Значит, она должна взломать печать смерти, отбросить тесные рамки, придать видимости выпуклость и цвет. Окрасить ярким золотом – как желтизна песчанки, пробивающейся сквозь камни, как ослепительное солнце в день 15 августа, когда прозвучала песнь девятерых братьев, как блеск медной трубы, на которой играл Симон, как дыхание Симона, как соломенные волосы Утренних братьев, как колокольные переливы Луизона, как пчелы Блеза-Урода, как лучистые глаза Симона. Золотом, заливающим весь свет. Она должна схватиться с помешанным стариком один на один, победить его видение своим. Живыми красками защитить свой разум от лавины подступающего бреда, свое сердце от пыльной затхлости чердака, от заточения в темнице стариковского черепа – черепа безумца с его стерегущим оком, подобным только что захлопнувшемуся глазку в двери ее тюрьмы.








