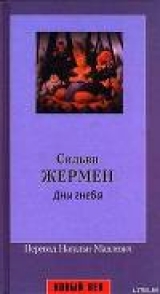
Текст книги "Дни гнева"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
БОЛЬШАЯ СТИРКА
Как раз в эти дни подоспело время большой стирки, которую устраивали на хуторе раз в год. Камилла помогала Фине. Сначала белье надолго замачивали в холодной воде, потом перекладывали в огромный котел, установленный на треножнике во дворе, у кухонной двери. На самое дно стелили старую простыню, на нее складывали белье: постельное, столовое, нательное – слоями, – пересыпая мыльными стружками и ароматными кореньями; края простыни заворачивали и накрывали все рогожным мешком, наполненным дубовой золой. То был первый день большой стирки, день золы и полотна.
Весь следующий день котел нагревали на огне, непрерывно перемешивая кипящее белье. Дубовая зола отмывала пятна грязи и пота. От мокрого полотна поднималось голубоватое облачко, пахнущее ирисовым корнем. Испарения древесной золы, корневищ, одежды смешивались с водяным паром и обволакивали благоухающим маревом каждый двор на хуторе. Все женщины колдовали над котлами, пот и пар каплями покрывал их руки и склоненные лица, которые блестели и отливали синевой. То был второй день большой стирки, день душистого пара.
И, наконец, на третий день прачки выливали воду из котла, выкладывали белье в тачку, накрывали холстом и везли полоскать в барак над заводью. Каждая становилась коленями на деревянную скамеечку с подстилкой из соломы или тряпок и, нагнувшись над водой, полоскала первую простыню или скатерть. Гул голосов наполнял барак, женщины, окружившие заводь, смеялись и перекликались, заглушая стук щеток и вальков. Эдме и Толстуха Ренет тоже пришли полоскать белье, а с ними – Луизон-Перезвон. Женщины любили его, он развлекал их и к тому же всегда и всем с готовностью помогал. Брызги взлетали под потолок, блестели искорками в солнечном луче, коричневая пена выступала на полотне. С шуршащего в руках прачек белья ледяными ручьями стекала вся скопившаяся за год грязь. Когда же вода в заводи снова становилась прозрачной, женщины насыпали в нее синьку. По воде расходились ярко-лазурные разводы, гроздья цветных пузырей вздувались под руками прачек. Иной раз, ловя выскользнувшую щетку или валек, одна из них запускала в воду руку до плеча. Потом, не поднимаясь с колен, прачки с силой выжимали белье, едва не выкручивая себе руки. То был третий день большой стирки, день шума, брызг и синих пузырей.
Покончив со стиркой, женщины выходили из барака и снова грузили белье на тачки. И тут со смехом убеждались – так было из года в год, – что за ними исподтишка, приподняв уголок занавески, подглядывает ненавидящими глазами Гюге Кордебюгль. Он терпеть не мог эти дни, когда все бабье собиралось здесь, в бараке, рядом с его домом. Смех и визг, доносившиеся до его ушей, бесили его. Он так и трясся. Но и уйти из дому в эти дни он бы ни за что не согласился. Нет, он усаживался перед отяжелевшими от грязи и пыли занавесками и жадно глядел, упиваясь злобой, кипевшей в нем при виде оравы крикливых женщин, а на коленях у него судорожно тряс кроваво-красным гребнем Альфонс, преемник Татава и сменивших его Барона и Буряка. На этого петуха, еще более зловредного, чем все три его предшественника, вместе взятые, казалось, и погибели не было. Ему пошел тринадцатый год, а он был все такой же буйный, хотя кукарекать стал хрипло и не вовремя. Чтобы поддержать силы во время своего дежурства у окна, Гюге пил вино, опорожняя стакан за стаканом. Гнев его от этого разгорался еще пуще, а голова затуманивалась. Наконец, окончательно напившись, он так и засыпал на стуле с размякшим Татавом на коленях, и это повторялось каждую большую стирку. Среди ночи он непременно просыпался, стряхивал ничего не понимавшего спросонья петуха и отправлялся промышлять по задворкам.
Гюге заранее ликовал уже тогда, когда расходившиеся по домам с чистым бельем хозяйки смеялись, дразнили его и грозили кулаком. Они знали, что этот старый брюзга, всегда отплевывавшийся, случись ему встретить на пути женщину, нынче же ночью будет шарить по садам и воровать разложенное для просушки белье. Он выбирал нижние рубашки и юбки, ночные сорочки, панталоны. То же самое брал он и в других деревнях, куда также делал ночные вылазки. Никто толком не знал, зачем ему эти женские тряпки, думали, что он пачкает и рвет их. С тех пор как умерли родители Гюге, никто не входил в его дом. Можно было только догадываться, какой хаос царит в берлоге неопрятного бирюка.
Так оно, в общем, и было, но всей правды никто не мог и предположить. Гюге действительно жил в жуткой грязи, из всего дома пользовался одной комнатой, которая заменяла ему кухню, спальню, столовую, чулан и кладовку. Там были свалены дрова, вязанки хвороста, топоры, туда же он складывал и запасы провизии. Под потолком сушились куски мяса, грибы и травы. Жалкая одежда висела на вбитых в стену гвоздях. Все пропиталось отвратительным смрадом, в котором смешался запах чада, пыли, плесени, жира и прелой соломы – Гюге никогда не перетряхивал тюфяк. Но была в доме еще и другая комната, поменьше, почти всегда запертая на ключ. Ее Гюге держал в безупречной чистоте. На окнах с наглухо закрытыми ставнями красовались белые холщовые занавески с кружевной каймой, которую он срезал с подолов ночных рубашек. Таким же образом, выкроив из женского исподнего, он смастерил салфетки, простынки, наволочки, покрывало. Он вовсе не думал пачкать краденое белье, напротив, относился к нему весьма бережно. Вечера напролет он прилежно шил и кроил, вооружившись иголками и нитками из матушкиной шкатулки. Шли годы, и постепенно тайная комната Гюге превратилась в настоящую девичью спаленку, сверкающую белизной и благоухающую ароматными травами.
Гюге месяцами не мылся и не переодевался, спал одетым на своем заплесневелом тюфяке с грязными и рваными простынями, а петух Альфонс охранял его сон, взгромоздившись на спинку стула рядом с хозяином. Но каждое новолуние Гюге Кордебюгль преображался. Снимал заношенное платье, тщательно мылся, надевал ночную рубашку повычурнее да побогаче, шел в спаленку и укладывался в белоснежную постель, согрев ее прежде грелкой с углями. До самого утра он нежился на тонких белых простынках с кружевами, лежал, завернувшись в некогда облекавшие женские тела нежные шкурки, которые он ненадолго согревал и оживлял. А на другой день снова напяливал старое тряпье и не прикасался к воде до следующего новолуния.
Фина с Камиллой вернулись домой после большой стирки. Белье они развесили в саду, простыни разложили на лугу. За день работы Камилла устала, от белизны полотняных простынь болели глаза. Она прилегла на траве, рядом с расстеленным мокрым бельем, и заснула до самого вечера, проснулась же только тогда, когда Фина позвала ее ужинать. Она встала, разморенная после долгого сна на солнце, в пряном запахе земли, травы, цветов и влажного белья. Спать в ложбинке этого теплого, ласкового дня было уютно, как на родном плече. У дома она встретила выходящего из хлева Бешеного Симона. Они стояли друг напротив друга: она, еще затуманенная сном, в лучах заходящего солнца, вся розово-золотистая, и он – выпрямившийся в темном прохладном проеме. Она неуверенно и удивленно взглянула на него шелковисто-сонными глазами и улыбнулась. Симон быстро шагнул вперед, притянул ее к себе и поцеловал. Миг – и Камилла пошла дальше, в дом, где ее ждала Фина. С Симоном они не сказали друг другу ни слова. Только поцеловались на исходе дня, в час, когда свет мешается с тьмой, жар с прохладой, сон с бдением. Но после ужина, поднявшись к себе в спальню, Камилла не легла, а потихоньку выскользнула из дома и пошла на луг. Симон был там. На мгновенье они застыли, молча глядя друг на друга. Потом, точно в молниеносном озарении, не опуская глаз, принялись быстро, уверенно сбрасывать с себя одежду. Оставшись нагими, обхватили друг друга, и тут движения их сделались порывистыми, торопливыми, почти грубыми. Они упали в траву, уступая силе желания, побежденные восторгом, нагота будила в них соблазн и алчность. Тела их сплелись и покатились по влажной траве, по расстеленным простыням. Они словно плыли по траве и в белых простынях обвивали друг друга, проникали друг в друга, погружались во влажное тепло плоти, сладостное, жгучее тепло. Они жадно ласкали друг друга, впивали губами и ноздрями все запахи кожи, целовались до головокружения, пытаясь утолить ненасытную страсть, кусали, лизали, сжимали друг друга в объятиях, изнемогая от непереносимой, судорожной нежности. Наконец, обессилев от этой сокрушительной нежности, они забылись глубоким сном, не размыкая объятий. Молочная белизна покрывавшего землю полотна мерцала чистым, спокойным светом, то была ночь наготы, безумной наготы, торжество желания, праздник плоти. Симон и Камилла проснулись на рассвете, поспешно встали и принялись неловко, путаясь в платье, одеваться, как будто руки и ноги плохо слушались их. Они и правда не владели собственными телами, путая, где чье. Но оба знали, что отныне единственно принадлежащее ему тело – это тело другого.
Украдкой пробрались они каждый к себе в дом на разных концах хутора. Но то была излишняя осторожность: их все равно уже видели. Видел Гюге Кордебюгль, забравшийся ночью в сад Мопертюи, чтобы стащить белье с веревки. Запихивая в свою торбу нижнюю юбку Камиллы, он заметил на выложенном белыми квадратами лугу что-то непонятное и странно двигающееся. Ночь была темной, но полотно излучало легкий свет. В этом призрачном свете Гюге разглядел обнимающихся любовников. Камилла и Симон, два отпрыска враждующих ветвей семейства Мопертюи. Зеленоглазая Камилла, по матери Корволь, внучка той одержимой из города, та самая дерзкая Камилла, что утром, у барака, смеялась над ним громче всех. Нечего сказать, шустра эта Камилла Мопертюи! Дед да родители отправились хоронить полоумного Корволя, а она рада стараться – путается, как сука, со скотником! Ну и шлюха! Он видел ее обнаженное тело – до чего же оно было стройным и ладным. Видел, как оно отдавалось, вздымалось, изгибалось, точно лук, отверзалось. Как смыкалось, сжималось, жадно и бережно обхватив желанную жертву. Но с особым волнением следил Гюге за каждым движением Симона: как он обнимает девушку, держит ее, как все быстрее содрогаются его чресла. Гюге зачарованно смотрел на любовников, испытывая щемящую боль. Потом ушел, бесшумно ступая и унося с собой похищенное белье в котомке и украденную тайну в недрах своей безумной души.
На другой вечер вернулся Амбруаз Мопертюи с Марсо, невесткой и Леже. И Камилле пришлось изо всех сил сдерживать радость и желание, усмирять порывы неведомого прежде ликования, рвавшегося из нее, как крик, как смех, переполнявшего ее сердце и плоть. И все-таки, не удержавшись, она одарила лучезарной улыбкой попавшегося ей на глаза Леже. Но этот постаревший младенец вернулся с мрачной церемонии таким подавленным, что не уловил сияющей счастьем улыбки, не понял, что она означает. После сна, подаренного Камилле, он успел увидеть много новых. А она уже разделила этот дар с другим. Видение воплотилось, и плоть его была двуедина. Сон стал безумством плоти.
Следующей ночью из дому ушел Марсо, в поисках забвения, избавления, покоя, которые обрел на ветке дерева-ангела, что на поляне Буковой Богоматери. Еще через несколько дней уехали мать и Леже. Дом опустел. Как будто новое тело Камиллы отталкивало всех остальных, всех, кроме Симона. Как будто счастье, захватившее ее сердце, ворвалось в дом, подобно смерчу, и разметало всех, чьи помертвелые души не могли выдержать напора радости, неистовства желания. Время, казалось застывшее на долгие годы, уходившее по каплям в трясину безжизненного однообразия, вдруг встрепенулось, вырвалось на волю. И стремительно понеслось. Подобно вспухшим ручьям и речкам в весенний лесосплав, что заливают берега прудов и озер.
Унылые, боязливые, тусклые души ушли прочь. Исчезли, как мертвые стволы, увлекаемые ожившей водой. Ушли вниз, вглубь, на равнину или под землю. Бедные, зачахшие от скуки, иссохшие от одиночества души. Их ждали спальни еще неприютнее и холоднее, чем те, где ночь за ночью почивали они десятки лет. Здесь, в доме Мопертюи, в его суровых стенах, на громоздких, точно сундуки, кроватях. Их разметало, словно мертвые листья порывом ветра. Что ж, пусть себе разлетаются, пусть уходят! В ночь после отъезда матери Камилла вновь соединилась с Симоном, на новом пиру плоти, новом празднестве наготы и ласки.
«И отверзся храм Божий на небе». Этот храм – земля, время, огромный, открывшийся ей мир. Из слияния тел в глубинах плоти и на поверхности земли рождалась красота. «И явилось на небе великое знамение». Да, великое знамение снизошло на землю, отметило тела. Живое, как вода, как ветер, неумолимое, как голод, палящее, как солнце в летний полдень, терпкое и сладкое, жажда и хмель, сон и пляска. То было желание. «Жена, облаченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из двенадцати звезд». Эта жена была Камилла. Нагая жена, несущая бремя мужа как утоление желания, аромат его кожи на коже своей как блаженство, семя его наслаждения как венчание. Жена, столь любящая, что она обнажена и в одежде. Вся вожделение, нагота и пламя. Обнажилось ее сердце, воспламенился взгляд. Взгляд, искрящийся пламенем.
Камилла превратилась в ту жену, которая предстала ей во сне, после чествования Буковой Богоматери. Камилла вышла за границы осязаемого мира, сны и виденья обретали плоть, дышали жизнью, проникались страстью. Слова Блеза-Урода, сон Леже и время, ставшее любовью, смешались для нее. Смешались и тела – ее и Симона. Смешался зримый, слышимый, телесный мир. Все стало ощутимым: слова являлись взору, а мысли источали запах, она входила в грезы, осязала сны, бежала по словам, как босиком по росистой траве, бежала и плясала. Все стало ей отрадным и желанным, исполненным и трепета, и силы: день, ночь, шум, тишина, вкус пищи, запах почвы – все, чего она касалась. Ибо весь мир слился в Симоне.
Симон познакомил Камиллу с братьями. Однажды они все вместе были в Жалльском лесу, в хижине Утренних братьев. Ели, пили, веселились, пели, Блез-Урод рассказывал разные истории. Ночь была светлой и звездной. Вдруг Скаред-Мартен, избегавший слов, протянул руку вверх, показывая на светящуюся матовым светом полоску Млечного Пути, пересекавшую безлунное небо. Все подняли головы и замолчали, завороженные этим плавным и точным жестом, беззвучно обнажившим самый источник красоты. Жесты заменяли Мартену слова. Наступившее молчание прервал хохот Глазастого Адриена. Потом заговорил Блез-Урод: «Все звезды в небе – искорки смеха. То смех самого Господа в последний день Творения. Он засмеялся, когда увидел, что мир Его хорош. Может, взгляд Его упал на леса?» – «Глядите, – сказал Фернан-Силач, – похоже на здоровенную балку, которая держит небосвод. На огромный дуб: его срубили, и он лежит поперек неба, вон и желуди – тысячи желудей – поблескивают. Топор же – в деснице Божьей». – «А звезды звучат? Может быть, там, наверху, играет музыка?» – спросил Глухой Жермен. «Конечно, но ее никто не слышит, – ответил ему Блез-Урод. – Для нас она чрезмерно громкая. Такая, что звук сгущается и становится видимым. Мы видим эту прекрасную музыку. Она похожа на пчелиный рой, что проносится над землей и оставляет за собою след. Прокладывает путь для душ, что жаждут запредельности. Ибо мы нуждаемся в том, чтоб этот путь был нам указан». – «А еще это похоже на длинную стаю белых птиц, – сказал Леон-Нелюдим. – Этим путем летят умершие птицы. Он ведет в страну одиночества. Где нет ни имен, ни тел, ни домов – нет ничего. Где все становятся прозрачными и легкими и все летают в пустоте и тишине. Все превращаются в птиц вечности». – «А я вижу рыб, не здешних, а таких, что плавают в моем озере… в прозрачном озере… это все следы тех, кто прошел по водам озера… когда-нибудь мы тоже так пройдем…» – добавил Элуа-Нездешний. А Луизон-Перезвон подхватил: «Тех, кто прошел? Ну да, это следы! Следы на небе! Это шла Мадонна! Она идет, она бежит там, высоко над нами». – «Это широкая река, – сказал Бешеный Симон. – Там, в небе, верно, тоже есть волы, и по ночам они приходят пить к реке. Те самые солнечные волы, что днем волокут солнце через все небо. А ночью отдыхают, входят в реку и пьют». Это горный поток, подумала Камилла, как у Леже во сне. Холодный, мчащийся неведомо куда. А я смотрю сквозь воду, снизу. Как будто я камушек на дне. Меня подхватывает вода. Я вижу небо, берег, вижу Симона. Мой взгляд растворяется в волнах. Весь мир сияет. Словно тело Симона.
Камилла сидела, прижавшись к Симону, и тоже смотрела на Млечный Путь. Сны и грезы наполнялись светом, жизнью, обступали ее. Ей казалось, что она держит в ладонях вечность, словно прекрасный плод, напоенный солнечным теплом, держит и медлит сорвать с ветви. Полнотою и сладостью, ароматом и вкусом ее радость и правда была подобна спелому плоду. Подобна земному шару, земному дню в круговороте солнца, земному телу в объятиях любящего. Радость, жаждавшая охватить вечность. И каждый миг, проведенный с Симоном, не насыщал, а увеличивал томившее ее желание.
НОЧНАЯ СЫРОСТЬ
Блаженство Камиллы было беспредельно, как вечность, вечность поселилась в теле, улыбке, в имени Симона. Но и текущее время имело имя. Оно звалось Амбруазом Мопертюи.
Доставив овдовевшую невестку в город, старый Мопертюи поспешил в Лэ-о-Шен. Ему не терпелось вернуться. Ведь отныне Камилла, Живинка, будет принадлежать ему, и никому больше. Правда, Марсо, Клод и Леже никогда и не были особенно близки и дороги Камилле, но все же их исчезновение облегчило и обрадовало ревнивую душу Амбруаза. Теперь он сможет прожить остаток дней вдвоем с Камиллой. Ничего иного он не мог и вообразить: он и Живинка, вместе, день за днем, год за годом. О возрасте – своем и внучки – он начисто забыл. Да, он был стар, но старость не брала его, он был таким же крепким и бесстрашным, как в молодости, и вообще время застыло для него в тот весенний день на берегу Йонны, а значит, сколько ему лет – неважно. Он силен и проживет еще не один десяток лет. Да, Камилла выросла, расцвела, и красота ее привлекала взгляды и будила желание мужчин. Но разве кто-нибудь из них достоин ее красоты? Такого Амбруаз не знал и знать не желал. Ему одному дано наслаждаться прелестью Камиллы. Смотреть на нее, держать ее при себе – вот и все, чего он хотел. И разве он не имел на это права? Камиллу создал он. Он вырвал у смерти красоту Катрин и вновь вернул ее к жизни и свету. Он поправил урон, нанесенный миру злодейством Венсана Корволя – вот кто мертв навеки, и нет ему прощенья, и пусть разорвут его душу черные когти чертей, как свиные клыки разорвали его проклятое сердце и руку. Он, Амбруаз Мопертюи, предал земле тело Катрин, его упорство и сила воли возродили это тело вновь, вырвав его из чрева вялой Клод Корволь. И выросла красавица. Катрин-Камилла, Живинка.
На радостях Мопертюи забыл, как изменилась к нему Камилла. Вот уже несколько недель она казалась замкнутой и чужой. Переступая порог дома, он не знал, что теперь Камилла забыла его окончательно, как забыла об отце и матери. Не знал и того, что она готова была совсем отвергнуть его, если только он попытается разрушить чары и вывести ее из этого чудесного забытья.
Когда он вошел в дом, Камилла и Фина раскладывали по полкам чистое белье. Камилла не обернулась на его приветствие, а лишь вздрогнула. Этот голос, грохочущий, резкий и неизменно властный, даже когда его смягчало умиление, ударил ее, точно пущенный в спину камень. «Что ж ты не поцелуешь меня, девонька?» – спросил старик. Не дождавшись ответа, он подошел к ней, схватил за плечи и, заставив повернуться к себе, торжествующе проговорил: «Ну вот, теперь мы остались вдвоем, ты да я. Так что надо помириться и жить в ладу, как раньше, да что там, лучше, чем раньше». Камилла стояла с помертвевшим лицом, не поднимая глаз. Старик решил, что она печалится о смерти отца и, как знать, может, и о разлуке с бросившей ее матерью. «Э, девочка, не хмурься! Твоя мать всегда была чужой, никогда не любила ни наши края, ни наш дом, потому и уехала. Теперь она в своем разлюбезном городе, ну и пусть, раз ее туда так уж тянет! А отец упокоился с миром. Кто виноват, что ему не хотелось жить, – во всяком случае, не ты и не я. Но ты-то здесь своя, дом, двор, леса, луга, поля – все принадлежит тебе, как и мне. Ты здесь царица, ты моя царица! Так не грусти. Мы славно заживем с тобой!» Выслушивая утешения в скорби, которой не испытывала, Камилла чувствовала облегчение, что дед истолковал ее замешательство именно так, а не иначе, и одновременно стыд. Амбруаз подставил щеку, чтобы она, как прежде, поцеловала его. Но поцелуй этот был таков, что он едва не закричал, едва не разрыдался. Камилла больше не была ни обожавшей деда маленькой девочкой, ни ласковой к нему девушкой, как еще совсем недавно. Она стала совсем другой – она любила и ревностно оберегала свою любовь, боялась за нее и готова была защитить ее любой ценой. Каким же поцелуем могла она оделить того, кто был угрозой для ее любви!
Первое время после приезда Амбруаза ей еще удавалось сохранять благоразумие. Отправляясь на свидание с Симоном, она соблюдала тысячу предосторожностей. Дожидалась глубокой ночи, когда Фина и дед уже наверняка спали, и лишь тогда выскальзывала из дома. Они с Симоном встречались на лугу или на опушке леса. Но наступили холода, полили дожди, и им пришлось искать укрытия. Тогда они стали забираться в хлев или амбар. Сено и солома принимали их не хуже травы и опавших листьев. Объятия их были немы, будто малейший стон наслаждения мог разбудить спавшего в доме, совсем не близко, старика. Однако это вынужденное молчание лишь добавляло силы, сладости и остроты любовному восторгу. Оно окутывало их, как оболочка, возникавшая в момент слияния, тончайшая, невидимая, невесомая, но крепчайшая спайка, оторопь страха и блаженства. В лунные ночи сквозь узкое окошко под потолком в хлев пробивался слабый свет, и обнаженных тел касалась молочная голубизна. Бледные отблески играли на них при каждом движении, и любовники забавлялись тем, что ловили эти блики руками и губами. Им было хорошо, тепло, когда же наступало время расстаться и они, наспех одевшись, расходились, вот тут-то им и казалось, что они беззащитны и голы; и холод пробирал их до болезненной дрожи.
Довольно долго Камилла обманывала бдительность старика. Он не видел, как бесшумной тенью проскальзывает она по ночам из дома и обратно. Она не давала воли своему пылу, сохраняла бесстрастный взгляд и неприступный вид, надежно пряча истинные чувства. Дед верил, что она стала такой же, как прежде. Но вот как-то раз Мопертюи уехал в Шато-Шинон на лесоторговую ярмарку, Камилла же осталась дома, сославшись на недомогание. Вернулся он несколько дней спустя; едва переступив порог, подошел к Камилле и нагнулся, ожидая поцелуя. И вдруг его обдало холодом, сыростью и чем-то еще, каким-то чужим запахом. Амбруаз отпрянул. «Где ты была? Зачем выходила, раз ты больна?» – «И не думала выходить, весь день была дома, спроси у Фины!» – без запинки солгала Камилла, отлично зная, что Фина не станет опровергать ее слова перед дедом. «Тогда почему же от тебя пахнет сыростью, как будто ты только что с улицы?» – не отступался Амбруаз. «Ах да, я на минутку спускалась подышать в сад. Не сидеть же сутки взаперти. Мне лучше, жара больше нет», – спокойно ответила девушка. Но Мопертюи упорствовал: «Значит, в сад? Так это в саду ты набралась мужского духа? Где шлялась, говори, с кем путалась?» На этот раз Камилла не ответила. Но, побелев, смотрела на деда с таким отчаянным вызовом, что его смутное подозрение мгновенно переросло в уверенность. Говорить больше было нечего, слова уже не имели значения. Амбруаз размахнулся и ударил Камиллу по щеке. Она не шелохнулась, как в тот раз, летом, на поляне Буковой Богоматери. Не опуская глаз, на Амбруаза глядела страстно любящая женщина, почуявшая угрозу своей любви и полная решимости отстоять ее. И Амбруаз Мопертюи содрогнулся. То был взгляд Катрин Корволь – так же смотрела она на мужа, остановившего ее на полпути к вокзалу, – взгляд, полный жизни, любви, неотразимой прелести, полный гнева и муки. Амбруаз видел этот взгляд уже застывшим, мертвым, и он пронзил его душу, словно не кто-нибудь, а он сам был возлюбленным, к которому бежала Катрин в то утро. Теперь же его охватил панический страх. «Да что ты… что… – бормотал он, стоя перед Камиллой, – что ты так смотришь?.. Это я, не узнаешь? Это же я… я…» И он рухнул на колени.
«…Это же я – тот, к кому ты бежала. К кому стремилась столько лет. Ко мне, всегда ко мне. Ради меня отказалась от всего: от дома, от семьи, от имени, богатства. Я твой возлюбленный. И ты бежишь ко мне. Неужто ты меня не узнаешь? Кто посмел ударить тебя, мою Живинку, мою любовь? Кто хочет удержать тебя и не пустить ко мне? Кто замарал тебя чужим духом? Меня, меня ты любишь, ко мне бежишь, так неужели ты меня не узнаешь?..»
Поникнув у ног испуганно и жалостно взиравшей на него Камиллы, он разрыдался. Впервые в жизни Амбруаз Мопертюи плакал. Он обхватил Камиллу за лодыжки, прижался головой к ее ступням и орошал их слезами. «Встань, да встань же!» – повторяла Камилла, наклонившись и пытаясь поднять его. Ярость ее схлынула, остался только страх. Она ничего не могла понять. Ей хотелось помочь деду, успокоить, утешить его, но хотелось и бежать. Казалось, его руки сжимают ей не лодыжки, а горло, а слезы, падающие на ее ступни, жгут щеки. У нее кружилась голова от страха, жалости и отвращения. А старик скорчился в исступленном отчаянии и, не выпуская ее ног, стонал и всхлипывал.
Наконец он все же разжал пальцы, встал и, сгорбившись, с опущенной головой, не говоря ни слова больше, вышел. Поднялся в свою комнату и лег. В ту же ночь у него начался жар. И он, за всю свою жизнь ни разу не болевший, свалился чуть не на две недели. Все это время жар не спадал ни днем, ни ночью. Врач, за которым Камилла послала Туану Фоллена в соседнюю деревню, не мог понять, в чем причина недуга, а потому был бессилен помочь. Камилла часами сидела у изголовья деда, ухаживала за ним. Ее удерживали угрызения совести, жалость к старику, тревога за него. В ней ожила привязанность, которую она к нему питала до недавнего времени. В памяти всплывало детство, первые годы девичества – все это было так недавно, но с появлением в ее жизни Симона отодвинулось куда-то очень далеко. Воспоминания мелькали беспорядочно, точно картинки в книге, которую листают туда-сюда. Дед всегда был рядом. Он был во всем: в весне и лете, в полях и лесах. Это он рассказывал ей о земле, о смене времен года, о лесных зверях и деревьях. Для нее одной он приумножал свое состояние, для нее трудился не покладая рук. Ее одну любил на всем белом свете. Теперь она все это поняла, увидела, как много места занимал в ее жизни этот человек. И терзалась, видя его тяжело, быть может, смертельно больным.
Мука усугублялась еще и тем, что к ней примешивались дурные мысли. Ибо, несмотря на то что Камилла глубоко и искренне горевала о болезни деда, жалела, что нанесла ему такой удар, боялась по-детски инстинктивно, как бы он не умер, ее смущало и другое чувство. Смутное, неопределенное и походившее, хоть она бы в том не созналась, на надежду. Подлую, но дерзкую и цепкую надежду, что он умрет и тем освободит ее от своей тягостной любви, которую навязывал ей с жестокой неумолимостью всевластного главы рода.
Камилла словно раздвоилась. В ней жили преданное, благодарное и заботливое дитя, не отходящее от ложа больного деда, и пойманная в ловушку влюбленная девушка, рвущаяся прочь от этого беспомощного старика в жару и бреду, к своему любимому, к Симону. Слабый, безропотный ребенок должен был выдерживать непрестанную, глухую борьбу с одержимой страстью женщиной, чтобы принудить ее молчать и терпеть. Зато, едва лишь на место Камиллы заступала Фина, любовница воодушевлялась, теснила докучливого ребенка и в свой черед истязала его, изгоняла из сердца родственные чувства, чтобы безраздельно отдать его любви.
С Симоном она не говорила о деде. Часы, проведенные у изголовья больного, состояли из воспоминаний, боли и волнения. А те, что она проводила с Симоном, дарили забвение, покой и счастье. Они не обсуждали ни прошлое, ни будущее. И еще менее того – настоящее. Время превратилось для них в сплошную пелену тьмы, в которой выделялись сияющие островки счастья, искры вечности. Углубляться в прошлое было тягостно: там для обоих маячила одна и та же зловещая фигура угрюмого, грозного предка, того, что отрекся от старшего сына и оставался безучастным к нужде, которую терпела его семья; оттеснил младшего сына с невесткой, чтобы завладеть их единственной дочерью, воспылав к ней удушающей любовью. О будущем тоже нельзя было помыслить, избежав упоминания о нем же. Пока он не исчезнет, никакое будущее невозможно. А уж настоящее целиком было подчинено этому мечущемуся в лихорадке старику. Его разросшаяся тень нависала над каждым днем, и гнет ее усугублялся тайной, которую он хранил столько лет. В бреду Амбруаз Мопертюи все повторял какие-то бессвязные слова, имена – понять из них что бы то ни было Камилла не могла. Особенно часто, почти беспрерывно, как полное надежды и тоски заклинание, он твердил имя женщины, о которой Камилла никогда не слыхала: Катрин. Она не могла понять, почему вместе с этим именем дед без конца повторял и ее собственное. Она спросила у Фины, что за Катрин может звать Амбруаз, но та знала не больше, чем она сама.
«Его жену, – говорила старуха, – так ту звали Жюльеттой, она была не здешняя, из Кламси. Катрин – это точно не она. У нас во всей округе никаких Катрин не водится. А матушку его, хозяина то бишь, звали Жанной. Чтоб у него еще какие женщины бывали – никто и не слыхал. И кто это такая, ума не приложу». Камилла не стала доискиваться. Хватало ей своих забот, чтобы вникать еще и в дедовы.
С Симоном она забывала обо всем. Ей было с ним покойно и радостно. Симон разделял ее потребность забыться, с головой окунуться в мгновение, выхваченное из времени, которое заполнял собою старый Мопертюи. По ночам оба они укрывались под оболочкой тишины, сотканной в темноте амбара, и она, точно общая кожа, надежно защищала их сплетенные тела.
Амбруаз Мопертюи пролежал в постели десять дней. И выздоровел так же внезапно, как слег, подкошенный лихорадкой. Проснулся утром, будто и не было никакой болезни. С удивлением поглядел на сидящую у изголовья и дремлющую над вышиваньем Фину. Немедленно выгнав ее из спальни, он встал и оделся. Фина торопливо засеменила к Камилле, предупредить о скоропалительном выздоровлении хозяина, но не смогла ее добудиться. Камилла только недавно пришла со свидания с Симоном и заснула глубоким сном. Амбруаз Мопертюи спустился в кухню и потребовал завтрак. Он проголодался как волк и чувствовал себя полным сил и энергии, как будто десять дней лихорадки и испарины только укрепили его тело и очистили кровь. Усевшись за стол, он набросился на еду с аппетитом, испугавшим несчастную Фину. Он не задал ей ни одного вопроса: ни о своей болезни, ни о Камилле. И это молчание испугало Фину еще больше, чем приступ обжорства. В конце концов она заговорила сама: «Камилла еще спит, она, бедняжка, всю ночь просидела около вас, я только отослала ее, как вдруг вы проснулись… Она все это время так заботилась о вас, ей-Богу! Да что там, мы обе беспокоились! Вы так тяжко хворали. Камилла даже за доктором посылала. Сынка моего в деревню отправляла. Но доктор не разобрал, что у вас за хвороба, так и ушел, только руками развел. Тогда мы…» Но Амбруаз Мопертюи прервал ее на полуслове, резко спросив: «Какое сегодня число?» Фина ответила и снова было пустилась заговаривать хозяину зубы, в надежде задобрить его – уж очень он был, как она говаривала, строг. Однако Амбруаз снова грубо оборвал ее: «А ну, замолчи, раскудахталась!» Насытившись, он встал, прошел через двор к воротам и вышел на дорогу, ведущую в лес.








