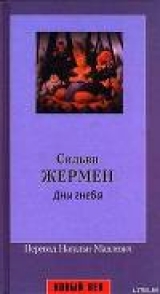
Текст книги "Дни гнева"
Автор книги: Сильви Жермен
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 13 страниц)
Муж так и остался для нее чужим. Как и ребенок, рожденный от него. Камилла вызывала у матери отвращение своим сходством с Катрин. Беглянка Катрин словно дразнила Клод этим сходством, словно с издевкой говорила ей: «Вот видишь, я бросила тебя навсегда, но посылаю тебе своего двойника; чтобы опять посмеяться над тобой, опять предать тебя, когда сбегу еще раз!» Клод была совершенно равнодушна к дочери и даже не пыталась воспрепятствовать старому свекру, желавшему всеми правдами и неправдами привязать к себе Камиллу. Она отгородилась от всего семейства: от свекра, мужа и дочери, – хотя никуда не уходила из общего дома, ставшего ей клеткой. Время для нее застыло, а вместе с ним застыла вся ее жизнь, ее память, тело, сердце. Канул в забвенье и отец. Печально-безучастное забвенье. Возможно, Зыбка была не так уж далека от истины, когда честила и проклинала пианино, считая его колдовским орудием. Это оно погрузило Клод в беспамятство, отрешило от мира. Она заперлась со своим пианино в гостиной, как в склепе. В уютном склепе, убранном гармоничными звуками, где жизнь ее все убывала, растворялась в пустоте, превращалась в небытие. Пресное небытие обволакивало ее обманчивым благозвучием.
Sanctus, Sanctus, Sanctus!
Dominus, Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.[15]15
Свят! Свят! Свят!Господь Бог Саваоф.Полнятся славой Твоею и небеса, и земля.Осанна в вышних.Благословен грядущий во имя Господне,Осанна в вышних.
[Закрыть]
Имя возвращалось к Клод вместе с болью. Да, она была урожденной Корволь, она вспомнила. И отвращение к имени Мопертюи переполняло ее сердце. Все Мопертюи были ей отвратительны, все, в том числе ее собственная дочь. Серебряная буква, так отрадно мерцавшая в пламени свечей, была ее инициалом. На что ей эта постылая фамилия Мопертюи, она отбросит ее, как хлам, как гниль, и вернет себе свое девичье имя. Имя отца.
Да, здесь-то все и началось. Только теперь вместо кресел стоит гроб и бархат не красный, а черный. В гробу покоится отец. Как кровь к голове, как боль к ожившей ране, прихлынули давно уснувшие чувства. Они бурлили в ней, как кипяток; все смешалось: стыд, нежность, раскаяние, жалость и печаль. Ей хотелось в последний раз взглянуть на отца. Говорили, будто он велел изувечить свое тело, прежде чем положить его в гроб. Она не пыталась, как другие, угадать, что именно было сделано с трупом. Она вдруг ясно поняла, что отца еще при жизни дважды резали по живому: сначала жена, потом дети.
Да, здесь-то все и началось. И здесь все начнется вновь. Она оставит семейство Мопертюи: свекра, мужа и дочь, – не вернется больше в их глухой угол, к их свиньям и волам, она только заберет свои вещи, свое пианино. И снова заживет в отцовском доме. Теперь это будет ее дом. Они устроятся здесь вдвоем: она и тщедушный Леже, ее братец с лицом ребенка-старичка, все жмущийся к ней. Клод заживет в отцовском доме, будет жить памятью об отце, вспоминать его, навсегда исчезнувшего, и это будет отдыхом от долгого немого одиночества. Она возьмет прежнее имя, которое носил отец и которое пресеклось с его смертью. Корволь.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi:
dona eis requiem sempiternam.[16]16
Упокой их, Агнец Божий:искупивший грех от века.Упокой их, Агнец Божий:искупивший грех от века.Упокой навеки, Агнец:искупивший грех от века.
[Закрыть]
Клод Корволь ревностно вживалась в прежнее имя. Обретала его там же, где некогда потеряла. Клод Корволь возвращалась к отцу. Принимала имя умершего, как имя супруга. Да, Зыбка была права: рояль околдовал ее загробными чарами. Сидя около него, она ясно слышала голоса усопших и исполняла в их честь – как в честь отца – священную песнь. Песнь прощения и примирения, песнь памяти и упокоения. А ее братик Леже, с детским тельцем и недоразвитым умом, с ручками, на которых уже проступили старческие веснушки, но которые по-прежнему умели держать только бильбоке, мячик и серсо, будет жить вместе с нею, в своем болезненном воображении считая себя маленьким мальчиком, который никогда-никогда не станет взрослым.
«К» – Корволь, серебряная буква мерцала на черном бархате, как жемчужная слеза. Прощальная слеза усопшего. Очищающая память, смывающая прошлое. Слеза отца, проступившая из смерти, как бледная звезда на небе, чтобы указать ей путь, обозначить место, где она должна отныне жить. Дом на берегу Йонны.
«К» – Клод Корволь, дочь Венсана Корволя. Она сделает себе новое подвенечное платье из черного бархатного покрова на гробе отца. Она обвенчается с памятью предков.
Кто лежит там, в гробу? – думал Марсо. Торжественные голоса, поющие Реквием, дрожащие язычки свечей, запах воска и ладана, янтарный свет от витражей, окутывающий толпу одетых в черное людей, – все это вызывало у него головокружение. Перед глазами все плыло, подступала дурнота. Кто лежит там, в гробу? – стучало в голове. Он видел тестя всего три раза в жизни. В день сватовства, в день обручения и в день свадьбы. Все три дня следовали друг за другом. Все три церемонии были устроены отцом второпях. Три проклятых дня. Это было так давно; у него сохранилось лишь смутное воспоминание о человеке, бывшем его тестем. Тощий, узкоплечий, с потухшими глазами, затравленным взглядом. Вот и все. А теперь Марсо одолевали вопросы. Почему этот человек уступил свое состояние его отцу, почему согласился отдать за Марсо свою дочь, почему так легко расстался с обоими детьми и никогда не искал встречи с ними? И, наконец, что означали эти слухи, будто Венсан Корволь велел изувечить свое тело после смерти? А главное, какая тайна связывала его с отцом?
Отец, отец! Почему не он лежит мертвый в гробу? Отец, неистощимый на злобу и хитрость, вечно стоявший между ним и жизнью, лишивший его всего: воли, желаний, страстей, – разлучивший его с братом, заставивший жениться на неровне, жить с нелюбимой и нелюбящей женой. Эта женщина, с сердцем таким же тусклым, как ее серые глаза, с холодной кожей, с бесчувственным, как дерево, телом, была и осталась чужой. Чужой, ненавидящей и презирающей его.
Отец, отец! Ревнивый, злокозненный мучитель, отлучивший от него дочь, чтобы самому завладеть ее душой. Он завещал все свое состояние Камилле, обойдя его, Марсо, прямого наследника. Старик только и делал, что обманывал, унижал, отталкивал сына. Но Марсо понимал – и это мучило его больше всего, – что он сам был главным виновником своих бед. Он позволял попирать свое достоинство, терпел, чтобы к нему относились как к холопу, как к собаке, и ни разу не взбунтовался. Значит, был попросту трусом. И все его послушание было трусостью. К нему равнодушны, его презирают, с ним не считаются только потому, что он равнодушен к себе сам. Потеряв брата, он словно потерял себя. Эфраим, старший, тот осмелился сказать отцу «нет», не поступился гордостью, волей, жизнью, не пожелал пресмыкаться ради того, чтобы сохранить права наследника.
Кто лежит там, в гробу? Никем не любимый, никому не нужный Марсо, Марсо-трус с тоской смотрел на черный покров. Он силился понять. Этот гроб был для него такой же загадкой, как зияющие саркофаги, на века застывшие, подобно безмолвным часовым, вокруг церквушки Каре-ле-Томб. Чьи тела покоились в них с незапамятных времен? Почему так много этих мертвых? И чье тело скрывал ныне черный бархат? Может, под ним – пустота? Он чувствовал себя таким одиноким, что хотелось кричать. Черный покров, как большой капюшон, накрыл его жизнь, его пустующее сердце, его тело – тело холопа, не знавшего ни радости, ни ласки, ни счастья. Он подумал о матери, которая умерла, когда он был еще ребенком. Только она, может быть, любила бы его. Подумал об Эфраиме, старшем брате, которым всегда восхищался. Брат изгнан на другой конец хутора, все равно что на другой конец света, дружба с ним порвана, и словом не перемолвишься. Брат лишен всех прав, всего добра, брат ввергнут в нищету, но одарен куда большим благом – искренней, безмятежной, ничем не омраченной любовью. У него же в душе одни руины. Он одинок.
Перед глазами Марсо все плыло и кружилось. Опереться же было не на кого. Он мог упасть, рухнуть наземь, и никто не бросился бы поднять его. Он никому не нужен. А когда настанет час его кончины, никто и не заметит, что его больше нет. Никто не пожалеет о нем, никто не будет сокрушаться. Марсо показалось, что свет в церкви померк, а гроб покачнулся, как качается на поверхности мутной желтой речной воды мертвый древесный ствол. Он почувствовал внезапную жажду; чуть не плакал, чуть не кричал от жажды. Что угодно отдал бы он, чтобы сесть за стол рядом с братом и выпить с ним вместе.
Кто лежит там, в гробу? И вдруг, одурманенный гулким пением, тошнотворной смесью запахов горящих свечей, ладана и человеческих испарений, он воскликнул про себя: «Почему, почему же не я?» Вот тут-то и вспыхнула в нем мысль покончить с никчемной, никому не нужной жизнью труса и неудачника. И эта мысль примирила его с собой. Чем же и был он, как не ходячим трупом, тенью, тоскующей по утраченному телу. И по утраченному брату. Тоска по Эфраиму накрыла его, точно бархатным черным балдахином. Да, скоро он в самом деле будет покоиться вот так, и ни стыд, ни раскаяние, ни печаль не нарушат больше его покоя. Уснуть навсегда будет таким облегчением, что его без труда подхватит ветер или волна. Может, потому и открылись саркофаги на кладбище Каре-ле-Томб и выпустили покойников, улетевших через леса или уплывших вниз по Кюре и Тренклену, как невидимые птицы или рыбы? Может, эти невидимые сонмища мертвых колеблют по временам огромную глыбу Висячей Скалы? Может, они на ней пляшут?
Кто лежит там, в гробу? Конечно, он. Марсо проникся духом смерти. В меркнущем перед его взором пламени свечей он ясно видел, как открываются крышки саркофагов и как уютно и тепло в их глубоком нутре, точно в мягкой постели, куда так приятно лечь. Он представлял себя легким-легким, скользящим в водах быстрого потока, летящим через леса, пляшущим на неустойчивой скале. Он успокоится во сне, в воде, в лесу, в объятиях ветра и камня. Его убаюкает милое имя Эфраима. Дух смерти объял его сердце; покой, надежда и утешение проникли в него. Смерть – это избавление.
Сегодня день гнева. Каждый день жизни Амбруаза Мопертюи – это день гнева. Нескончаемый день гнева. Он слышал, как отчаянно стучит, как разрывается от гнева его сердце. Гнев готов был разнести в куски этот гроб, разбросать кости покойника. Никогда не выполнит он того, о чем посмел попросить Венсан Корволь. Он написал Мопертюи перед самой смертью. Накануне вечером нотариус вручил Амбруазу запечатанное письмо и две шкатулки. В них была разгадка той тайны, что распаляла жадное любопытство зевак, прощупывающих взглядом гроб.
ЗАВЕЩАНИЕ
Сударь,
Настал черед умереть тому, кто убил Катрин. Благодаря вам этот человек понес столь жестокую кару, какую людское правосудие, узнай оно о его преступлении, не могло бы на него наложить. В тот миг, когда свершилось зло, вы явились из глубин моей совести не судьей, а обвинителем, палачом. Вы разорили меня, вы отняли и отвратили от меня детей. Вы приговорили меня к мрачнейшему одиночеству, к тягчайшей нищете – обнищанию сердца. Впрочем, человеческое сердце я потерял в тот день, когда меня покинула жена. Когда я обнаружил ее измену и побег, когда бросился за нею, чтобы схватить и вернуть, оно превратилось в сердце пса, обезумевшего от боли, ревности и гнева. Когда же я убил Катрин, сердце и вовсе покинуло меня. Ослепшее, ожесточенное страхом и горем сердце убийцы умерло вместе с жертвой. Не могло пережить ее. Так что когда вы закопали в землю труп Катрин, вы погребли и мое двойное – человека и пса – сердце. Оно давно сгнило в могиле. А другого мне не было дано. Вы обрекли меня на одиночество, мучительное одиночество с мертвой дырой вместо сердца в груди.
Я велел, чтобы после смерти мне вырезали сердце, чтобы в земле мое тело лежало с явным, ощутимым знаком своего страшного уродства. Еще я велел отрезать себе правую руку, дабы ею, запятнанной убийством, не осквернять склеп предков. Я хочу, чтобы мое тело предали земле расчлененным, ибо, убив Катрин, я сам себя расчленил, отсек ее от себя. В день Страшного суда, когда Трубный глас призовет всех мертвых предстать перед Господом, я встану и явлю Судии вот это искалеченное тело. Пусть Он судит. Но и на том свете лишь прощение Катрин сможет вернуть мне отсеченные ныне руку и сердце.
Не забывайте, сударь, что и вам придется предстать перед этим Судом и с вас спросится за дела ваши. Помните об этом, когда будете читать просьбу, с которой я к вам обращаюсь и которую умоляю исполнить.
Я велел передать сердце и руку вам, с тем чтобы мое сердце, пустую скорлупку, вы положили туда же, где похоронили мою жену Катрин, ибо ей, и никому другому, принадлежало оно не только при ее жизни, когда оно было полно любовью, но и потом, когда содеянное зло усугублялось отчаянием и раскаянием. Положите рядом с нею это погибшее, опустошенное, никчемное сердце, положите в знак немой мольбы. Я вымаливаю прошение у Катрин даже за гробом, даже под землей, после того как тридцать с лишним лет вымаливал его здесь, день за днем проливая кровавые слезы, горькие и холодные.
Что же до преступной руки, которую в тот страшный час вы не сумели или не смогли удержать и которой я пишу вам сейчас, отдаю ее вам, чтобы вы поступили с нею по своему усмотрению. Мне все равно, куда вы денете ее, лишь бы она не оскверняла покой усыпальницы предков, куда перенесут и меня. Вы же, так превосходно подобравший наказание, сообразное моей вине, безусловно, сможете придумать, как распорядиться этой рукой, от которой я отрекаюсь.
Вы по собственной воле связали себя с моим преступлением. Избавили меня от десницы правосудия, чтобы присвоить право кары себе. Вы разорили, унизили, измучили меня больше, чем мог бы сделать самый суровый суд. Взявшись повелевать моим позором, болью и бесконечным покаянием, вы в конце концов стали соучастником моего преступления. Отныне же вы один знаете тайну этого убийства. И поскольку вы по своей воле, без принуждения, пожелали заботиться о расплате за преступление, то теперь уже я поручаю вам память о нем. Ее следует не хранить, а наконец стереть. Исполните мою просьбу, положите мое сердце, полное мольбы и раскаяния, изнуренное долгим искуплением, рядом с той, кого я не переставал любить.
Помните, сударь, что недалек и ваш срок явиться на Божий суд. И в зависимости от того, как вы поступите, вам будет представлен счет, где взыщется за все с неумолимой строгостью.
Исполните же мою просьбу без промедления, без отговорок. Разумеется, это не приказ. Я не из тех, кто может приказывать, тяготеющее надо мной преступление давно лишило меня каких бы то ни было прав. Но это больше и сильнее, чем приказ.
Это заклинание, от которого зависит участь обеих наших душ.
Поймите же это, сударь, внемлите мне и сделайте все, о чем я прошу.
Да смилуется Господь над всеми нами, живыми и мертвыми.
Венсан Корволь
Вот что содержалось в письме Венсана Корволя Амбруазу Мопертюи. Написано оно было за день до его кончины и тогда же вручено нотариусу, вместе с завещанием, по которому он оставлял дом и все оставшееся имущество дочери Клод и приказывал вырезать сердце, отсечь руку и передать их Амбруазу Мопертюи, свекру его дочери и владельцу принадлежавших ему прежде лесов – законность дарственной он не опровергал. И письмо, и завещание были написаны в здравом уме, ибо болезнь не затронула его рассудка и до последнего часа он пребывал в полном сознании. Это вынужден был признать и ужаснувшийся, услышав подобное распоряжение из уст умирающего, нотариус. Он славился честностью, совестливостью, строгой и безукоризненной верой в Бога, и Венсан Корволь заставил его поклясться на распятии, что он не обмолвится о своем ужасе ни словом, сохранит в тайне последнюю волю умирающего и проследит за тем, чтобы она была выполнена неукоснительно и без огласки. «Не пытайтесь, – сказал Корволь, – понять причины этой просьбы, которая, я понимаю, не может не внушать вам удивления и даже отвращения. Не пытайтесь доискаться до побудительных причин, которые далеко не ясны и мне самому. Да-да, даже мне самому. Но я чувствую, что это необходимо. Знайте только: я не сошел с ума и мучает меня не безумие, а, наоборот, слишком ясное сознание, что гораздо хуже. Прошу вас в точности выполнить мою волю, ибо это просьба человека, обремененного грехами, каких вы не можете себе представить. Душа его скоро предстанет перед Господом, удрученная скорбью и раскаянием сверх всякой меры. Я доверяю вам и заранее благодарю. А теперь, прошу вас, оставьте меня. Час искупления близок… скоро все решится. И решится по справедливости».
Таковы были последние слова Венсана Корволя. Нотариус удалился, оставив его одного. В одиночестве встретил он кончину. Умер на рассвете следующего дня. Корволь видел, как сгущаются сумерки и заволакивает все ночная тьма, как занимается заря, розовеет небо и вновь наливается светом и птичьим щебетом день. Постепенно дыхание его стало слабым, прерывистым, хриплым, ворота памяти распахнулись настежь, открывая перед его взором огромное пространство всех семидесяти прожитых лет. Напряженное до предела сознание охватило это пространство, как парящая высоко в небе птица обозревает глазом раскинувшиеся внизу поля, леса, города. Он увидел свое детство, юность, увидел все места и всех людей, которые что-то значили в его жизни, наполняли ее событиями, влияли на ее ход. Увидел Катрин молоденькой белокурой девушкой, с чуть раскосыми зелеными глазами, потом молодой женщиной. Ее округлые груди блистали белизной и согревали ладони теплом солнца и земли, ее губы напоминали лепестки темной розы, были свежи, как день, и, как летний день, бездонным и жарким было ее тело. Земля и розы, земля и солнце. Розы, огни земли, свежесть дня. Прелесть роз, рожденная от союза земли и солнечного света. Розы, блеск, кровь и нега дня. Ясный день! Катрин была для него единственным светилом, ее тело, ее взор заменяли весь Божий день. В ней был источник дней, источник жизни. Красота и свет земного мира. Свет каждого дня. Катрин, тепло и свет!
Бессильно лежа на жестких простынях и захлебываясь хрипом, Корволь видел каждую минуту, прожитую с Катрин. Видел ее в томлении и безумстве, доходящей до экстаза или до неистовства. Конечно, он знал, что Катрин изменяет ему. Но молчал, боясь ее потерять. Он ненавидел ее за это свое унижение: знать, что другие мужчины тешатся с нею, и не осмеливаться ничего сказать. Но ненависть сдерживалась любовью, ненависть была подобна бурному притоку большой реки, делающему ее полноводнее и стремительнее. Любовь принимала все: пусть Катрин лжет, пусть изменяет, пусть смеется над ним и даже оскорбляет его. Что угодно, лишь бы не бросала.
Когда она шла, чуть покачивая бедрами, казалось, все вокруг нее плывет, все расступается перед нею. Когда говорила своим хрипловатым голосом, все звуки замирали, угасали, переходя в сдержанный ропот, подобный приглушенному трепету струнных и деревянных духовых инструментов в оркестре перед громом фанфар. Когда улыбалась, сощурив глаза и приоткрыв манящие губы, у всякого, кто глядел на нее, захватывало дух.
Может, и сейчас она здесь, в его комнате, проникла сквозь стену и улыбается, думал Венсан Корволь, может, поэтому ему все труднее дышать. Образ Катрин становился все зримее, ярче, живее. К рассвету ее присутствие было уже ощутимо. Он снова видел ее бегущей по дороге. С реки доносился гул сплавляемых бревен и поднимался туман. Он слышал глухой, ровный рокот. Слышал и ее легкие, быстрые шаги. Изящные, веселые, стремительные шаги, вприпрыжку по утренней свежести, жестокие шаги, уносившие ее все дальше от него, прочь из виду, вырывавшие ее из его объятий, отрывавшие ее от его тела. Шаги проворной беглянки.
Она выскользнула из комнаты, потом из дома, бесшумно, налегке. Ушла с пустыми руками. Значит, он был ей так ненавистен, что она не пожелала обременять себя ни единой вещью, не взяла ни белья, ни украшений – ничего, что могло бы напомнить об их общей жизни в этом доме на Йонне. Так противен, что она даже не поцеловала на прощание детей, перед тем как навсегда оставить их, его детей. Она ушла беззвучно. Но Корволь все-таки проснулся. Ему как раз приснилось, что Катрин бежит по дороге, бежит со всех ног, не оборачиваясь на его зов, а он увязает в топком болоте, кишащем какими-то насекомыми и липкими рыбами. Во сне он громко крикнул: «Катрин!» – и проснулся от собственного голоса. Встревоженный, повернулся к жене, но ее не было в постели. Вместо того чтобы развеяться, сон вдруг обрел реальность. Он наспех оделся, схватил с ночного столика маленький нож с рукояткой из слоновой кости, которым разрезал страницы. Схватил не думая и сунул в карман. Сон – Катрин, бегущая по дороге, – так живо стоял перед ним, что искать жену в доме он и не пытался, а сразу бросился вдогонку.
И скоро увидел ее. Она бежала по дороге, с непокрытой головой. Ноги так и мелькали. Ноги неверной жены, преступной матери. Прекрасной беглянки, влюбленной и забывшей о жалости. Так и сверкали в рассветном сумраке! Он знал их нежность и округлую упругость – знал, как обвиваются они вокруг его чресел, как сжимают его в минуту высшего наслаждения. И теперь она бесстыдно отдает их любовнику. Вот когда в первый раз с начала погони ненависть возобладала над любовью, заслонила, задушила ее.
Лежа в постели и задыхаясь, Корволь видел в окно первые проблески зари. Тонкий бледный луч скользнул в спальню. Не Катрин ли это возвращалась, не она ли шагнула в комнату? Как тонка и длинна ее нога, как изящно сгибается! Он видел на стене танцующие ноги Катрин. И звал, и умолял ее вернуться в супружескую постель, снова обнять его чресла, обвиться вокруг его талии, вокруг плеч. Но слова застревали, язык уже не слушался его.
Катрин бежала без оглядки. Но ярость придала ему сил, и он настиг ее. Схватил за плечо, остановил, стал просить вернуться. Она молча рванулась и снова устремилась вперед. И снова он догнал ее и повторил просьбу, прибавив, что дети проснутся и будут ее искать. Она метнула на него гневный взгляд, полный злости и боли, и продолжала решительно шагать по дороге. И в третий раз попытался он уговорить ее, она же, взбешенная, плюнула ему в лицо и процедила сквозь зубы: «Оставь меня, я ухожу. Ухожу, ухожу! Никто и ничто меня не удержит! А ты и подавно, от тебя-то я и бегу! Я не люблю тебя, слышишь? Оставь меня, я никогда не вернусь». Тогда он схватил ее за руку и столкнул с дороги. Они скатились по косогору к реке. Там началась схватка. Больше не было произнесено ни слова. Что еще могла она сказать после этого убийственного «Я не люблю тебя!»? И что мог сказать он, если она не слушала, не желала его слушать. «Я бегу от тебя», – бросила она ему, точно обожгла хлыстом.
Они схватились. Она пыталась высвободиться, убежать, он – удержать ее. Каждый желал помешать другому, согласие исчезло. Отступления не было. И ни слова во время этого немого противоборства, только прерывистое дыхание. Вдруг любовь вновь поборола ненависть. Подступила к горлу Корволя, как неудержимые слезы. Желание помутило рассудок. Но не было слов, чтобы высказать ей всю безмерность, весь пыл любви, все чудо страсти, не хватало голоса, чтобы заставить ее услышать. Он нащупал в кармане нож. Он не хотел ее убивать, хотел только удержать ее, затронуть душу, заставить услышать. Хотел не убить, а пронзить ее глухоту.
Тут и раздался крик с другого берега реки. Горячая кровь брызнула на руки, вызывая тошноту. Откуда эта кровь? Из крика, прилетевшего с того берега? Из древесной вереницы на воде? И почему Катрин вдруг обмякла в его руках? Неужели наконец смирилась? Нет – свет повержен в прах. Это не сон, это произошло наяву. Непоправимая, жестокая явь. Катрин больше нет. Она не вернется домой. А лицом новой яви была гнусная, алчная харя Мопертюи.
Зачем столько света в комнате? Ведь с той минуты, как он увидел это мерзостное лицо, все исчезло, остановилось. Зачем же столько света на стене – ведь смотреть больше не на что. Венсан Корволь удивлялся этому ненужному, живому свету. Он твердо знал, что свет навсегда погас со смертью Катрин. Биение сердца становилось все реже, дыхание все слабее и прерывистее. Наконец он закрыл глаза, бесчувственный к крепнущему свету, считая его мнимым. Закрыл глаза, захрипел в последний раз и еще успел подумать: это забава Катрин, она обхватила ногами его шею, стиснула коленями горло.
С этой мыслью Корволь умер, начисто забыв о Судии, во имя которого писал предсмертное письмо Мопертюи, в страхе перед которым прожил всю жизнь после совершенного убийства.








