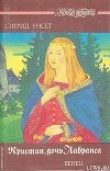Текст книги "Сигрид Унсет. Королева слова"
Автор книги: Сигрун Слапгард
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 42 страниц)
В продолжении эссе «Несколько замечаний о женском вопросе» Унсет в резко полемическом стиле анализирует эти качества, якобы в естественном порядке присущие матери; на ее взгляд, они не имеют ничего общего с фактом физического материнства. Писательница утверждает, что нередко встречала проявления истинно материнского поведения у бездетных женщин, добровольно взявших на себя заботу о чужих детях, – и не менее часто проявления двойной морали у тех, кому посчастливилось самим родить детей. Ведь она пишет о «реальном, несовершенном мире», который знает. Ее собственная мать растила ее, оставляя за ней свободу выбора, прививала широту взглядов, правдивость, жажду истины и критический настрой. Теперь Сигрид использовала все это для борьбы с фальшивыми приличиями, из-за которых хозяйка выгоняет несчастную служанку, сделавшую аборт. «Такая добропорядочная женщина и мать заслуживает по меньшей мере порки», – пишет Сигрид Унсет. Она считает также, что закон обязан радеть и о внебрачных детях. Но главное: «Даже самая одинокая, выбивающаяся из сил на своей работе труженица – будь то за печатной или за швейной машинкой, за учительской кафедрой или на фабрике – имеет право надеяться, ждать и мечтать о счастье стать любовницей, женой и матерью. О счастье, которое неизмеримо прекраснее и богаче того, что могут себе представить женщины, удовлетворившиеся радостью рожать детей, зачатых в безразличных или отвратительных им объятиях случайного мужчины». Так писала беременная писательница, по-прежнему чувствующая прочную связь с классом, к которому совсем недавно принадлежала. И в художественном творчестве, и в публицистике она неизменно выступала от имени своих бывших коллег-секретарш и работающих женщин вообще и отстаивала их права.
Наверняка Унсет мучило то, что она не может открыться даже собственным сестрам. Но домой она шлет только радостные письма. В них, помимо прочего, она рассказывает о других «родах» – наконец-то работа над «Обездоленными» подошла к концу, и писательница, довольная, читала корректуру. В особенности ей нравилась новелла «Симонсен»[203]203
Brev til Ragnhild, 19.10.1912, NBO, 742.
[Закрыть]. Сигрид делится с домашними будничными мелочами – в доме дует изо всех щелей, но зато у них есть камин, который «сильно греет, а еще на нем можно поджаривать хлеб». Без всякой сентиментальности она высказывается о судьбе одной своей коллеги-секретарши, которая, что называется, «попала в беду». По мнению Сигрид, «она заслуживает только уважения за решительность и эффективность, с какими сумела обеспечить независимое существование себе и ребенку». Унсет терпеть не могла сплетен, однако всегда с интересом расспрашивала в письмах сестер о важных новостях из жизни ее бывших коллег и общих знакомых.
К выходу «Обездоленных», полагала Унсет, мать не нужно готовить заранее – книга не была откровенно скандальной. На ее взгляд, публика должна проглотить ее, не поморщившись. «Не думаю, чтобы что-то из этого могло бы шокировать маму, – писала она Сигне, – на сей раз все сравнительно мирно и вполне невинно». Писательница признавалась сестре, что на самом деле у книги есть скрытый подтекст и адресат: «В действительности я здесь изображаю самую низкую низость, какую когда-либо описывало мое перо <…> но читатели увидят в этом только рассуждения приличного, уважаемого человека…»[204]204
Brev til Signe, 16.11.1912, NBO, 742.
[Закрыть] Помимо «низости» в этой книге мы найдем и личные переживания. Сборник открывается новеллой «Первая встреча», которая основывается на собственном детском воспоминании автора. Рассказ не только запечатлел первую встречу писательницы с бедностью, но является и своего рода ключом ко всему сборнику. Унсет пишет: «Но самое ужасное увидела я, с пророческим инстинктом ребенка, в тот день, когда я чувствовала себя маленькой преступницей, когда жена сапожника из Балкебю взяла и спрятала от меня куклу Герду, я увидела тогда то унижение, которым мир грозит беднякам»{18}. В Хаммерсмите в соседней комнате работал мужчина, которому тоже был не чужд «пророческий инстинкт», во всяком случае в том, что касалось бедняков. Насколько он разделял прочие ее убеждения и прозрения, например относительно детей, осталось неизвестным.
Размолвки случались редко. Например, когда их приглашали на пирушки к коллегам Сигрид по цеху, куда Сварстада совершенно не тянуло. Зато его молодой жене очень даже хотелось выйти в люди, «прогулять свою известность»[205]205
Egge 1952, s. 168.
[Закрыть]. Или когда Сварстад заявил: «К черту эту гадость!» – и принялся высмеивать ее восхищение классическим портретом Шелли. Он написал «Черт побери» и в одном каталоге напротив описания работ Пикассо. Впрочем, тут их с женой вкусы совпадали. Сигрид рассказывает в письме Нини о посещении выставки модернистов: «Сначала мы смотрели работы постимпрессионистов на холсте маслом – Матисса, Пикассо и их последователей. И пусть меня повесят, но я неспособна увидеть в этом ничего, кроме мошенничества, да, откровеннейшего и наглого мошенничества. На фоне восхитительной работы Сезанна и очаровательной картины Руссо в подлинно наивном стиле – с тропическим лесом изумительных тонов и львом, пожирающим негра, – все остальное казалось убожеством. Я чуть не лопнула от смеха – как и мой муж и господин». Возможно, на нее повлиял художественный вкус ее «мужа и господина»? Ведь еще несколько лет назад он в своем интервью «Афтенпостен» недвусмысленно назвал творчество Пикассо «грубейшим и совершенно сознательным мошенничеством», да и вообще, на его взгляд, «в современной живописи обман – весьма частое явление»[206]206
Lerberg 1993, s. 75.
[Закрыть].
Что до Сварстада, то он был полностью погружен в работу над своей картиной «Фабрики на берегу Темзы». Он писал и делал эскизы. Домой возвращался поздно, приходилось подогревать ему еду. Поев, он снова принимался за работу. Делал черно-белые гравюры того же мотива. Нередко в ее обществе. Вместо голубого неба на его картине изображены облака густого сизого дыма, единственной деталью природы остается река, да и то лишь в роли транспортной артерии, людей не видно, одна только промышленная техника и здания, сотворенные людьми. Он пишет ад из клубов пара, дыма и грязной воды[207]207
Lerberg 1993, s. 73.
[Закрыть]. Она замечает, как тщательно он обдумывает композицию, структурирует картину, вводит перспективу. Сколько труда он вкладывает в каждую деталь, сколь бережно выписывает каждый оттенок серого, какой удивительной наблюдательностью обладает и как это непросто – воссоздать увиденное. Вдалеке за фабричными трубами проглядывают церковные шпили.
Пока Сварстад заканчивает свое большое полотно, Унсет размышляет над дальнейшей судьбой людей, которых создала сама и над чьими характерами продолжала работать, – о персонажах своих будущих книг. Она хочет писать свои книги по крайней мере не хуже, чем он пишет на холсте. А холсты Сварстада написаны так, что ей почти что слышатся звонкие удары молота и гудки сирен. Грандиозная картина.
Когда Унсет завершила рукопись и отослала ее в издательство, стояла уже поздняя осень. Можно сказать, работа затянулась, но, в конце концов, у писательницы было много других занятий. Само творчество отнимало, по ее мнению, не больше сил, чем обычно, и она с радостным нетерпением ожидала, когда наконец сможет «перейти к выполнению других обязанностей»[208]208
Undset 1979, s. 172.
[Закрыть]. Потому что, когда они переберутся в ноябре в Италию, она планировала начать вести свое хозяйство и готовить еду. «Пришли мне все-таки свои кухонные книги, – пишет Сигрид Дее. – Бог свидетель, мне они могут понадобиться!»[209]209
Undset 1979, s. 172.
[Закрыть]
Вся в радостных хлопотах, Унсет собирала вещи – наконец-то она возвращается в Италию. Она везла с собой почти все, что имело для нее значение. Пережитые дома трудности, казалось, остались далеко, в безвозвратном прошлом. Она упаковала томики Шекспира и других любимых писателей, свои книги по женскому вопросу и заметки для новых работ. Сверху положила добротные льняные простыни, белье, которое вышивала, и маленькие вещички для будущего члена семьи.
На ее изящном пальце красовалось его старинное кольцо. Стоило ли удивляться, что ее переполняли надежды?
Исполнение желаний
Париж, Рим.
Париж встретил их холодным осенним солнцем. Приятное разнообразие после вечного лондонского дождя и тумана. «К торжеству Сварстада, в первое же утро в Париже, проснувшись в лучах яркого солнца без малейшего признака тумана, я была вынуждена признать, что не видела ничего подобного все эти месяцы в Англии», – писала Сигрид Дее[210]210
Undset 1979, s. 177.
[Закрыть]. В «Отель дю Сенат» ее ждал толстый коричневый конверт: это прислали столь ожидаемые рецензии. Сама она была убеждена в том, что в последней книге содержатся лучшие из написанных ею вещей. Да что там, мать Шарлотта считала новеллу «Симонсен» лучшей во всем творчестве дочери.
Но и в этой последней книге «настоящей» любовью не пахло – Унсет в целом продолжала линию, намеченную в остальных своих современных романах и рассказах. Здесь мы встречаем Сельму Брётен, что сплетает вокруг снисходительно проявленного к ней интереса ложь своей жизни, и фрёкен Смит-Эллефсен, пышущую чувственностью и душевным теплом, но вынужденную изливать свою любовь на чужих детей. Здесь нашли свое развитие темы, намеченные в ее статьях в «Самтиден» и «Моргенбладет», – и в то же время она подвергла более глубокому анализу предпосылки возникновения любви. Унсет сравнивает полученное из личного опыта знание человеческой природы с тем, что она читала об этом в романах, народных балладах, книгах по средневековой истории и сагах. Или, точнее, противопоставляет свою точку зрения той, что можно встретить у Шекспира или Линнея. Изучив глубины человеческого сердца, она приходит к парадоксальному в ее обстоятельствах выводу: современность лишена предпосылок для возникновения великой любви, той самой настоящей amour passion. Это занимает ее не меньше, чем все свидетельства прошлых времен о существовании такой великой, страстной, бросающей вызов законам любви. Считала ли она себя исключением из этого печального правила?
Теперь Унсет просматривала рецензии, узнавая, какие «оценки» ей поставили критики. Одним из ярлыков, каким ее удостоили, был «буднично-серый, унылый, безрадостный реализм». Возможно, ее удивляло, почему у критиков не вызвали усмешки ее язвительные пассажи. Пришлось примириться и с тем, что «Обездоленных» рецензируют вместе с вышедшими примерно в то же время «В тот раз» Регины Нурманн и «Безоружными» Нини Ролл Анкер. Карл Нэруп в особенности выделяет Сигрид Унсет и Нини Ролл Анкер. «Две наши выдающиеся молодые писательницы, – пишет он и добавляет: – Сами названия <…> проникнуты сочувствием. Авторы описывают судьбы скромных, безответных людей. <…> Тематика обеих книг на редкость похожа: это изображение самых безоружных и нищих из людей, которыми, по мнению обеих писательниц, являются незамужние женщины средних лет, чьей любовью пренебрегают»[211]211
Tidens Tegn, 17.11.1912.
[Закрыть].
При этом, по мнению критика, перед нами два совершенно разных автора: тон повествования у Нини Ролл Анкер более мягкий, материнский, «в то время как у Сигрид Унсет, вопреки всей сдержанности, проскальзывает что-то неистовое. Ожесточенность, юношеское беспокойство, потуги на юмор выглядят довольно дилетантски». Таким образом, к ее увлечению горькой сатирой отнеслись довольно безжалостно. Снова посыпались упреки в преувеличенной любви к деталям: «Автор порой слишком увлекается своими наблюдениями и ощущениями, [описывая] этих материально и духовно обездоленных людей, за которыми будто тянется шлейф из кухонного смрада, табачного дыма и запаха несвежего белья». Несмотря на отдельные критические замечания, в целом книга подтвердила статус Унсет как одной из самых значительных норвежских писательниц, и снова зазвучали сравнения с Камиллой Коллетт.
Никакое самое объемное пальто не могло скрыть высокий выступающий живот Сигрид. И если раньше ее походка наводила на мысль о сомнамбуле, то теперь она шествовала по артистическим кварталам Парижа и вызывала в памяти фигуру на носу галеона, рассекающего морскую гладь. Дома по-прежнему ничего не знают. И пусть о ее положении отлично осведомлены все знакомые из норвежской диаспоры в Париже, для Кристиании оно все еще тайна. До сих пор Сигрид открылась одной лишь Дее.
Даже с Нини она не поделилась предстоящей радостью. Зато написала ей длинное письмо, в котором распространялась о своих ощущениях: ее причислили к «официальным и полномочным замужним дамам», сперва в Лондоне – и теперь в Париже: «Уф, это было немного disgusting{19}»[212]212
Anker 1946, s. 19.
[Закрыть]. Пришлось терпеть обычную глупую болтовню о «старых девах» и о неполноценности одинокой жизни – о том, что в браке ли, вне брака, «важно обзавестись определенным опытом». Во что Сигрид Унсет, будь то в ипостаси писательницы или фру Сварстад, не верила. Несмотря на то, что у нее самой как раз был опыт отношений с женатыми мужчинами. Но этот опыт она использовала только для того, чтобы лишний раз подтвердить свое мнение, которое постоянно высказывала: ложный блеск чувственного влечения сам по себе не имеет ценности, даже для старой девы. Есть вещи и похуже, чем высохнуть в одиночестве, – например, «лежать рядом с посторонним человеком и ощущать, как гибнет все прекрасное в тебе»[213]213
Anker 1946, s. 19.
[Закрыть].
Сигрид Унсет гораздо больше сочувствовала хорошо знакомым ей несчастным одиноким женщинам, чем классу жен, под чью гребенку ее причесывают теперь. Она бунтовала против своего официального статуса, в чем и признавалась Нини Ролл Анкер: «Никогда я не смогу чувствовать себя как настоящая фру, замужняя дама, сколь часто ни называй меня так. Скорее я принадлежу к числу одиноких фрёкен, вовсе обделенных – или наделенных незаконным счастьем, а мое теперешнее законное воспринимаю как украденное у судьбы, как некую аномалию, которую мне удалось сотворить из моей жизни благодаря везению и выносливости».
Даже на волне ее собственного счастья безжалостная честность и способность к самоанализу не изменяли Сигрид Унсет. Но это никак не способствовало более трезвому отношению к собственным мечтам. Она не хотела задерживаться в Париже. Да и Сварстад, похоже, с нетерпением ждал, когда сможет разложить кисти и краски на старой доброй римской террасе, где все начиналось, в том числе и творческий подъем, который он переживал до сих пор. Их путь в Рим лежал через промозглый Милан, но Флоренция встретила теплом – как будто в знак того, что на сей раз они двигаются правильным курсом. Вместе они заново разглядывали творения любимых мастеров в ярких лучах осеннего солнца. Возможно, Сигрид рассказывала о той черной осени, что пережила три года назад, – казалось, с тех пор прошла целая вечность. Как, должно быть, забавлял теперь Сигрид Унсет Сварстад собственный ответ, который она дала на вопрос чопорной дамы, в каком жанре она пишет. «В неприличном», – ответила тогда писательница.
Раньше ей не с кем было поделиться этой шуткой, как и самым сокровенным, теперь же у нее был Андерс. Он сделал ей самый лестный комплимент, о котором она могла только мечтать. «Только с тобой я могу разговаривать по-человечески, – сказал он ей. – Ты – мой единственный настоящий друг»[214]214
Undset 1979, s. 167.
[Закрыть]. Их по-прежнему связывала пылкая страсть. Сигрид считала Андерса «красивее всех на свете»; даже здесь, во Флоренции, Сварстад с его «тысячей живых, молниеносно сменяющих друг друга выражений лица» казался ей улучшенным воплощением ее старой любви, скульптуры флорентийца. При этом она знала, что большинству Сварстад кажется «ужасно некрасивым», как она писала Дее[215]215
Undset 1979, s. 167.
[Закрыть]. Знакомство с Сигрид Унсет изменило Андерса К. Сварстада: все чаще его обычно скептическое выражение лица сменялось широкой чарующей улыбкой, а глаза прятались в смеющихся морщинках. Все его старые знакомые, будь то в Кристиании, Брюгге, Лондоне или Париже, замечали, как сильно изменился этот обычно замкнутый, измученный чахоткой человек. Казалось, будто при виде необычной пары, выходящей из вокзала Стационе Термини, весь Рим озарился солнечной улыбкой.
Пригревает солнце, на деревьях качаются апельсины, терраса увита цветущими розами. Зацвели даже ромашки, обманутые непривычным для декабря теплом. Но в пансионате мест не оказалось. Их старая хозяйка была растрогана и обрадована. Синьоре Леманн-Лукронези, вне всякого сомнения, тоже было приятно узнать, что они стали мужем и женой; по ее подсчетам, они были уже четвертой парой, «обручившейся» на ее террасе. Но, к сожалению, все комнаты были заняты. Все, что она могла им предложить, – это крохотную холодную квартирку в полуподвале. Близилось Рождество. Сигрид со вздохом пишет верной Дее: «Должно быть, это здорово – наряжать елку для малышей. У меня сегодня настроение не очень-то рождественское. Пока что мы сидим в неуютном гостиничном номере – три дня как приехали – и нас чрезвычайно занимает вопрос, удастся ли найти к Рождеству другие комнаты. Если да, тогда все в порядке. Речь идет о том самом доме, где мы с мужем впервые встретились три года назад – в первый день Рождества»[216]216
Undset 1979, s. 176.
[Закрыть]. Если бы им удалось перебраться туда вовремя, чтобы она успела украсить комнаты свечами и цветами, «и если солнце будет светить по-прежнему, тогда мы отпразднуем наше первое – и, надеюсь, последнее – Рождество вдвоем как полагается».
Хозяйке в конце концов удалось-таки выставить «старую английскую мисс», и они получили свои старые комнаты, которые теперь могли объединить в одну квартиру, и целую террасу в совместное пользование. Рождественским вечером они могли наблюдать почти все торжественно звонящие колокольни Рима и любоваться знакомым видом коричнево-серых крыш, церковных куполов, башен и шпилей, и «кипарисов и пиний на далеких холмах, чернеющих на фоне чистого неба, чью голубизну не портил ни единый столбик дыма»[217]217
Undset 1979, s. 177.
[Закрыть]. Праздники они провели вдвоем, хотя Рим, как всегда, был «битком набит» знакомыми норвежцами. И не столько потому, что лестница на шестой этаж превратилась в препятствие для Сигрид. Влюбленные, например, взбирались на Монте Пинчо и гуляли там среди фонтанов и каменных дубов. Сигрид принадлежала к тем редким счастливицам, что легко переносят беременность; она практически не ощущала «тягот, которые обычно сопровождают процесс вынашивания ребенка»[218]218
Undset 1979, s. 178.
[Закрыть]. И все же веселые кутежи пока утратили для нее былую привлекательность. Сварстаду это подходило как нельзя лучше, он уже вовсю работал над новыми римскими мотивами.
Зажигать керосинку практически не было нужды, даже по вечерам. Обычно Сварстад стоял на террасе за мольбертом, а Сигрид читала или шила в полумраке. Пока она не собиралась ничего писать, только размышляла над своей старой задумкой. Еще до того как начать работу над «Обездоленными», Унсет вынашивала план написать свою версию истории о рыцаре Ланселоте и королеве Гиневре. Будучи в Англии, она собрала довольно много материала. Но стопки книг пока лежали нетронутыми, она не торопилась приступать к работе. Сейчас все ее внимание было обращено к их с мужем общему творению – будущему человеку. Да и материальное положение позволяло расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Сидя на своем любимом диванчике на террасе, попивая чай, она с удовлетворением писала Дее: «Моя книга расходится на ура – напечатали уже третье издание. И это замечательно – ведь в следующем году мне, конечно, будет не до писательства»[219]219
Undset 1979, s. 178.
[Закрыть].
Она мечтала о том, как будет сидеть «на благословенной террасе, где мы с любимым познакомились, и ребенок будет целыми днями наслаждаться солнцем». За несколько недель до родов она наконец решилась сообщить о своей новости Нини. Она писала, что надеется – у нее будет мальчик, девочку она себе не простит. «Мне так нравится ее веселый остроумный тон», – записала Нини в дневнике[220]220
Nini Roll Ankers dagbøker, MS. 8.2669, 18.11.1912, NBO.
[Закрыть].
Первое Рождество с Андерсом, последнее – без детей. Как никогда Унсет радовалась при виде рождественских яслей, заполонивших Рим, и восторженному настроению детей в ожидании праздника. Как никогда оно совпадало с ее собственным. К Рождеству Сварстады накупили себе удивительных подарков: не ясли, но корзинку для младенца, мягких фланелевых пеленок, малюсеньких рубашечек.
Матери и сестрам были посланы заботливо выбранные в Париже и Лондоне подарки, а также поздравления, но ни слова о предстоящем великом событии. По письмам также нельзя было понять, что она думает о тех, других детях, оставленных в Норвегии. Однако любимый Андерс не мог не вспоминать о них, и она это замечала. В своем рождественском письме Дее Сигрид делится с подругой тем, о чем ей трудно завести разговор с мужем: «У него ведь остались трое маленьких детей, которых он по-прежнему страстно любит и о которых переживает, тем более что остались они не в любящих руках. Бедняжки, они родились при несчастливых обстоятельствах – и ведь это сводные сестры и брат нашего малыша. Мне вообще кажется таким странным, что у моего ребенка есть сестры и брат в Норвегии, – Бог знает, как все сложится потом»[221]221
Undset 1979 s. 178.
[Закрыть]. И все-таки письмо заканчивается «большим приветом от меня, невероятной счастливицы».
Только когда доктор предупредил, что до предполагаемых родов осталось менее двух недель, Сигрид решилась оповестить своего главного союзника в семье. «Дорогая Сигне, уж и не знаю, удивишься ли ты этому письму. В нашей воспитанной семье ведь не принято показывать друг другу, что мы узнали от других о касающихся нас „новостях“. Так что вполне возможно, что ты уже давно все знаешь. Как бы то ни было, на всякий случай хочу лично тебя подготовить к тому, что где-то в начале февраля Андерс пришлет тебе телеграмму с сообщением, что у нас родился сын[222]222
Brev til Signe, 15.1.1913, NBO, 742.
[Закрыть] (надеюсь, это будет сын)».
Унсет опасается, что сестра состроит ту же мину, что и два года назад при известии, что Сигрид влюбилась в художника Сварстада и что они «собираются соединить свои судьбы». Но страхи страхами, а инструкции по обращению с матерью она дает довольно уверенно: «Теперь у тебя есть время подготовиться к тому, как это подать маме! Конечно, после того, как все закончится». И с привычной язвительностью комментирует предполагаемую реакцию матери: «Она, бедняжка, будет рыдать в три ручья. И так-то не очень любит малышню – ну а я к тому же поторопилась, что и говорить». Сигрид припоминает, что мать поначалу не одобряла ни Сварстада, ни «Пенни», ни новый комод из березы, однако со временем научилась ценить ее «приобретения»… Еще она пишет, что все это время была совершенно здорова, только под самый конец слегка заболело горло, и что она в полной мере наслаждается своим положением.
Унсет уже договорилась с акушеркой-немкой и волновалась только из-за погоды. Если похолодает, придется зажигать керосинку, а от нее в комнатах спертый воздух. Но пока что новый год радует теплом, и вдоль Испанской лестницы уже расцвели миндальные деревья. В конце письма она все же признается, что рожать в чужой стране – не большое удовольствие, и она, естественно, испытывает смешанные чувства, будучи в такой момент оторванной от родных. С другой стороны, она постеснялась бы показаться на людях с матерью и сестрами в своем теперешнем положении. Жаль, конечно, что они еще не скоро увидят новорожденного, ведь она вряд ли покинет Италию прежде, чем ребенку исполнится хотя бы полгода. Да и работы полно.
Сигрид излагает свой план, который, по ее мнению, должен прийтись по душе Шарлотте: почему бы той не посетить Рим – через тридцать два года после ее собственного медового месяца? Сигрид с удовольствием приняла бы ее. Разве сестре не кажется, что «мама может приехать сюда сама»? В постскриптуме Сигрид подчеркивает, что непременно хочет сына. Сестра должна согласиться: «Хорошо ведь, если в семье появится мужчина – хотя бы для разнообразия?»[223]223
Brev til Signe, 15.1.1913, NBO, 742.
[Закрыть]
Сын Сигрид Унсет появился на свет 24 января. «Очень неприятная вещь», – написала она Дее о родах шесть дней спустя. Тогда она все еще лежала в постели в доме своей немецко-итальянской акушерки. Мальчик весил пять килограммов, и счастливая мать не могла удержаться от похвальбы: «Все, кто его видел, в один голос утверждают, что никогда не встречали такого красивого, здорового и крепкого новорожденного. Стало быть, это не только мне одной так кажется». Они назвали его в честь Деи, пишет она, и объясняет, как это вышло. Конечно, мальчик должен был получить имя Андерс, в честь отца. «В первый же день, когда я узнала о его существовании, решила: будет мальчик – назову его Андерс в честь отца». Но пришлось записать его как Андреа, ибо местные власти ни за что не соглашались на Андерса. Так теперь и стояло в документах: Андреа Кастус Сварстад[224]224
Undset 1979, s. 181.
[Закрыть].
Таким образом, первый внук в семье Унсет стал Андерсом, а не Ингвальдом. И с этим Шарлотте пришлось примириться, как и с прочими решениями дочери, которые она так часто принимала в последние годы, не спросив совета у матери.
Никогда ей еще не было так хорошо, писала Сигрид из Рима три года назад. Но теперь-то она знала: тогда это был просто первый лучик солнца, пробившийся сквозь тучи ее жизни. После долгих лет, заполненных работой в конторе, ночами за письменным столом, мыслями о самоубийстве, лет, проведенных в обществе одних только матери и сестер, после вялой влюбленности. При первом же намеке на что-то, отличное от засасывающей ее рутины, Сигрид ожила и расцвела. Три года назад в Риме она проводила дни и ночи в беспечных удовольствиях и чувствовала себя такой счастливой, что готова была целовать землю. Потом она обрела свою великую любовь, любовь без страха и упрека, свою страсть, исцеление, подлинную реальность. Теперь же, глядя на круглые щечки, прижимающиеся к ее пышной груди, она понимала, что счастье – это гораздо больше, чем одна только любовь, преступающая все законы. Никогда еще Сигрид не была такой сильной – и такой ранимой, как сейчас. Сейчас она твердо знает, что такое истинная любовь.
Впервые Сигрид Унсет ощутила всю полноту жизни. Ей было тридцать лет – как ей казалось, тридцать долгих лет. Но по сравнению с этим чудом все ее муки, вся ее борьба выглядели такими пустяковыми.
Безоблачное счастье. В этот момент она склоняет голову перед самым важным событием, которое ей удалось пережить, – чудом творения.
Бог знает, что будет потом.