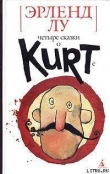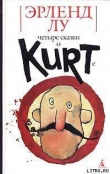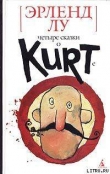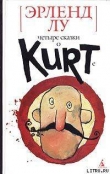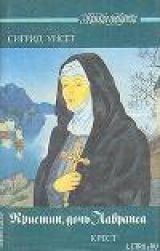
Текст книги "Крест"
Автор книги: Сигрид Унсет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 33 страниц)
Перепуганные насмерть мужчины вот-вот готовы были удрать. Кое-кто нетерпеливо топтался на месте. Кристин видела их ноги при свете фонаря, стоявшего на могильном холмике. Потом ей показалось, что один из них собирается броситься на нее, но в ту же минуту на кладбище замелькали белые монашеские одеяния – и толпа мужчин застыла в нерешительности…
Кристин все еще держала на руках мальчика, который продолжал пищать из-за лепешки. Тогда она поставила его на ноги, взяла лепешку и стряхнула с нее землю.
– Вот ешь, теперь твой хлебушек опять хороший… А вы, мужики, ступайте по домам. – Голос ее задрожал, и она на мгновение умолкла. – Ступайте по домам и благодарите бога, что вам не дали свершить грех, который потом трудно было бы замолить. – Теперь она говорила с ними, как госпожа со слугами, – кротко, но в то же время так, словно ей и в голову не приходило, что они могут ослушаться. Некоторые из мужчин невольно повернули к воротам.
Но вдруг один закричал:
– Стойте! Вы что, не понимаете, что ли, что дело идет о жизни?.. Это все, что у нас, может, осталось, а тут еще всякие гладкие сучки монастырские будут совать свои носы куда не следует! Не выпускать их отсюда, чтобы они не разболтали об этом!..
Ни один не двинулся с места, а сестра Агнес пронзительно вскрикнула и завопила со слезами в голосе:
– О Иисусе сладчайший, жених мой небесный… Благодарю тебя, что ты удостоил своих дев-служительниц умереть во славу имени твоего!..
Фру Рагнхильд безо всякого милосердия грубо толкнула ее назад, заслонив собой, а потом, прихрамывая, заковыляла к могильному холмику и взяла фонарь. Никто и пальцем не шевельнул, чтобы помешать ей. Когда она подняла фонарь, золотой крест засверкал у нее на груди. Она стояла, опираясь на посох, и медленно освещала фонарем весь ряд стоявших перед ней людей, слегка кивая каждому, на кого падал ее взгляд. Потом она подала Кристин знак, чтобы та заговорила. Кристин сказала:
– Ступайте с миром по домам, дорогие братья! Уповайте на то, что досточтимая матушка наша и добрые наши сестры-монахини будут настолько милосердны, насколько им позволят господь и святая церковь его. Ну, а теперь отойдите, дайте нам пройти с ребенком, а потом ступайте восвояси.
Мужчины стояли в нерешительности. Но вдруг один из них закричал что есть силы:
– Не лучше ли принести в жертву одного, нежели нам всем погибнуть?.. Вот этого пащенка, который никому не нужен!..
– Он нужен Христу. Лучше погибнуть нам всем, нежели учинить насилие над одним из малых сих…
Но человек, заговоривший первым, снова закричал:
– Попридержи язык, а не то я заткну тебе обратно в глотку твои слова… – И он угрожающе потряс ножом. – Эй вы, ступайте домой, ложитесь спать и просите вашего священника об утешении, да молчите обо всем об этом! А не то, клянусь сатаной, узнаете, что нет ничего хуже, как ввязываться в наши дела…
– Вовсе незачем так громко кричать, Арнтур. Тот, чье имя ты назвал, все равно услышит тебя – знай же, он здесь, неподалеку, – спокойно ответила Кристин; и кое-кто из мужчин, по-видимому, испугавшись, невольно придвинулся поближе к аббатисе, державшей фонарь. – И для нас и для вас было бы гораздо хуже, если бы мы сидели дома сложа руки, пока вы тут схлопотали бы себе в аду местечко погорячее.
Но человек этот, Арнтур, продолжал бесноваться и сыпать проклятиями. Кристин знала, что он ненавидел монахинь за то, что отцу его пришлось заложить им усадьбу, когда ему надо было выплачивать пеню за убийство и кровосмесительный блуд с двоюродной сестрой собственной жены. Теперь он продолжал изрыгать все самые что ни на есть злобные измышления и небылицы, обвиняя сестер-монахинь в грехах столь тяжелых и противоестественных, что только самому дьяволу было в пору навести человека на подобные мысли.
Бедные монахини, плачущие, пораженные ужасом, сгибались под градом его поношений, но не двигались с места, сомкнувшись вокруг старой матушки аббатисы, которая высоко поднимала фонарь и освещала бесновавшегося, спокойно глядя ему прямо в лицо.
Но в сердце Кристин сверкающим огнем вспыхнул гнев:
– Молчи! Ты что, ума решился, или бог поразил тебя слепотой? Смеем ли мы роптать на кару божью, мы, не раз видевшие, как его невесты, принявшие постриг, принимали на себя удары меча за грехи всего мира? Они бодрствовали и молились, пока мы вседневно грешили и забывали своего создателя. Они запирались в священной обители, пока мы, гонимые алчностью, рыскали по белу свету в поисках богатств больших и малых, в поисках утех для себя и утоления нашей собственной злобы ради. Но они вышли к нам, когда бог стал сеять среди нас смерть… Они собрали вкруг себя всех страждущих, болящих и голодных. Все вы знаете, что у нас двенадцать сестер померли от чумы, и ни одна не уклонилась от своего долга, ни одна не переставала молиться за нас с сестринской любовью до тех пор, доколе язык не застывал во рту, доколе в жилах ее оставалась хоть капля крови…
– Красно ты про себя говоришь и про таких, как ты…
– Я такая, как ты, – вне себя воскликнула Кристин, – я не из числа праведных сестер, я из таких, как вы….
– Ну и сговорчива ты стала, баба! – презрительно сказал Арнтур. – Видать, ты боишься! Того и гляди, ты с радостью сказанешь, что и ты тоже таковская, как мать этого мальчишки.
– Бог тому судья, он принял смерть как за нее, так и за меня, и он знает нас обеих. А где же она, Стейнюнн?
– Ступай к ней в лачугу, там и найдешь ее, – отвечал Арнтур.
– Да, кому-нибудь придется сходить к бедной женщине и сказать ей, что ее мальчик у нас, – обратилась Кристин к монахиням. – Завтра надо будет заглянуть к ней.
Арнтур ухмыльнулся, но другой мужчина невольно воскликнул:
– Нет, нет… Она померла, – объяснил он Кристин. – Вот уже четырнадцать дней минуло с тех пор, как Бьярне вышел от нее и запер двери на засов. Она тогда лежала и боролась со смертью…
– Она лежала и… – Кристин с ужасом посмотрела на мужчин. – И никто не позвал к ней священника… Труп… лежит… там., и ни у кого не хватило милосердия предать ее прах освещенной земле… А ее ребенка вы собирались…
При виде ужаса, охватившего женщину, мужчины сами словно обезумели от страха и стыда и подняли крик, перебивая друг друга. Но, покрывая все другие голоса, раздавался один голос:
– А ты сама сходи за ней, сестра!
– Хорошо! Кто из вас пойдет со мной? Никто не ответил. Арнтур закричал:
– Видно, придется тебе пойти одной!
– Завтра, как рассветет, мы сходим за ней, Арнтур. Я сама закажу могилу и заупокойную Стейнюнн…
– Ступай туда теперь же, ночью, тогда я поверю, что все вы чертовски святые и добродетельные…
Арнтур вплотную приблизил свое лицо к лицу Кристин. Она потрясла кулаком пред его носом, громко всхлипнув от бешенства и ужаса…
Фру Рагнхильд подошла к ним и встала рядом с Кристин, она пыталась вымолвить хоть слово. Монахини кричали, что завтра же прах покойницы будет предан земле. Но в Арнтура словно дьявол вселился. Он продолжал кричать:
– Ступай теперь же – тогда мы уверуем в милосердие божье!..
Кристин выпрямилась, бледная и оцепеневшая.
– Я пойду.
Она подняла ребенка, передала его сестре Турюнн, оттолкнула в сторону мужчин и побежала к воротам, спотыкаясь о бугорки и кучи вырытой земли. Монахини с плачем бежали за ней, а сестра Агнес кричала, что она тоже пойдет. Потрясая сжатыми кулаками, аббатиса молча заклинала Кристин остановиться, но та, по-видимому, была совсем вне себя…
Но тут у кладбищенских ворот в темноте поднялся страшный шум, а вслед за этим раздался голос отца Эйлива, который спросил, что это здесь за тинг собрался. Когда же на священника упал свет фонаря, все разглядели у него в руках топор. Монахини, как овцы, сгрудились вокруг священника, а парни заметались, торопясь скрыться в темноте, но у ворот были встречены человеком с обнаженным мечом в руках. Поднялась суматоха, забряцало оружие, и отец Эйлив громко крикнул в темноту:
– Горе всякому, кто нарушит покой кладбища! Кристин услыхала, как кто-то сказал, что здесь появился силач-кузнец из Кредовейта, – и тут же рядом с ней вынырнул высокий и широкоплечий седовласый человек. Это был Ульв, сын Халдора.
Священник протянул Ульву топор – он брал его у кузнеца – и, забирая мальчика Туре от монахинь, молвил:
– Уже за полночь, однако нам всем лучше будет пойти сейчас в церковь: я хочу нынче же ночью дознаться обо всех этих делах.
Никто и не подумал его ослушаться. Но когда они вышли на дорогу, от толпы отделилась какая-то светло-серая женская фигура, сворачивающая на лесную тропинку. Священник закричал, приказывал ей вернуться и идти вместе с остальными. Голос Кристин ответил из темноты – она уже прошла немного вперед по тропинке:
– Я не могу вернуться, отец Эйлив, пока не сдержу своего обещания…
Тогда священник и кое-кто еще бросились бежать за ней. Она стояла, прислонившись к изгороди, когда отец Эйлив догнал ее. Он поднял фонарь – лицо Кристин было страшно бледным, но когда он заглянул ей в глаза, то понял, что она вовсе не лишилась ума, как он было опасался сначала.
– Пойдем домой, Кристин, – позвал он. – Завтра мы проводим тебя туда – я сам пойду туда с тобой…
– Я дала слово. Я не могу вернуться домой, отец Эйлив, пока не исполню обещанного.
Священник постоял немного, а потом тихо сказал:
– Быть может, ты и права. Ступай, сестра, во имя божье.
Кристин, удивительно похожая на тень, скользнула в темноту, которая поглотила ее серую фигуру.
Когда Ульв, сын Халдора, внезапно вырос рядом с ней, она сказала отрывисто и резко:
– Ступай назад, я не просила тебя провожать меня.
Ульв тихо засмеялся.
– Кристин, госпожа моя, неужто ты еще не знаешь, что не все бывает, как тебе вздумается? Ты не знаешь и того, что даже и тебе не всегда бывает под силу то, за что ты берешься? А ведь ты не раз в этом убеждалась. Ну, а теперь я помогу тебе нести бремя, которое ты взвалила на себя.
Над ними шумел сосновый лес, а плеск волн на далеком берегу доносился до них то громче, то слабее, смотря по силе ветра. Они шли в кромешной тьме. Немного погодя Ульв сказал:
– Я ведь и раньше провожал тебя, Кристин, когда ты выходила по ночам, и потому мне кажется вполне пристойным, что я и на этот раз иду с тобой…
В темноте слышалось ее тяжелое, прерывистое дыхание. Один раз она споткнулась, и Ульв поддержал ее. Потом он взял ее за руку и повел. Спустя некоторое время Ульв услышал, что она плачет, и спросил, о чем это ока.
– Я плачу, вспоминая о том, каким добрым и преданным был ты нам всегда, Ульв. Что я могу сказать?.. Я хорошо знаю, что ты был таким по большей части ради Эрленда, но сдается мне, родич, ты всегда был более снисходителен ко мне, нежели я заслуживала своим поведением с самого начала.
– Я любил тебя, Кристин, не меньше, чем его. – Он смолк.
Кристин поняла, что он сильно волнуется. Потом он сказал:
– Потому-то мне и было так тяжко плыть сюда сегодня. Я привез для тебя такие вести, которые мне нелегко будет сообщить тебе, Кристин! Да укрепит тебя господь бог!
– Что-нибудь со Скюле? – немного помолчав, тихо спросила Кристин. – Скюле умер?
– Нет. Скюле был здоров, когда я беседовал с ним вчера, да и мало кто умирает теперь в городе от чумы. Но сегодня утром я получил вести из Тэутры… – Он услыхал тяжелый вздох Кристин, но она молчала. Немного погодя он сказал: – Уже десять дней, как они умерли. В монастыре осталось в живых всего четверо монахов, а на острове всех людей словно помелом вымело!
Они дошли до конца леса. На плоской равнине их встретили рокот моря и ветер, дувший прямо в лицо. В темноте перед ними виднелся белый просвет – полоса прибоя, бившегося в небольшом заливе о крутую светлую песчаную отмель.
– Она живет здесь, – сказала Кристин. Ульв почувствовал, что долгие лихорадочные судороги пробегают по всему телу. Он еще сильнее сжал ее руку.
– Помни, ты сама навлекла на себя это, и смотри не теряй головы.
Странно тонким и резким голосом, который подхватывал и относил ветер, Кристин произнесла:
– Сбудется теперь сон Бьёргюльфа – я уповаю на милость бога и девы Марии.
Ульв попытался было разглядеть ее лицо, но было слишком темно. Они вышли на берег, обнаженный отливом, – местами он так суживался под обрывом, что волны то и дело захлестывали им ноги. Им приходилось пробираться меж крупными камнями и кучами водорослей. Немного погодя перед ними мелькнули неясные очертания какой-то темной груды у самого песчаного склона.
– Побудь здесь, – коротко бросил Ульв.
Он отошел от нее и стал ломиться в дверь. Она слышала, как он перерубил ивовые дверные петли и снова начал ломиться. Она видела, как дверь рухнула внутрь и он вошел в черный пролом.
Ночь была не очень ветреной. Но было так темно, что Кристин ничего не видела, кроме отдельных всплесков морской пены, вскипавшей и исчезавшей в тот же миг на живой поверхности моря, да блеска волн, разбивавшихся о берег залива. И еще она различала очертания черного конуса у самой отмели. И ей казалось, что она находится в преддверии смерти, в царстве, где обитает ночь. Грохот набегавших на берег волн и шум воды, сбегающей обратно меж береговых камней, сливались воедино с гулом крови внутри нее. Кристин казалось даже, что тело ее готово расколоться, подобно посуде, разбивающейся вдребезги. Грудь болела так, словно что-то распирало ее изнутри; голова стала легкой, пустой и будто продырявленной, а порывы ветра обдували ее и пронизывали насквозь. Со странным равнодушием она подумала, что теперь, видно, и сама заболела чумой, но она словно ждала, что свет прорвет тьму и хлынет, заглушая шум моря, и что тогда она погибнет, охваченная ужасом. Она натянула на голову капюшон, который сдуло было ветром, плотнее завернулась в свой монашеский плащ и застыла, скрестив под ним руки. Но ей и в голову не приходило молиться; словно душе ее и без того было трудно выбираться из обветшалой оболочки и при каждом вздохе словно что-то обрывалось в ее груди.
Она увидела, что в лачуге вспыхнул огонь. Немного погодя, Ульв, сын Халдора, окликнул ее:
– Кристин, тебе придется войти и посветить мне. – Он стоял в дверном проломе и протягивал ей факел из осмоленного дерева.
Удушливый трупный запах ударил ей в лицо, хотя в стенах лачуги были щели, а дверь была взломана. Полуоткрыв рот, чувствуя, как челюсть и губы у нее совершенно одеревенели, она застывшим взором оглядывала лачугу. А где же смерть? Но в углу на земляном полу лежал лишь длинный сверток; он был завернут в плащ Ульва.
Ульв оторвал где-то несколько длинных досок и положил на них дверь. Проклиная незатейливую снасть, он сделал топором и кинжалом несколько зарубок и отверстий, чтобы прочнее укрепить дверь на досках. Иногда он быстро взглядывал на Кристин, и с каждым разом его мрачное седобородое лицо становилось все суровее.
– Дивлюсь я, как это ты собиралась справиться с этим делом одна, – сказал Ульв, склонившись над работой. Он покосился на нее, но застывшее, помертвелое лицо, озаряемое красным светом смоляного факела, оставалось все таким же неподвижным. Оно походило на лицо покойницы или безумной. – Ну, ответь же мне, Кристин! – Он молодцевато захохотал, но и это не помогло. – Теперь, по-моему, самое время, чтобы ты прочла молитвы.
В том же оцепенении она вяло начала читать:
– «Pater noster gui es in celis. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in celo et in terra…*1 (1Отченаш,ижеесинанебеси.Да приидет царствие твое, да будет воля твоя, яко на небеси и на земли…(лат.) – Она запнулась.
Ульв взглянул на нее и стал читать дальше: «Рапеm nostrum guotidianum da nobis hodie…»2 (2 Хлеб наш насущный даждь нам днесь… (лат.).
Быстро и уверенно дочитал он «Отче наш» до конца, подошел к свертку, перекрестил его, а потом так же быстро и уверенно поднял его и положил на только что сколоченные носилки.
– Берись за передний конец, – сказал он. – Может, это немного и потяжелее, но зато там не такая вонь. Брось факел – без него нам будет виднее, и смотри, Кристин, не оступись, потому что мне не хотелось бы лишний раз дотрагиваться до этой несчастной покойницы.
Когда поручни носилок легли на плечи Кристин, не унимавшаяся в ее груди боль яростно взбунтовалась: грудная клетка противилась тяжести. Но она стиснула зубы. Пока они шли вдоль берега, где дул ветер, она не очень чувствовала трупный дух.
– Тут мне, видно, придется сперва поднять покойницу, а потом – носилки, – сказал Ульв, когда они подошли к тому месту у обрыва, где раньше спустились вниз.
– Мы можем пройти немного подальше, – возразила Кристин, – туда, где обыкновенно съезжают на санях, когда возят водоросли, там не так круто.
Ульву показалось, что голос ее звучит спокойно и рассудительно. И его прошибло потом и ознобом теперь, когда опасность миновала, – ведь он думал, что нынче ночью она потеряет рассудок.
Они с трудом пробирались по песчаной тропе, ведущей через равнину к сосновому лесу. Над равниной свободно разгуливал ветер, но здесь было легче, чем внизу, на берегу, и чем дальше уходили они от грохота моря, тем сильнее чувствовала она, что возвращается из жуткого царства бескрайнего мрака. По одну сторону тропинки что-то заблестело в темноте. Это оказалось поле ржи, которую некому было жать. Запах ржи и вид полегших стеблей также приветствовали ее возвращение домой – и глаза Кристин наполнились слезами сестринского сострадания. От снедавших ее в одиночестве тоски и ужаса она возвращалась домой, в общество живых и мертвых.
Теперь лишь по временам, когда ветер дул ей в спину, Кристин обдавал страшный запах мертвечины. Но все же он не был таким отвратительным, как в хижине, – простор был напоен чистотой свежих, влажных и холодных потоков воздуха.
Сознание того, что Ульв, сын Халдора, идет следом и прикрывает ее сзади от черного и ожившего кошмара, от которого они уходили и отголоски которого все глуше и глуше доносились до них, было гораздо сильнее чувства ужаса, внушаемого Кристин ее страшной ношей.
Дойдя до опушки соснового леса, они увидели огни.
– Они идут нам навстречу, – сказал Ульв.
И вскоре их встретила целая толпа мужчин с сосновыми факелами и несколькими фонарями, а также с носилками, прикрытыми саваном. С ними шел отец Эйлив, и Кристин с удивлением разглядела в этом шествии немало из тех мужчин, которые нынче ночью были на кладбище. Многие из них плакали. Когда они сняли ношу с ее плеч, Кристин чуть не упала. Когда же отец Эйлив хотел поддержать ее, она быстро сказала:
– Не прикасайтесь ко мне, не подходите ко мне близко – я чувствую, что у меня у самой… чума…
Но отец Эйлив все же поддержал ее за плечо.
– Да будет тебе утешением, женщина, воспоминание о словах господа нашего: «Все, что творите малым сим, сие творите вы мне».
Кристин уставилась на священника. Потом она посмотрела туда, где мужчины снимали труп с носилок, сколоченных Ульвом, и укладывали его на погребальные носилки. Край плаща Ульва слегка отвернулся, и в свете сосновых факелов наружу выглянул носок промокшего, растоптанного башмака.
Кристин подошла к носилкам, встала на колени между поручнями и поцеловала башмак.
– Да благословит тебя бог, сестра, да порадует бог душу твою в чертоге своем, да будет милостив бог ко всем нам, грешным, здесь, во мраке…
Тут ей показалось, что жизнь уходит из нее – колющая, невыносимая боль пронзила Кристин, словно из нее вырвали что-то внутри, что-то глубоко укоренившееся в ее теле до самых кончиков пальцев. Все, что было в ее груди, хлынуло наружу – она чувствовала, что горло ее полно этим и что рот ее наполняется кровью – соленой, с привкусом позеленевшей меди. В следующий миг вся ее одежда спереди покрылась чем-то темным, липким и блестящим. «Иисусе, – подумала она, – так много крови у старой женщины».
Ульв, сын Халдора, поднял ее на руки и понес.
У ворот монастыря процессию встретили монахини с зажженными свечами в руках. Кристин и теперь была не в полном сознании, но она чувствовала, что ее то вели, поддерживая находу, то несли под воротами. Потом она очутилась в побеленном сводчатом покое, который наполнился мерцающим светом желтого пламени свечей и красных языков факелов, где шаги людей гудели, как море. Но для умирающей все это было лишь отсветом ее собственного угасающего жизненного огня, а шарканье ног по каменным плитам казалось шумом реки смерти, воды которой уже захлестывали ее.
Потом свет распространился в следующем покое, а вслед за этим она снова очутилась под открытым темным небом – во дворе. Затем свет заиграл, взбираясь по серой каменной стене, по тяжелым пилястрам и высоким пролетам окон – то была церковь. Ее несли чьи-то руки, и это снова был Ульв, но теперь его лицо сливалось для нее с лицом всех тех, кто когда-нибудь носил ее. Когда она обхватила руками шею Ульва и прижалась щекой к его колючей бороде, она будто почувствовала себя снова ребенком на руках у отца, и в то же время она будто сама обнимала ребенка… И за темными очертаниями головы Ульва горели красные свечи, и они чудились ей отблеском огня, питающего человеческую любовь.
…Немного погодя Кристин открыла глаза. Она была в полном и ясном сознании и сидела, обложенная подушками, в кровати в спальном покое. Склонившись над нею, стояла какая-то монахиня, нижняя часть лица которой была закрыта полотняной повязкой, и Кристин ощутила запах уксуса.
По глазам и по маленькой красной бородавке на лбу она узнала сестру Агнес. И уже наступил день – ясный серый свет вливался в горницу сквозь маленькое оконце.
Она больше не страдала – она лишь вся была в испарине и страшно ослабла и устала, да в груди у нее кололо и саднило при каждом вздохе. Она жадно выпила освежающее питье, которое сестра Агнес поднесла к ее губам. Но ей было холодно…
Кристин откинулась обратно на подушки и припомнила теперь все, что случилось нынче ночью. Но туман бредовых сновидений рассеялся совершенно – она поняла, что была, как видно, немного не в себе… И все-таки хорошо, что ей удалось свершить доброе дело – спасти мальчугана и помешать этим людям взять на душу подобное злодейство. Она знала, что должна радоваться ниспосланному ей счастью, тому, что ей удалось сделать незадолго до смерти. Но она была не в силах по-настоящему радоваться, а скорее испытывала удовольствие, какое чувствовала в свое время дома, в Йорюндгорде, лежа, усталая, в постели, после хорошо завершенных дневных трудов. А потом ей надо еще поблагодарить Ульва.
…Она назвала его имя, а он, должно быть, сидел где-нибудь близко, приткнувшись у дверей, и услыхал ее, потому что сразу подошел к ней и встал перед кроватью. Кристин протянула ему руку, и он так надежно и крепко пожал ее.
Вдруг умирающая забеспокоилась, и руки ее принялись ощупывать складки рубашки у шеи.
– Что такое, Кристин? – спросил Ульв.
– Крест, – прошептала она, с трудом вытаскивая позолоченный крест отца. Она вспомнила, что вчера пообещала дать что-нибудь на помин души этой бедняги Стейнюнн. Тогда она позабыла, что в этом мире ей уже больше ничего не принадлежало. У нее теперь больше не было ничего своего, кроме этого креста, полученного от отца, да еще венчального кольца. Кристин все еще носила его на руке.
Она сняла его с пальца и стала рассматривать. Кольцо лежало на руке, такое тяжелое, из чистого золота, украшенное большими красными камнями. «Эрленд…» – подумала она, и ей показалось, что лучше отдать его, – она не знала почему, но ей казалось, что так надо. Измученная, она закрыла глаза и протянула кольцо Ульву.
– Кому ты его завещаешь? – тихо спросил он и, не получив ответа, добавил: – Ты хочешь, чтобы я отдал его Скюле?..
Кристин замотала головой, по-прежнему не открывая глаз.
– Стейнюнн, я обещала – заупокойные за нее… Она открыла глаза и посмотрела на кольцо,
лежавшее на темной ладони кузнеца. И слезы бурным потоком хлынули у нее из глаз. Ей показалось, будто она никогда раньше до конца не понимала, что означает это кольцо. Она вспомнила ту жизнь, с которой оно ее повенчало, ее жизнь, на которую она сетовала, ворчала, роптала и которой всячески противилась. И все-таки она любила эту жизнь, она радовалась и плохому и хорошему, и не было дня, который бы она согласилась вернуть господу богу, не было такого страдания, которым бы она пожертвовала без сожаления…
Ульв и монахиня обменялись несколькими словами, которых она не расслышала, и кузнец вышел из горницы. Кристин хотела поднять руку, чтобы отереть глаза, но не в силах была это сделать; рука так и осталась лежать у нее на груди. У нее так болело все внутри, рука казалась такой тяжелой, да еще кольцо как будто продолжало сидеть на пальце. У Кристин снова начало мутиться в голове – ей непременно нужно было убедиться, что кольца и вправду больше не было, что ей не померещилось, будто она его отдала. Теперь она начала сомневаться и во всем остальном, что было этой ночью: ребенок в могиле, темное море с быстрыми, легкими всплесками волн, труп, который она несла, – она не знала, было ли все это во сне или наяву. И не в силах была открыть глаза…
– Сестра, – сказала монахиня, – ты не спи покуда – Ульв пошел за священником.
Кристин, разом очнувшись, снова устремила взгляд на руку. Золотого кольца и точно не было, но от него осталась стертая до блеска полоска на среднем пальце. Она походила на шрам, затянутый тонкой белой кожей, и особенно резко выделялась на смуглой и заскорузлой руке. Кристин казалось даже, что она будто различает два круглых пятнышка, следы от рубинов с обеих сторон, а посредине, словно мелкую вязь, – букву М, след от пластинки, на которой в золоте был вырезан священный знак имени девы Марии.
И последней ясной мыслью, промелькнувшей в ее мозгу, была мысль о том, что она непременно умрет еще до того, как эта полоска успеет исчезнуть; и она радовалась этому. Непонятным ей чудом, в существовании которого она, однако, была убеждена, казалось Кристин то, что бог по рукам и ногам связал ее договором, заключенным без ее ведома ради ее же блага, договором любви, излитой на нее. И вопреки ее своеволию, вопреки ее тяжелому, земному нраву остатки этой любви все же сохранились в ней. Они согревали ее, как солнце согревает землю, они дали всходы, которые не смогли уничтожить до конца ни самый жаркий огонь, ни яростный гнев плотской любви.
Она была служительницей бога – его строптивой, недовольной служанкой, чаще всего угодливой в своих молитвах и неверной в глубине своего сердца, ленивой и небрежной, нетерпеливой в часы испытаний, непостоянной в своих поступках. И все же он держал ее как слугу свою, и под блестящим золотым кольцом она тайно был отмечена этой полоской – знаком служительницы бога, принадлежавшей тому господину и королю, который пришел теперь, несомый освещенными руками отца Эйлива, чтобы дать ей свободу и избавление…
Сразу после того, как отец Эйлив прочитал последнее напутствие, причастил и соборовал ее, Кристин, дочь Лавранса, вновь потеряла сознание. У нее все время шла горлом кровь, она пылала в лихорадке, и священник, оставшийся подле нее, сказал монахиням, что теперь дело быстро пойдет к концу.
…Несколько раз умирающая приходила в сознание настолько, что узнавала то одного, то другого – отца Эйлива, сестер-монахинь; раз узнала и сама фру Рагнхильд; видела она и Ульва. Она старалась показать, что узнавала их, показать, как ей приятно, что они подле нее и желают ей добра. Но тем, кто стоял подле, казалось, что она просто перебирала руками в агонии.
Раз она увидела лицо Мюнана – ее маленький сынок подсматривал за ней в дверную щелку. Потом он спрятал головку, а мать продолжала пристально смотреть на дверь, ожидая, не выглянет ли мальчик снова. Но вместо него появилась фру Рагнхильд. Она подошла и вытерла ей лицо влажным платком, и это тоже было приятно… Потом все исчезло в темно-красном тумане и в грохоте, который вначале все нарастал и нарастал, но мало-помалу замер вдали, а красная туманная мгла поредела, и посветлела, и под конец сменилась легкой дымкой, похожей на утренний туман, который обычно бывает перед восходом солнца. Стало совсем тихо, и Кристин поняла, что она умирает…
Отец Эйлив и Ульв, сын Халдора, вместе вышли от умершей. Они остановились в дверях, ведущих на монастырский двор…
Выпал снег. Никто этого не заметил, пока они сидели подле нее, а она боролась со смертью. Белая пелена, покрывавшая отвесную крышу церкви, странно слепила глаза; колокольня светилась на фоне обложенного серыми тучами неба. Снег, такой нежный и белый, лежал на всех оконных рамах и выступах, опушил серые камни церковных стен. И оба они помедлили, словно не решаясь запятнать следами своих ног тонкий покров свежевыпавшего снега.
Они жадно вдыхали воздух. После удушливого запаха, который всегда стоит в помещении больного чумой, он был таким сладостным на вкус – прохладным, легким и чуть-чуть пустым, но казалось, будто этот снегопад смыл поветрие и заразу, – воздух был приятен, как свежая вода.
На башне вновь зазвонил колокол – мужчины взглянули наверх, туда, где за слуховыми оконцами рождались звуки. Легкие снежинки от сотрясения отделялись от остроконечной колокольни и, обнажая черный гонт крыши, скатывались вниз и превращались в снежинки.
– Вряд ли этот снег останется лежать, – сказал Ульв.
– Он, верно, растает еще до вечера, – ответил священник.
Бледные золотистые просветы появились в облаках, а на снег упал слабый, словно нащупывающий путь, робкий луч солнца.
Мужчины остановились, и Ульв, сын Халдора, сказал:
– Вот о чем я думаю, отец Эйлив: я хочу пожертвовать здешней церкви немного земли… и кубок Лавранса, сына Бьёргюльфа, который она отдала мне… Отслужить заупокойную по ней, и по моим крестникам, и по нему, Эрленду, моему родичу…
Священник так же тихо и не глядя на Ульва ответил:
– Сдается мне, тебе следовало бы возблагодарить того, кто привел тебя сюда вчера вечером, – ты можешь быть доволен тем, что тебе довелось помочь ей в испытаниях этой ночи.
– Как раз так я и думал, – сказал Ульв, сын Халдора, а потом усмехнулся. – И вот что, отец, я почти раскаиваюсь, что держал себя таким праведником… с ней.
– Бесполезно тратить время на столь тщетное раскаяние, – ответил священник.
– Что ты хочешь сказать?
– Раскаиваться надо только в содеянном грехе, думаю я.
– Как это?
– Потому что никто не добр, кроме бога. И ничего доброго мы не можем свершить без его помощи. Так что совсем уж бессмысленно раскаиваться в добром деянии, Ульв, потому что добро, свершенное тобой, не может пойти прахом; и, сокрушись все горы на свете, оно останется…
– Да, да. Непонятно мне это, отец мой. Устал я…
– Да, конечно, и ты, верно, проголодался, Ульв, придется тебе пойти со мной в поварню, – сказал священник.