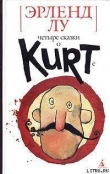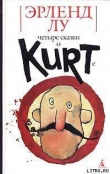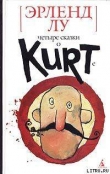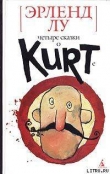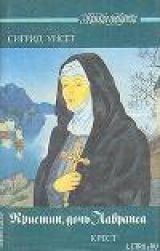
Текст книги "Крест"
Автор книги: Сигрид Унсет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 33 страниц)
Часть третья
КРЕСТ
I
Все огни в конце концов догорают…»
Пришло время, когда эти слова Симона Дарре снова отозвались в сердце Кристин.
Было лето четвертого года после смерти Эрленда, сына Никулауса, и из всех сыновей Кристин лишь Гэуте и Лавранс оставались с матерью в Йорюндгорде.
Два года назад сгорела старая кузница, и Гэуте отстроил новую близ проезжей дороги, к северу от усадьбы. Старая кузница стояла южнее жилых домов, у самого берега реки, в низине, между курганом Иорюнда и огромными грудами камней, которые, как видно, были свезены с полей и сложены здесь еще в незапамятные времена. Почти каждый год в половодье вода подступала к самой кузнице.
Теперь на склоне холма оставались лишь растрескавшиеся от жара тяжелые каменные плиты на месте порога да еще сложенный из кирпичей горн. Нежная, мягкая светло-зеленая поросль пробивалась меж чернеющих на земле углей.
Неподалеку от пожарища у Кристин в нынешнем году было поле льна. Ближние к усадьбе земли Гэуте решил занять под хлеба, хотя хозяйки Йорюндгорда исстари сеяли там лен и сажали лук. Кристин часто ходила теперь к старой кузнице – и не только для того, чтобы присматривать за льном. Каждый четверг, в конце дня, она носила дары – пиво и еду – хозяину кургана. А в светлые летние вечера одинокий горн на лугу вполне можно было принять за древний языческий алтарь. Серовато-белый, покрытый копотью, он смутно выделялся среди молодой травы. Летом, в жаркие солнечные дни, после полудня Кристин ходила с корзиночкой к грудам камней собирать малину или листья иван-чая, из которых очень хорошо готовить освежающее питье от лихорадки.
Последние звуки церковного колокола в час полуденной молитвы к божьей матери замирали среди гор в напоенном светом воздухе. Казалось, будто вся округа расположилась на покой под ярким, палящим солнцем. С самого раннего утра, едва выпадала роса, на пестреющих цветами лугах у ближних и дальних усадеб слышались пение кос, скрежет точильных брусков и перекликающиеся голоса. Но теперь все звуки работ смолкли; наступил час обеденного отдыха. Кристин сидела у груды камней и прислушивалась. Шумела река, чуть-чуть шелестела листва в роще, с тихим гудением вилась над лугом мошкара, позвякивал колокольчик не отправленной на выгон телки. Какая-то птица быстро и бесшумно пролетела вдоль ольшаника, другая выпорхнула из густой травы и со звонким щебетом скрылась в кустах чертополоха.
Но и движущиеся по склону холма синие тени, и предвещавшие хорошую погоду облака, которые поднимались над гребнем гор и таяли в глубоком небе, и сверкающие из-за деревьев воды реки, и солнечные светлые блики повсюду на листве – вся эта картина, от которой веяло тишиной, говорила скорее внутреннему слуху Кристин, нежели ее взору. Надвинув низко на лоб косынку, Кристин внимала этой игре света и теней над долиной.
«Все огни в конце концов догорают…»
В ольшанике, растущем вдоль топкого берега реки, среди густых зарослей ивняка в полутьме поблескивали небольшие болотца. Здесь росли осока и пушица; плотным ковром расстилалась болотная лапчатка с пятиконечными серо-зелеными листьями и темно-красными цветами. Кристин всегда собирала целые охапки этого растения. Она не раз пыталась узнать, имеет ли оно какую-нибудь целебную силу, сушила его, готовила отвар и настаивала на пиве и меду. Но, как видно, пользы от него не было никакой. И все-таки Кристин продолжала ходить в ольшаник и, насквозь промочив башмаки, собирала болотную лапчатку.
Она обрывала со стеблей листья и плела венок из красновато-бурых цветов. По окраске они напоминали одновременно и багряное вино и коричневый медовый напиток. У завязи цветы были покрыты липкой, похожей на мед влагой. Иногда Кристин сплетала из этих цветов венок для изображения девы Марии, висевшего в верхней горнице. Таков был обычай в южных странах. Кристин узнала о нем от священников, которые бывали в тех краях. А больше ей было некому плести венки. Здесь, в долине, не принято, чтобы молодые парни обряжали себя венками, когда они отправляются на гуляние. В Трондхеймской области юноши, побывавшие в дружине при дворе, кое-где ввели этот обычай. Мать подумала, что такой густой темно-красный венок очень шел бы льняным волосам Гэуте и к его светлому лицу или к русой голове Лавранса.
…Давным-давно миновали те времена, когда Кристин в ясные долгие летние дни отправлялась на лежащий повыше Хюсабю луг в сопровождении кормилиц и всех своих маленьких сыновей. Она и Фрида не успевали плести венки для целой оравы нетерпеливых малышей. Кристин вспоминает, что в ту пору она еще кормила Лавранса грудью, но Ивар и Скюле считали, что сосунку тоже надобен венок… «Только цветочки должны быть совсем малюсенькие», – говорили четырехлетние близнецы…
Теперь у нее были только взрослые дети.
Лаврансу-младшему минуло пятнадцать зим; все же его нельзя было считать вполне взрослым. Однако мало-помалу Кристин стала замечать, что этот сын более далек от нее, чем все остальные дети. Не то чтобы он намеренно избегал ее, как Бьёргюльф, или был бы таким замкнутым и несловоохотливым, как тот… Вообще-то, он был, пожалуй, гораздо молчаливее, да только никто этого не замечал, пока все сыновья жили дома: Лавранс казался здоровым и жизнерадостным подростком, был всегда весел и приветлив, и все любили этого милого мальчугана, не задумываясь над тем, что Лавранс почти всегда бывает один и мало с кем разговаривает.
Он считался красивейшим среди всех красавцев сыновей Кристин из Йорюндгорда. И хотя матери самым красивым всегда казался тот сын, о котором она думала в эту минуту, но и она ощущала сияние, исходившее от Лавранса, сына Эрленда. Его темно-русые волосы и свежие, как яблоки, щеки были словно пропитаны золотистым солнечным светом, а большие темно-серые глаза казались усеянными золотыми искорками. Лавранс очень походил на мать, какою та была в молодости, но только ее светлые краски у сына были словно чуть тронуты загаром. Мальчик был рослым и сильным для своих лет, ловко и умело выполнял работу, которую ему поручали, охотно повиновался матери и старшим братьям. Он неизменно бывал весел, ласков и обходителен. Но все-таки чувствовалась в нем какая-то странная отчужденность.
Зимними вечерами, когда домочадцы собирались в ткацкой и, занимаясь каждый своим делом, коротали время за веселыми разговорами и шутками, Лавранс сидел одиноко и словно о чем-то грезил. Часто летними вечерами, когда дневные труды в усадьбе заканчивались, Кристин подсаживалась к мальчику, который лежал в траве, задумчиво жуя смолку или вертя губами листик щавеля. Она заговаривала с ним, наблюдала за его взглядом. Ей казалось, что мысли мальчика где-то блуждают и с трудом возвращаются к действительности. Однако потом он приветливо улыбался матери, толково и с готовностью отвечал ей. Целыми часами могли они сидеть вот так на пригорке и вести дружескую беседу. Но едва только мать поднималась, чтобы идти домой, как мысли мальчика снова уносились куда-то далеко-далеко.
И никак она не могла понять, о чем это мальчик так глубоко задумывается. Лавранс был довольно искусен в разных состязаниях, отлично владел оружием, но относился ко всему этому не с таким рвением, как остальные братья. Сам он никогда не отправлялся один на охоту, но бывал доволен, когда Гэуте брал его с собою. И похоже, что этот красивый подросток пока еще не замечает, какие нежные взгляды бросают на него женщины. У него не было никакой охоты до книжной премудрости, и он, казалось, не обращал ни малейшего внимания на разговоры о том, что братья намереваются уйти в монастырь. Кристин видела, что он предполагает все свои дни провести здесь, в усадьбе, помогая Гэуте по хозяйству, – об ином будущем он, верно, и не помышляет…
Временами Кристин казалось, что этой своей удивительной отрешенности от всего окружающего Лавранс несколько напоминает отца. Но у Эрленда тихая мечтательность сменялась веселым озорством, а Лавранс не унаследовал ничего от порывистого и горячего нрава отца. Нет, Эрленд никогда не был так далек от всего, что творилось вокруг…
Лавранс был теперь самым младшим. Мюнан уже давно покоился на кладбищенском пригорке, рядом со своим отцом и маленьким братом. Он умер ранней весной, спустя год после убийства Эрленда.
После смерти мужа вдова ходила по усадьбе, словно ничего не видя и не слыша. Нечто большее, нежели горечь и боль, ощущала она в душе и во всем теле: какой-то леденящий холод и вялое бессилие, как будто сама она медленно истекала кровью от смертельной раны, полученной Эрлендом.
Вся ее жизнь покоилась в его объятиях с того самого грозового дня на сеновале в Скуге, когда она впервые отдалась Эрленду, сыну Никулауса. В ту пору она была такой юной и неопытной; она даже не сознавала, что делает, и только старалась скрыть, что больше всего ей хотелось плакать, потому что Эрленд причинил ей боль; но она улыбалась, так как думала, что принесла своему любимому драгоценнейший дар. Худым ли, хорошим ли был этот дар, но она отдала Эрленду всю себя, целиком и навсегда. Беззаботное девичество, которое господь в милосердии своем украсил красотою и здоровьем, судив ей родиться в почете и достатке у заботливых родителей, воспитавших ее в любви и строгости, – все это обеими руками отдала она Эрленду и с тех пор жила в его объятиях.
Как часто в эти минувшие годы принимала она любовь Эрленда сурово, вся холодея от гнева; как часто покорно склонялась пред волей своего супруга, хотя и чувствовала, что погибает от усталости. Глядя на красивое лицо Эрленда, на его здоровое, прекрасное тело, она думала с какой-то гневной радостью, что все это теперь уже не может ослепить ее настолько, чтобы она не замечала недостатков мужа. Да, он был все так же красив и все так же молод, и ласки его порою бывали все так же горячи, как в те годы, когда она была юной девушкой. Но она-то стала старше, думала Кристин, и победоносное чувство опьяняло ее. Нетрудно сохранить молодость тому, кто не желает ничему учиться, кто не дает себе труда приспособиться к обстоятельствам и не борется за то, чтобы переделать жизнь по своей воле.
Но даже когда она принимала его поцелуи гневно сомкнутыми устами, когда всем своим существом восставала против него, борясь за будущее сыновей, – даже тогда Кристин чувствовала, что и этой борьбе она отдается с тем жарким огнем, который Эрленд когда-то зажег в ее крови. Годы охладили ее, думала Кристин, потому что она не воспламенялась больше, когда у Эрленда появлялся прежний блеск в глазах и глубокие коты в голосе, некогда, в первую пору их знакомства, заставлявшие ее, безвольную и обессиленную от счастья, падать в его объятия. Но столь же исступленно и горячо, как мечтала она когда-то о свиданиях с Эрлендом, чтобы утолить в них страх и горечь разлуки, стала она теперь мечтать об иной цели, которая будет достигнута, быть может, через много лет, когда она, уже старая, убеленная сединами женщина, увидит сыновей своих в безопасности и достатке. И прежнюю боязнь перед неведомым будущим она испытывала теперь уже за сыновей Эрленда. Ее по-прежнему мучило страстное желание, которое было сильнее, чем голод или неутолимая жажда, – желание увидеть благоденствие своих сыновей.
И так же, как она раньше отдала себя Эрленду, предалась она теперь всей душою тому миру, который вырастал вокруг их совместной жизни: бросалась выполнять любое требование, хваталась за любую работу, которую нужно было сделать для обеспечения блага Эрленда и его сыновей. Кристин неуловимо ощущала свою связь с Эрлендом во всем, что бы она ни делала: когда сидела в Хюсабю и вместе со священником размышляла над грамотами из мужниного ларца, когда беседовала с издольщиками и работниками, хлопотала со служанками в кладовых и в поварне или когда сидела ясным летним днем на конском выгоне вместе с кормилицами, а дети резвились вокруг. Ей казалось, что против Эрленда обращала она свой гнев, когда что-нибудь не ладилось в хозяйстве или дети поступали наперекор матери. Но к нему же устремлялась и ее сердечная радость, когда летом до дождей убирали сено или осенью свозили в амбары добрый урожай зерна, когда подрастали телята или когда дети весело визжали и смеялись во дворе. Мысль, что она всецело принадлежит Эрленду, скрытно горела в сердце Кристин, когда она откладывала только что сшитую праздничную одежду для своих семи сыновей или с довольным видом разглядывала груду красивых вещей, над которыми любовно трудилась в течение всей зимы. Это на Эрленда досадовала она и его винила в своей усталости, когда вечером вместе со служанками возвращалась с берега реки, где они, вскипятив в котле воду, мыли шерсть от последней стрижки и полоскали ее в потоке, – и сама хозяйка шла обессиленная, будто ее били по пояснице, вся черная от копоти, а платье ее было настолько пропитано пятнами жира и овечьим запахом, что ей казалось, будто она не сможет отмыться и после трех бань.
А теперь, когда Эрленда не стало, вдове его казалось, что все ее неусыпные хозяйственные хлопоты утратили всякий смысл. Он зарублен, и потому она тоже должна умереть, подобно дереву с подрубленными корнями. Молодые побеги, которые росли вокруг нее, теперь пусть растут на собственных корнях. Они уже достаточно взрослые, чтобы самим вершить свою судьбу. И одна мысль стрелою пронзила Кристин: ах, если бы она поняла все это раньше, когда Эрленд говорил ей об этом. Смутные картины жизни с Эрлендом в его маленькой горной усадьбе проходили перед взором Кристин – она и муж, вновь помолодевшие, и с ними их младшее дитя. Но Кристин не раскаивалась и не скорбела. Сама она не могла отделить свою жизнь от жизни сыновей. А теперь смерть скоро разлучит их, потому что без Эрленда у нее не было сил жить. То, что случилось, и то, что ждет впереди, – все это ее доля. Все случается так, как суждено.
У нее поседели волосы и поблекла кожа. Она едва давала себе труд быть опрятной или должным образом одеваться. Ночами Кристин вспоминала свою жизнь с Эрлендом, а днем ходила точно в полусне, никогда не заговаривала ни с кем первая и как будто даже не слышала, когда младшие дети обращались к ней. Некогда проворная и заботливая хозяйка, она не прикасалась теперь ни к какой работе. Прежде любовь питала все ее старания в повседневных делах. Эрленд не очень-то благодарил ее за это – не такой любви желал он от нее. Но Кристин ничего не могла с собою поделать. Такова уж ее природа – любить деятельно и заботливо.
Казалось, Кристин медленно погружается в оцепенение, подобное смерти. Но тут в округу пришло поветрие, сыновья ее слегли, и мать пробудилась к жизни.
Недуг этот был более опасен для взрослых, нежели для детей. Ивар хворал очень тяжело, и никто не думал, что он выживет. Горячка и беспамятство пробудили в юноше богатырскую силу, он страшно кричал, то и дело порываясь вскочить и взяться за оружие. Видно, ему вновь чудилась смерть отца. Ноккве и Бьёргюльфу стоило больших усилий удержать его в постели. А после свалился и Бьёргюльф. Лавранс лежал с опухшим до неузнаваемости, покрытым сыпью лицом, а глаза его мертвым, тусклым блеском светили из узких щелок. Казалось, будто их пожирает огонь лихорадки.
Мать бодрствовала подле этих трех сыновей в верхней горнице. Ноккве и Гэуте перенесли эту болезнь в младенчестве, а Скюле хворал не так уж тяжко. Они с Мюнаном лежали внизу, а за ними ходила Фрида. Никто не думал, что Мюнану угрожает опасность, но он никогда не отличался крепким здоровьем, и как-то вечером, когда уже все были уверены, что Мюнан почти исцелен, он вдруг потерял сознание. Фрида едва успела кликнуть Кристин, та сбежала вниз, а Мюнан тут же угас у нее на руках.
Смерть мальчика пробудила мать и повергла ее в новое, живое отчаяние. В ту пору, когда умер маленький Эрленд, безумная скорбь Кристин о малютке, оторванном смертью от материнской груди, была словно окрашена в красный цвет воспоминаниями обо всех сокрушенных мечтах о счастье. Тогда самая буря, поднявшаяся в сердце Кристин, удерживала ее на ногах. Но крайнее напряжение, которое было сломлено в тот момент, когда на ее глазах убили мужа, оставило после себя такую усталость в душе, что Кристин была уверена: скоро и она умрет от печали об Эрленде. И эта уверенность смягчала жалящую остроту боли. Кристин чувствовала, как сумерки и тени все больше обступают ее, и ожидала, что скоро и перед ней разверзнется могила…
Теперь над мертвым тельцем Мюнана мать стояла поседевшая от горя, но пробудившаяся. Этот красивый, милый мальчуган так долго был ее меньшеньким – ее последнее дитя, которое она еще могла баловать и над которым посмеивалась в душе, когда ей приходилось серьезным и строгим тоном выговаривать ему за его маленькие, детские проступки. И он был таким ласковым и так любил свою мать! Ей казалось, будто вонзили нож в ее живую плоть. Нет, она все еще была крепко связана с жизнью. Не может женщина умереть так легко, как это казалось Кристин, если она вспоила своей кровью так много новых молодых сердец.
В холодном, трезвом отчаянии ходила она от мертвого ребенка, лежащего на смертной соломе, к своим больным сыновьям. Мюнан лежал в старом стабюре, где раньше лежал его маленький брат и затем отец, – три смерти в усадьбе меньше чем за один год. С замирающим от страха сердцем, но застывшая и молчаливая, ждала Кристин, что вот-вот умрет следующий ребенок, – она ждала этого, как ожидают неотвратимой судьбы. Никогда не понимала она в достаточной мере, каким счастьем одарил ее бог, дав ей так много детей. Нет, хуже всего, что она все-таки отчасти понимала это, но думала больше о муках, о боли, о страхе, о заботах. Хотя по той пустоте, которую Кристин ощущала всякий раз, когда ребенок вырастал и уходил из-под ее крыла, и по тому восторгу, который она чувствовала, когда новое дитя появлялось у ее груди, Кристин снова и снова убеждалась, что радостей дети приносят несказанно больше, нежели горя и забот. Кристин досадовала, что отец ее детей был таким ненадежным человеком и столь мало пекся о тех, кто продолжит его род. Но она всегда забывала, что он не был иным и в то время, когда она сама нарушила божью заповедь и растоптала свою собственную родню, чтобы соединиться с ним.
И вот она лишилась Эрленда. А теперь ждала, что на ее глазах умрут ее сыновья, один за другим. И, быть может, под конец она останется совсем одна – мать, потерявшая детей.
…Многие вещи, которые она замечала и раньше, проходили мимо ее сознания в те времена, когда весь мир виделся ей словно бы сквозь дымку ее и Эрленда любви. Кристин замечала, как серьезно относится Ноккве к тому, что он старший сын в семье и должен быть главою и вожаком для всех своих братьев. Видела она и то, что он очень любит Мюнана. И все-таки Кристин была потрясена, как чем-то неожиданным, бурной печалью, охватившей Ноккве после смерти младшего брата.
Но другие сыновья все-таки исцелились, хотя для этого понадобилось немало времени. На пасху Кристин могла уже отправиться в церковь с четырьмя сыновьями. Бьёргюльф еще хворал, а Ивар был слишком слаб, чтобы выходить из дома. Лавранс очень вытянулся за время болезни, и вообще все, что произошло за эти полгода, как будто сделало его много старше своего возраста.
И тогда Кристин показалось, что она уже старая женщина. Она всегда думала, что женщина молода, пока у нее есть малые дети, которые спят ночью в ее объятиях, играют у ее ног днем и денно и нощно требуют ее забот. Когда же малыши подрастают, мать становится старухой.
Ее новый зять Яммельт, сын Халварда, говорил о том, что сыновья Эрленда еще очень юны и что самой Кристин немногим больше сорока лет: она, наверно, скоро решит, что ей снова нужно выйти замуж. Кристин надобен супруг, который поможет ей управлять ее владениями и воспитывать младших сыновей. Яммельт называл многих достойных людей, которые, по его разумению, могли бы быть подходящими мужьями для Кристин. Пусть Кристин приедет погостить к ним в Элин нынче осенью, Яммельт позаботится о том, чтобы она встретилась с этими людьми, а после можно будет все обсудить.
Кристин слабо улыбнулась. Да, это верно, ей было не больше сорока лет. И если бы она услыхала о какой-нибудь другой женщине, которая осталась вдовой в столь молодых годах с целой ватагой подрастающих детей, то и она рассудила бы точно так же, как Яммельт: этой женщине нужно снова вступить в брак, искать опоры у нового супруга и, быть может, даже родить ему еще детей. Но сама Кристин не хотела этого…
Яммельт из Элина приехал в Йорюндгорд сразу же после пасхи, и Кристин во второй раз встретилась с новым супругом своей сестры. Она и ее сыновья не были ни на обручении в Дюфрине, ни на свадебном пиру в Элине. Оба эти празднества пришлись как раз на ту весну, когда Кристин ждала своего последнего ребенка. Как только Яммельт прослышал об убийстве Эрленда, сына Никулауса, он сразу же поспешил в Силь. Он делом и советом помогал сестре своей жены и ее сыновьям, старался как мог привести в порядок все дела после смерти хозяина усадьбы и взялся вести тяжбу против убийц Эрленда, поскольку сыновья убитого еще не достигли совершеннолетия. Но тогда Кристин еще не сознавала ничего, что происходило вокруг. Даже суд над Гюдмюндом, сыном Туре, которого объявили повинным в насильственной смерти Эрленда, казалось почти не интересовал ее.
В этот приезд зятя она чаще беседовала с ним, и он показался ей славным человеком. Яммельт был не слишком молод: одних лет с Симоном Дарре. Это был степенный, уравновешенный человек, высокий, дородный и очень смуглый. Черты лица у него были довольно привлекательны, но плечи казались немного сутулыми. Он и Гэуте сразу же подружились. Ноккве и Бьёргюльф после смерти отца все больше держались вместе и сторонились всех остальных. Но Ивар и Скюле сказали матери, что им нравится Яммельт.
– И все-таки, – добавили они, – по нашему мнению, Рамборг следовало бы больше чтить память своего первого супруга и посидеть вдовою подольше. Новому ее мужу, разумеется, далеко до Симона Дарре.
Кристин замечала, что оба ее сорванца еще не забыли Симона, сына Андреса. Его они, бывало, слушались, от него могли снести и колкое словцо и добродушную насмешку. А ведь запальчивые мальчишки и от собственных родителей не способны были выслушать замечание без того, чтобы глаза их не начинали сверкать гневом, а руки – сжиматься в кулаки.
Пока Яммельт находился в Йорюндгорде, сюда же приехал погостить и Мюнан, сын Борда. В нем теперь почти ничего не осталось от прежнего блестящего рыцаря Плясуна. Некогда это был крупный и статный мужчина. В былые годы он не без достоинства носил свое грузное тело и оттого казался более высоким и величавым, чем был на самом деле. А сейчас подагра совершенно скрутила его, и кожа висела складками на его исхудавшем теле. Он походил теперь на маленького ссохшегося гнома – плешивый, с редкой бахромой жухлых волос на затылке. Когда-то на упругой, мясистой нижней части его лица темнела густая иссиня-черная щетина, а теперь только жесткие седые пучки буйно росли в мягких, отвислых складках шеи и подбородка, там, где ему не удавалось достать их бритвой. Глаза у него стали гноиться, в уголках рта накипала слюна, и вдобавок он очень мучился болезнью желудка.
С ним приехал его сын Инге, которого люди называли Мухой, по прозвищу матери. Инге Муха был теперь уже пожилым человеком. Мюнан многое делал, чтобы помочь этому своему сыну добиться преуспевания. Он высватал ему богатую невесту и убедил епископа Халварда оказать Инге свое покровительство. Дело в том, что супруга Мюнана доводилась епископу двоюродной сестрой, и господин Халвард охотно помог Инге разбогатеть для того, чтобы тот не зарился на наследство детей фру Катрин. Епископу была пожалована должность королевского воеводы в Хедемарке, и он сделал Инге, сына Мюнана, своим управителем, так что теперь Инге владел немалыми землями в Скэуне и Ридабю. Его мать тоже купила себе усадьбу в тех краях. Она стала теперь очень набожной женщиной, многим оказывала благодеяния и дала обет жить в целомудрии до конца дней своих.
– Ты не думай, она вовсе еще не такая старая и дряхлая, – с обидой сказал Мюнан, видя, что Кристин улыбается.
Ему ужасно хотелось устроить так, чтобы Брюнхильд переехала к нему и вела бы хозяйство в его усадьбе близ Хамара, да только она не пожелала.
Так мало радости выпало ему на старости лет, жаловался господин Мюнан. Дети у него такие несговорчивые. Те, что были рождены от одной матери, жили между собою в постоянной вражде, склочничали и бранили своих сводных братьев и сестер. Хуже всех была его младшая дочь. Мюнан прижил ее с любовницей, когда был уже женатым человеком, и оттого не мог оставить ей никакого наследства. Поэтому она, как могла, обирала отца, пока он жив. Она была вдовой и поселилась в Скугхейме – усадьбе, где постоянно жил господин Мюнан, и ни отец, ни братья не в состоянии были выдворить ее оттуда. Мюнан боялся ее как огня, но когда он решался сбежать к кому-либо из других детей, то и те начинали его мучить жалобами на жадность и несправедливость братьев и сестер. Всего лучше чувствовал он себя у младшей, рожденной в браке дочери, которая была монахиней на острове Гимсёй. Он любил наезжать к ней и некоторое время жил при монастыре, в странноприимном доме. Тут он начинал ревностно печься о своей душе и, следуя духовным наставлениям дочери, проводил все время в покаяниях и молитвах. Но долго выносить такую жизнь ему было не под силу. Кристин не была уверена в том, что сыновья Брюнхильд относятся к отцу намного доброжелательнее, чем другие дети; но сам Мюнан в этом никогда не хотел признаться. Он любил этих детей больше всех других своих многочисленных отпрысков.
Но, как ни жалок был теперь Мюнан, именно от общения с ним впервые начала как будто оттаивать окаменевшая печаль Кристин. Господин Мюнан с утра до ночи говорил об Эрленде. Если только он не сетовал на свои собственные злоключения, то рассказывал об умершем родиче и похвалялся его подвигами. Охотнее всего Мюнан повествовал о непутевой молодости Эрленда, о его буйном озорстве в те годы, когда юноша только-только вырвался в широкий свет, сначала из скучного Хюсабю, где фру Магнхильд гневалась на его отца, а отец гневался на старшего сына, а затем из Хестнеса, из-под опеки набожного, сурового приемного отца, господина Борда. На первый взгляд, эта болтовня господина Мюнана могла показаться довольно странным утешением для охваченной горем вдовы Эрленда. Но рыцарь по-своему любил Эрленда и всегда считал, что его молодой родич превосходит всех по красоте, доблести… да и по уму тоже.
– Вот только взяться за ум он никогда не желал, – прибавлял Мюнан с горячностью.
И хотя Кристин невольно думала о том, что вовсе не так уж хорошо было для Эрленда в шестнадцать лет попасть в королевскую дружину, имея такого наставника и вожака, как Мюнан, все же она не могла не улыбаться печально и нежно, когда старик, брызжа слюною и отирая слезы с морщинистых, покрасневших век, рассказывал об искрящейся жизнерадостности Эрленда в его ранней юности, еще до того, как он ввязался в несчастную историю с Элиной, дочерью Орма, и навсегда обжегся на этом.
Яммельт, сын Халварда, который вел серьезную беседу с Гэуте и Ноккве, с удивлением поглядывал на свояченицу. Она уселась на скамью, рядом с этим омерзительным стариком и Ульвом, сыном Халдора, человеком весьма угрюмого нрава, по мнению Яммельта. Но Кристин улыбалась, когда беседовала с ними и потчевала их. Прежде Яммельт никогда не видел ее улыбки. Оказалось, что она очень красила Кристин, а тихий, грудной смех свояченицы звучал совсем как смех юной девушки.
Яммельт говорил, что все шестеро братьев никак не могут оставаться дома, в усадьбе матери. Нечего было и думать, что какой-нибудь состоятельный и равный им по рождению человек захотел отдать женщину из своего рода в супруги Никулаусу, если пять его братьев будут жить вместе с ним и, возможно, кормиться с доходов этой же усадьбы, когда обзаведутся семьями. А парню надо бы уж приискать жену – ему исполнилось двадцать зим, и он вырос дюжим и ладным молодцом. Поэтому Яммельт выразил желание взять с собою на юг Ивара и Скюле. Там уж он отыщет для них способ добиться успеха. Теперь, когда жизнь Эрленда, сына Никулауса, окончилась столь несчастливо, многие знатные вельможи в стране вспомнили, что убитый был им ровней и даже превосходил многих из них по рождению и по крови. Они вспомнили, что он был щедрый и великодушный человек, искусный и доблестный военачальник – да беда в том, что счастье отвернулось от него. Крайне суровое наказание было применено ко всем, кто оказался причастным к убийству хозяина в его собственной усадьбе. Яммельт говорил, что многие расспрашивали его о сыновьях Эрленда. На рождестве он повстречался с владельцами Сюдрхейма, и те упоминали, что юноши из Йорюндгорда доводятся им родичами. Господин Йон просил кланяться им и передать, что он встретит сыновей Эрленда, сына Никулауса, как близких родичей, если кто-либо из них пожелает поступить под его начало. Йон, сын Хафтура, собирался жениться на фру Элин, старшей дочери Эрлинга, сына Видкюна, и юная невеста спрашивала, походят ли юноши на своего отца. Она отлично помнила, как Эрленд гостил у них в Бьёргвине, когда она была ребенком; он казался ей тогда красивейшим из всех мужчин. А брат девушки, Бьярне, сын Эрлинга сказал: все, что он сможет сделать для сыновей Эрленда, он сделает с сердечной радостью.
Пока Яммельт говорил, Кристин смотрела на Сыновей-близнецов. Они все больше и больше становились похожими на своего отца. Шелковистые черные как вороново крыло волосы гладкими прядями лежали на голове, но слегка курчавились над лбом и у крепкой загорелой шеи. У них были узкие лица с крупными прямыми носами и маленькие, тонкого рисунка, рты, энергично-мускулистые в уголках. Но подбородки у них были более короткие и широкие, а глаза более темные, чем у Эрленда. А именно глаза Эрленда, по мнению Кристин, и делали его таким необычайно красивым. Когда Эрленд поднимал взор, то такими неожиданными казались его ясные, светло-голубые глаза на смуглом худощавом лице, обрамленном черными как смоль волосами.
Но глаза юношей сверкали сталью, когда Скюле, который всегда говорил за себя и за брата, держал ответную речь перед мужем своей тетки.
– Мы благодарим вас за доброе предложение, свояк. Но мы уже беседовали с господином Мюнаном и Инге и советовались со старшими братьями, и вышло так, что мы пришли к согласию с Инге и его отцом. Эти люди – наши самые близкие родственники со стороны отца. Мы поедем на юг с Инге и намереваемся пробыть в его усадьбе все это лето, а быть может, и подольше.