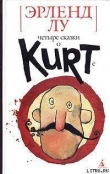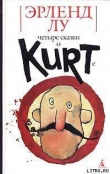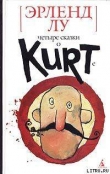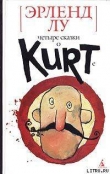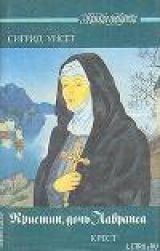
Текст книги "Крест"
Автор книги: Сигрид Унсет
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 33 страниц)
VI
Сыновьям она сказала, что отец должен перед отъездом уладить в Хэуге кое-какие дела. А к началу осени он вернется в Йорюндгорд.
Помолодевшая, с нежным румянцем на щеках с ласковой приветливостью во взоре, ходила она по своей усадьбе и за что ни бралась, делала все решительнее и беззаботнее, хотя успевала гораздо меньше, чем прежде, при своей обычной размеренной и спокойной повадке.
Если сыновьям случалось совершить какую-нибудь оплошность или в чем-нибудь не угодить ей, она не бранила их, как бывало, а только укоряла шутливо, а иной раз и вовсе оставляла их проступок без внимания.
Лавранс заявил, что хочет спать наверху, вместе со старшими братьями.
– Ну что ж, ты и впрямь, пожалуй, уже можешь считаться взрослым, сын мой. – Она запустила пальцы в густые золотисто-каштановые волосы мальчика и привлекла его к себе – он доставал ей уже до середины груди. – Ну, а ты, Мюнан, согласен еще недолго потерпеть, что твоя мать считает тебя ребенком?
Вечерами, ложась спать в нижней горнице, Мюнан очень любил, чтобы мать ласкала его, присаживаясь на край постели. Он прижимался головой к ее коленям и лепетал совсем по-детски. Он стыдился разговаривать днем, когда его могли слышать старшие братья. Мать и сын вдвоем мечтали о возвращении отца.
Потом мальчик отодвигался к стене, и Кристин натягивала на него одеяло. А сама зажигала свечу и садилась чинить и латать порванную одежду сыновей.
Она отстегивала пряжку, стягивавшую у выреза ее платье, и ощупывала рукой свои груди. Они стали округлыми и крепкими, как у молодой девушки. Потом она закатывала рукава до самого плеча и при свече рассматривала свои обнаженные руки. Они стали белее и полнее, чем прежде. Потом Кристин вставала и начинала расхаживать по горнице, сама чувствуя, как мягко она ступает в мягких домашних туфлях; она проводила ладонью по своим стройным бедрам: они уже не были
теперь сухими и жилистыми, как у мужчины. Кровь струилась в ее теле, словно весенние соки в дереве. Это молодость бродила в ней.
Она хлопотала в пивоварне вместе с Фридой, поливая теплой водой зерно для рождественского солода. Фрида забыла сделать это вовремя, и зерно совершенно пересохло. Но Кристин и не подумала отчитывать служанку – улыбаясь уголком рта, она принялась за дело, слушая, как Фрида придумывает себе всякие оправдания. Впервые в жизни Кристин сама забыла посмотреть, что делается у нее в пивоварне.
К рождеству Эрленд снова будет с нею. Как только она сообщит ему эту новость, он волей-неволей принужден будет мигом воротиться домой. Каким бы он ни был сумасбродом, ему придется уступить: должен же он понять, что ей нельзя ехать в Хзуг, где вокруг ни одной живой души, когда ей предстоят роды. Но она уже повременит посылать ему эту весть – правда, она уже твердо уверена, и все же – лучше подождать, пока она услышит, что дитя шевелится в ней… Осенью, на второй год после их переезда в Йорюндгорд, она выкинула… Правда, тогда она скоро утешилась… О нет, на этот раз ей нет нужды бояться такого исхода… Это просто не может случиться. И все-таки…
Она чувствовала, что должна собрать все свое существо, чтобы окутать, оградить крошечную, хрупкую жизнь, которую носит под сердцем, – так заслоняют горстью руки маленький, едва затеплившийся огонек…
Однажды на исходе осени Ивар и Скюле объявили ей, что хотят поехать в Хэуг: в горах теперь отличная погода, первые заморозки; они просят у нее позволения отправиться на охоту вместе с отцом, пока не выпал снег.
Ноккве и Бьёргюльф сидели за шахматной доской, они перестали играть и прислушивались к разговору.
– Не знаю, – проговорила Кристин. Она еще ни разу не подумала об этом – о том, кого пошлет известить Эрленда. Кристин посмотрела на близнецов. Она сама чувствовала, что это глупо, но у нее не поворачивался язык довериться этим подросткам. У нее мелькнула мысль: «Что, если послать с ними Лавранса? Пусть он с глазу на глаз поговорит с отцом. Он еще так мал, он не удивится… Но все-таки…»
– Отец ваш скоро воротится домой, – сказала она. – Вы только задержите его. К тому же мне все равно придется скоро послать ему известие.
Близнецы заворчали. Тогда Ноккве, подняв глаза от доски, коротко сказал: «Делайте, как вам велит мать, мальчуганы».
Незадолго до рождества она послала к Эрленду старшего сына:
– Скажи ему, сын мой, что я очень скучаю по нему… да и вы все тоже… – Она ни словом не обмолвилась о своей тайне, но, впрочем, она полагала, что юноша мог уже и сам догадаться обо всем; пусть сам и решает, сообщить ли эту новость отцу.
Ноккве вернулся домой, не повидав отца. Эрленд уехал в Рэумсдал: Маргрет известила его, что переселяется с мужем в Бьёргвин, и назначила ему свидание на острове Веэй.
– Ну что ж, ничего не поделаешь!
Кристин не спала ночами – изредка поглаживала по лицу Мюнана, спавшего в кровати рядом с ней. Ей было очень горько, что Эрленд не приедет к рождеству. Но что поделаешь – понятно, что он захотел свидеться с дочерью, раз представился подходящий случай. Она отирала слезы, струившиеся по щекам. У нее теперь снова, как в дни юности, от всякой безделицы градом катились слезы.
Вскоре после рождества умер отец Эйрик. Кристин несколько раз навещала его осенью во время его болезни и присутствовала на погребальной тризне. Но вообще она теперь совсем не показывалась на людях. Она очень горевала о смерти старого приходского священника.
Во время погребальной трапезы Кристин услышала, как кто-то сказал, что Эрленда видели неподалеку от Леша; он направлялся к себе домой. «Стало быть, он скоро возвратится…»
Теперь она каждый день садилась на скамью у окна и, подышав на ручное зеркальце, которое разыскала в своей шкатулке, протирала его до блеска и внимательно разглядывала свое лицо.
В последние годы она загорела, как простая крестьянка, но теперь все следы загара исчезли с ее лица. Кожа у нее стала белоснежная, а на щеках появился круглый розовый румянец как на картинке. Так прекрасна она не была с самой своей юности… Кристин сидела, не смея дохнуть от радостного изумления.
Наконец-то – если приметы повитух не лгут – у них будет дочь, о которой так мечтал Эрленд. Магнхильд. На этот раз они нарушат принятый обычай и сначала восстановят в роду имя его матери…
В ее памяти все время всплывали обрывки сказки, слышанной ею в детстве. О семи братьях, которые были присуждены к изгнанию и скитались по горным пустошам из-за своей еще не родившейся сестрицы. Но она тотчас сама принималась смеяться над собой: откуда у нее такие нелепые мысли…
Она вынимала из своего рабочего ящика распашонку из тончайшего белого полотна, которую шила, когда оставалась одна. Она выдергивала из ткани нитки, а потом вышивала по этой канве птиц и животных – она уже давным-давно не бралась за такую тонкую работу… О, если бы Эрленд вернулся теперь, пока она все еще только расцветает от беременности, пока она молода стройна и так восхитительно прекрасна…
После праздника святого Григория настали чудесные дни – настоящая весна. Подтаявший снег блестел, точно серебро; на обращенных к солнцу склонах уже просвечивали бурые пятна земли, и горы окутывала синяя дымка.
В один из таких дней Гэуте чинил во дворе поломанные сани. Рядом, прислонясь к стене дровяного сарая, стоял Ноккве и наблюдал за работой брата. В это время из поварни вышла Кристин, неся в обеих руках большое корыто со свежеиспеченным пшеничным хлебом.
Гэуте взглянул на мать. Потом бросил в телегу топорик и ступицу и, догнав Кристин, взял корыто у нее из рук. Он сам отнес его в клеть.
Кристин остановилась и залилась румянцем. Когда Гэуте вернулся, она подошла к сыновьям:
– Хорошо, кабы вы улучили время и наведались в Хэуг… да передали бы отцу, что пора ему воротиться и заменить меня по хозяйству. Мне уже трудно управиться самой… а к началу сева я слягу…
Юноши внимательно выслушали мать; они тоже вспыхнули, но мать почувствовала, что они рады-радешеньки. Однако Ноккве ответил как можно равнодушнее:
– Мы могли бы поехать хоть сегодня – под вечер… Что ты на это скажешь, брат?
На другой день в обеденный час Кристин услышала за окном топот лошадиных копыт. Она вышла во двор: это вернулись Ноккве и Гэуте – они были одни. Юноши стояли подле своих коней, потупив глаза и не говоря ни слова.
– Что сказал ваш отец? – спросила мать.
Гэуте, опираясь на копье, по-прежнему не поднимал глаз. Ноккве ответил:
– Отец просил передать тебе, что целую зиму день и ночь ждал тебя в Хэуге. И что ты и теперь будешь такой же желанной гостьей в его доме, как и в прошлый раз.
Щеки Кристин то вспыхивали, то бледнели:
– Стало быть, вы не сказали отцу… что я… что мне вскоре снова рожать…
Гэуте ответил, по-прежнему глядя в землю:
– Как видно, отец думает, что… это не может… помешать тебе переехать в Хэуг.
Кристин отозвалась не сразу.
– Что он сказал? – спросила она отрывисто и глухо.
Ноккве уже открыл рот для ответа, но Гэуте, приподняв руку, бросил на брата быстрый, молящий взгляд. Однако старший все-таки сказал:
– Отец просил нас передать тебе: «Когда ты зачала младенца, ты знала, как велико богатство его отца. С той поры он не стал богаче, но зато не стал и беднее».
Кристин повернулась спиной к сыновьям и медленно побрела к дому. Тяжело и устало опустилась она на скамью у окна, уже оттаявшего на весеннем солнце от инея и льда.
Вот как. Ну что ж, он прав. Она сама вымолила у него позволение спать в его объятиях, она сама. И все-таки дурно с его стороны напоминать ей об этом теперь. Очень дурно со стороны Эрленда, что он послал ей этот ответ через их сыновей…
Оттепель оказалась устойчивой. Целую неделю Дул южный ветер и лили дожди – река вздулась, потекла широко и бурливо. По лесистым склонам с шумом сбегали ручьи, в горах грохотали снежные обвалы. Потом снова выглянуло солнце.
В голубоватых вечерних сумерках Кристин вышла на задний двор. В кустарнике со стороны распаханных полей на все голоса пели птицы. Гэуте и близнецы отправились на сетер ловить тетеревов. Теперь по утрам в усадьбу со всех лесистых склонов доносился нестройный гомон токующих птиц.
Кристин скрестила руки под грудью. Теперь ей уже недолго ждать – надо быть терпеливой до конца. Ему ведь тоже, верно, бывало нелегко сносить ее раздражительность и упрямство… Вечные страхи из-за сыновей… «докучливость», как он сказал ей однажды. И все-таки теперь Эрленд поступает жестоко. Но ничего, скоро ему придется возвратиться к ней – он ведь и сам это понимает.
Солнце чередило с проливными дождями. Однажды в полдень сыновья окликнули ее со двора; все семеро, окруженные домочадцами, собрались перед домом: над долиной в небе одна над другой повисли три радуги: нижняя одним концом упиралась в надворные строения Формо, она вырисовывалась совершенно отчетливо и сверкала лучезарными красками; две верхние были бледнее и таяли в поднебесье…
Они еще любовались этим диковинным и прекрасным зрелищем, как вдруг небо нахмурилось и заволоклось тучами. С юга налетел снежный вихрь, и повалил такой снег, что в мгновение ока все кругом сделалось белым-бело.
Вечером Кристин села рядом с Мюнаном и стала рассказывать ему сказку о короле Бёлоснеге, о его прелестной дочери Снежинке и о короле Харалде Люва, который вырос в пещере горного короля на севере в Довре. Она с горечью и раскаянием подумала, что уже давным-давно ничего не рассказывала своим сыновьям, и ей стало жаль Лавранса и Мюнана, которых она так мало баловала сказками… А теперь они скоро возмужают… Зато прежде, в Хюсабю, когда старшие были крошками, она вечерами рассказывала им сказки… часто, часто.
Кристин заметила, что старшие сыновья прислушиваются к ее рассказу, – она вспыхнула и умолкла. Мюнан стал просить, чтобы она рассказала что-нибудь еще… Ноккве поднялся с места и пересел поближе:
– Помните, матушка, сказку про Турстейна Уксафут и троллей в Хейландском лесу? Расскажите ее.
Она начала – и ее обступили воспоминания… Это было в березовой роще у реки, где отец и его косцы – мужчины и женщины – расположились отдохнуть и подкрепиться. Отец лежал на животе, а Кристин сидела верхом на Лаврансе и пришпоривала его своими голыми пятками: день был жаркий, и ей разрешили ходить босиком, как ходят взрослые женщины. Отец вспоминал родословную хейландских троллей: Ернскьёлд был женат на Скьёлдвор, а их дочерей, которых убил Турстейн Уксафут, звали Скьёлдис и Скьёлдьерд. Скьёлдьерд вышла замуж за Скьёлдкетиля и родила сыновей: Скьёлдбьёрна, Скьёлдждина и Вальскьёлда, который взял за себя Скьёлдкьессу и прижил с ней Скьёлдульва и Скьёлдорма; Скьёлдульв женился на Скьёлдкатле и прижил с нею Скьёлда и Скьёлдкетиля…
– Э, нет! Это имя ты уже называл! – крикнул, смеясь, Колбейн. Лавранс похвалялся перечислить, не повторяясь, две дюжины имен троллей, а меж тем не набрал и дюжины. Лавранс тоже рассмеялся. «Ишь ты какой! Тролли ведь тоже дают детям имена в честь своих далеких предков!» Но косцы не сдавались и потребовали, чтобы Лавранс в виде пени напоил их медом. «Ну, так и быть, вы его получите вечером, когда мы воротимся домой». Однако работники захотели получить его немедленно – и в конце концов Турдис была послана за медом.
Все поднялись с земли, и громадный рог пошел вкруговую.
А потом, взяв косы и грабли, отец с работниками снова отправились на луг. Кристин отослали домой с пустым рогом. Держа его на вытянутых руках, она босиком бежала по залитой солнцем зеленой тропинке, которая вела к усадьбе. Когда в завитке рога собиралась капелька меда, девочка останавливалась, запрокинув головку, и облизывала изнутри и снаружи позолоченный край рога, а потом свои липкие пальцы.
Кристин, дочь Лавранса, сидела, молча устремив вдаль невидящий взгляд. Отец! Она вспомнила, как он вдруг менялся в лице, и черты его подергивались бледностью, подобно тому как блекнет роща под порывом ветра, перебирающего листья деревьев; как голос его звучал холодной и суровой насмешкой, как вспыхивали его глаза, подобно клинку, до половины извлеченному из ножен… Мгновение – и гневный порыв утихал, уступая место шутливой, добродушной веселости – в годы, когда Лавранс был молод, и все чаще и чаще сдержанной, чуть грустной снисходительности – по мере того как он становился старше. Нет, ее отцу была свойственна не одна только глубокая сострадательная доброта. С годами она поняла, что безграничная кротость отца объяснялась не тем, что он не замечал человеческих пороков и несовершенства, а оттого, что он всегда очищал душу свою перед богом и смиренно каялся в собственных слабостях.
«О нет, отец, я буду терпелива. Ведь и я, я тоже во многом прегрешила против моего супруга…»
Вечером в день праздника честного креста Кристин, как обычно, сидела за ужином со всеми домочадцами. Но едва только сыновья ушли спать в верхнюю горницу, она тихонько подозвала к себе Ульва, сына Халдора. Кристин попросила его, чтобы он сходил за Исрид, которая жила возле самого поля, и передал женщине, что хозяйка ожидает ее в старой ткацкой.
Ульв сказал:
– Пошли лучше за Ранвейг из Ульвсволда и за Халдис, сестрой священника, Кристин, а еще пристойнее было бы пригласить Астрид и Ингебьёрг из Лоптсгорда, чтобы они заменили тебя в заботах по дому.
– Это слишком долго, – сказала Кристин. – А у меня еще в полдень начались первые схватки. Сделай как я прошу. Ульв, мне не надо никого, кроме Ирид и моих собственных служанок.
– Кристин, – озабоченно сказал Ульв, – неужто ты не понимаешь, что, если ты будешь хорониться от людских глаз, ты только вызовешь злобные толки…
Кристин бессильно уронила руки на стол и закрыла глаза.
– Пусть их толкуют. Я не в силах видеть сегодня ночью лица чужих женщин…
На следующее утро старшие братья сидели притихшие, не поднимая глаз, а Мюнан, захлебываясь, рассказывал о маленьком братце, которого он видел в ткацкой, на постели у матери. В конце концов Бьергюльф попросил его не говорить больше об этом.
Кристин лежала в кровати, вся превратившись в слух, – ей самой казалось, что даже во сне она ни на минуту не перестает прислушиваться и ждать.
На восьмой день она встала с постели, но женщины, которые ухаживали за ней, видели, что ей все еще очень плохо. Она то зябла, то горела; молоко то текло у нее из грудей с такой силой, что даже платье промокало насквозь, то, на следующий день, она не могла нацедить ни капли в ротик ребенку. Но Кристин наотрез отказалась снова лечь в постель. Ребенка она не выпускала из рук. Даже ночью она не укладывала его в колыбель, а брала к себе в кровать; днем она то расхаживала по комнате, держа дитя на руках, то садилась с ним у очага, садилась на край кровати, прислушивалась и ждала, вперив взгляд в ребенка, хотя порой, казалось, не видела его и не замечала, что он надсаживается криком. А потом вдруг, словно очнувшись от сна, она прижимала мальчика к груди и вновь принималась расхаживать из угла в угол. Прильнув щекой к щечке ребенка, она тихо-тихо баюкала его, снова садилась, давала ребенку грудь и снова сидела и глядела невидящим взглядом, с окаменелым, неподвижным лицом…
Однажды, когда ребенку минуло шесть недель, а меж тем мать все еще ни разу не вышла за порог ткацкой, к ней явился Ульв, сын Халдора, вместе со Скюле. Оба были одеты по-дорожному.
– Мы едем в Хэуг, Кристин, – сказал Ульв. – Пора положить этому конец…
Кристин сидела безмолвно, как изваяние, прижимая к груди ребенка. Казалось, вначале до нее не дошел смысл слов Ульва, Но вдруг она вскочила-все лицо ее пошло багровыми пятнами.
– Изволь. Если ты скучаешь по своему хозяину, я тебя не держу. Можешь получить расчет – тогда тебе не придется больше являться сюда.
Ульв разразился громовым проклятием. Потом посмотрел на женщину, которая стояла перед ним, судорожно прижимая к сердцу новорожденное дитя, прикусил губу и умолк.
Тогда вперед выступил Скюле:
– Ну так вот, матушка… Я сам поеду в Хэуг… Коли вы забыли, что Ульв был вторым отцом семерым вашим сыновьям, вы, верно, все же помните, что я не слуга и не сосунок и что мне вы не можете приказывать…
– Ах, вот как? – Мать отвесила ему такую пощечину, что мальчик едва устоял на ногах. – Я приказываю здесь всем до тех пор, пока я кормлю и одеваю вас… Вон! – крикнула она, топнув ногой.
Скюле был в бешенстве. Но Ульв шепнул ему:
– Так лучше, сынок… Пусть лучше беснуется и кричит, только бы не сидела и не глядела так, словно она рехнулась…
Ульва и Скюле бегом нагнала Гюнхильд, комнатная девушка Кристин. Пусть тотчас же вернуться в ткацкую, сказала она, хозяйка хочет говорить с ними, а также со всеми остальными сыновьями. Кристин кратко и резко приказала Ульву отправиться в Брейдин с поручением к крестьянину, который взял у нее на время двух коров; близнецы поедут с ним, и пусть все трое не возвращаются домой раньше завтрашнего дня. Ноккве и Гэуте она послала на сетер – посмотреть, как содержится загон для лошадей в Ильмандале, а по пути пусть завернут к смолокуру Бьёрну, сыну Исрид, и попросят его явиться в Йорюндгорд сегодня же вечером. Сыновья отважились было напомнить ей, что завтра праздник, но она не пожелала слушать никаких возражений…
На другое утро, когда зазвонили колокола, хозяйка Йорюндгорда вышла из ворот усадьбы в сопровождении Бьёрна и Исрид, которая несла на руках новорожденного. Кристин одела и мужчину и женщину в добротные праздничные платья, однако на ней самой было столько золотых украшений, что каждый с первого взгляда мог угадать, кто госпожа и кто слуги.
Упрямым, высокомерным взглядом ответила Кристин на враждебные и недоуменные взгляды прихожан, собравшихся на церковном холме. О да, в прежние времена ее шествие в церковь для очистительной молитвы выглядело по-иному. Кристин сопровождали тогда самые знатные женщины округи… Отец Сульмюнд неприветливо взглянул на хозяйку Йорюндгорда, когда она приблизилась к церковным дверям со свечой в руке, но принял ее согласно обычаю.
Исрид, уже почти впавшая в детство, соображала туго; а Бьёрн вообще всегда слыл нелюдимом и молчальником и не интересовался чужими делами. И вот эти-то двое были восприемниками младенца.
Исрид назвала священнику имя новорожденного. Священник вздрогнул, запнулся, но потом повторил его так громко, что голос его услышали прихожане, собравшиеся в противоположном конце церкви:
– Эрленд, во имя отца и сына и святого духа…
Толпа замерла, как пораженная громом. А Кристин почувствовала при этом прилив дикой, мстительной радости.
Когда младенец появился на свет, он выглядел вполне здоровым ребенком. Но уже с самых первых дней у Кристин зародилось какое-то недоброе предчувствие. В ту минуту, когда она разрешилась от бремени, ей показалось вдруг, будто сердце ее рассыпалось пеплом, точно истлевший уголек. А когда Исрид поднесла к ней новорожденного, она вообразила, что в нем едва теплится искра жизни! Но она тут же отогнала от себя эту мысль: ведь ей уже столько раз и прежде чудилось, будто сердце ее разорвалось на части… А мальчик большой и с виду не хворый.
Но тревога за младенца росла в ней день ото дня. Мальчик все время пищал, молока он не хотел тоже; иногда матери только после долгих усилий удавалось заставить его взять грудь. Но едва он начинал сосать, как тотчас засыпал… Матери казалось, что он совсем не растет…
В страхе и отчаянии видела она, что с того самого дня, как маленький Эрленд был окрещен именем своего отца, он стал хиреть еще быстрее.
Ни одного, нет, ни одного из своих сыновей не любила она так, как этого злосчастного крошку. Ни одного не зачала в таком безоглядном и сладостном порыве счастья, ни одного не носила в таком счастливом ожидании. Теперь она часто вспоминала минувшие девять месяцев; под конец она из последних сил цеплялась за свою надежду и веру. Она не могла лишиться этого ребенка – и она не могла его спасти…
«Боже всемогущий, милосердная матерь божья, святой Улав!» – Она чувствовала, что на этот раз она тщетно падает ниц моля сохранить жизнь ее ребенку…
«И остави нам долги наши, яко и мы оставляем должникам нашим…»
Каждое воскресенье она, по обыкновению, ходила в церковь. Она прикладывалась к порогу, кропила себя святой водой, преклоняла колена перед старым распятием над хорами.
Спаситель в предсмерной муке взирал на нее сверху взором, исполненным скорби и кротости. Христос принял смерть, чтобы спасти своих палачей. Святой Улав, стоя пред его очами, неустанно молит о милости для тех, кто отправил в изгнание и убил святого короля…
«…яко и мы оставляем должникам нашим».
«Святая Мария! Мой сын умирает». – «А ты разве не знаешь, Кристин, что я охотней возложила бы на себя крест сына моего и приняла бы за него смерть, чем стоять у его креста и видеть, как он умирает?.. Но когда я узнала, что через смерть его совершится спасение грешников, я благословила его в сердце своем… Я благословила его, когда сын мой воззвал к господу: „Отец мой, прости им, ибо не ведают, что творят…"»
«…яко и мы оставляет должникам нашим».
Нет, господь не преклонит свой слух к тому, о чем вопиет твое сердце, пока ты не прочитаешь «Отче наш», не лукавя…
«„И остави нам долги наши…" А ты забыла, сколько раз господь оставлял твои грехи? Погляди на твоих сыновей, которые стоят сейчас там, на мужской половине. Погляди на старшего из них, который стоит впереди этой стайки красавцев юношей. То плод греха твоего; но вот уже скоро двадцать лет, как господь умножает его красу, разум и мужество».
«Это милосердие… Так будь милосердна и к моему младшему сыну…»
«Вспомни своего отца, вспомни Симона Дарре…»
Однако в глубине души она не чувствовала, что простила Эрленду. Она не могла простить, потому что не хотела простить. Обеими руками вцепившись в чашу своей любви, она не хотела выпустить ее даже теперь, когда на дне этой чаши осталась лишь одна, последняя, терпкая капля. В тот миг, когда она сможет простить Эрленду, перестанет думать о нем с этой испепеляющей горечью, сгинет все, что когда-либо было между ними.
И вот она простаивала службу за службой и чувствовала, что ее усилия бесплодны. Тогда она пыталась молиться: «Святой Улав, помоги мне, сотвори чудо в моей душе, чтобы я могла молиться истово – думать об Эрленде с христианским смирением в душе». Но она сознавала сама, что не хочет, чтобы эта ее молитва была услышана. А стало быть, она напрасно молит о спасении ребенка. Эрленд-младший был залогом, врученным ей господом: «Выполни одно-единственное условие, и ты сохранишь дитя» – но условия этого она не принимала. А лгать святому Улаву бесполезно…
И вот она сидела над больным ребенком. Слезы неудержимо катились по ее щекам; она плакала беззвучно, все с тем же застывшим, серым, каменным лицом, только белки глаз и веки у нее краснели. Если кто-нибудь заходил в комнату, она поспешно утирала слезы и снова сидела безмолвно и неподвижно.
А между тем как мало было нужно, чтобы растопить ее сердце. Стоило одному из старших сыновей войти в комнату, бросить взгляд на маленького братца и сказать ему несколько ласковых слов, и мать еле удерживалась от громких рыданий. Она знала: поговори она со своими взрослыми сыновьями, выскажи им свой страх за новорожденного – и сердце ее смягчится. Но теперь мальчики сторонились ее. С того самого дня, как, вернувшись домой, они узнали, какое имя она дала их меньшому брату, сыновья Эрленда еще крепче сдружились между собой и еще больше отдалились от матери. Однако как-то раз, глядя на малыша, Ноккве сказал:
– Матушка, разрешите мне… дозвольте мне поехать к отцу и сказать ему, что мальчик болен…
– Теперь ему уже ничто не поможет, – с отчаянием ответила мать.
Но Мюнан этого не понимал. Он приносил маленькому братцу свои игрушки, радовался, когда ему разрешали подержать малютку на руках, и уверял, что тот ему улыбается. Он все время ждал возвращения отца и спрашивал себя, понравится ли ему братец. Кристин сидела молча, с посеревшим лицом, и душа ее исходила кровью от болтовни мальчика.
Теперь новорожденный высох и сморщился, как старичок, а глаза его стали неестественно большими и прозрачными. И все же он начал улыбаться матери… При виде этой улыбки Кристин беззвучно застонала. Она гладила крошечное, тщедушное тельце, сжимала в ладонях маленькие ступни – никогда этот ее сыночек не будет изумленно тянуться ручонками к нежным розовым загадочным предметам, которые мелькают над ним в воздухе, не понимая, что это его собственные ноги. Никогда этим крохотным ножкам не придется ходить по земле…
И вот, когда долгая неделя, которую она проводила у кровати умирающего ребенка, подходила к концу, Кристин одевалась, чтобы идти в церковь, и думала: «Теперь-то уж я смирилась». Она простила Эрленду. Что ей до него? Только бы сохранить единственное, бесценнейшее ее сокровище, и она готова простить этому человеку.
Но когда, падая ниц перед распятием и шепча «Отче наш», она доходила до слов «…sicutetnosdimittibusdebitoribusnostris»,1 (Яко и мы оставляем должникам нашим (лат.) ее сердце каменело, точно сжавшийся для удара кулак. Нет!
И она заливалась отчаянными, исступленными слезами, потому что она не могла захотеть простить.
И так накануне праздника Марии Магдалины Эрленд, сын Эрленда, умер неполных трех месяцев от роду.