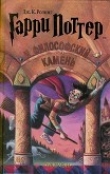Текст книги "Философский камень (Книга - 1)"
Автор книги: Сергей Сартаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
Тимофей поворачивал голову, смотрел на восток. Там оставалось все, что уже было прожито. Там оставался загадочный в своей безграничности великий голубой океан, так и непонятый Тимофеем, привыкшим к зеленому океану тайги. Там оставались почти семь лет мальчишества и юности, своих, но все-таки очень мало принадлежавших ему самому. Там оставались всякие дни, но больше суровые, с походами и боями и с постоянным ожиданием еще новых боев. Там оставался седеющий комиссар Васенин, который назвался ему старшим братом, который одел его вот в эту красноармейскую гимнастерку, многому научил и послал снова учиться. Там оставались смерть матери и многих, многих людей, такая смерть, которая приказывает ему всю свою жизнь помнить об этом и помнить еще, что не пойман и не наказан поручик Куцеволов. Восток был весь в темных, клубящихся облаках, в серой завесе из пыли, стелющейся за поездом, и в то же время восток был светел каким-то внутренним сиянием.
На запад, вперед, смотреть было труднее, слеза от бьющего в лицо резкого ветра быстро застилала зрение. Впереди все было незнакомо, и отчетливо виделось лишь одно – Москва. Все остальное словно бы дрожало в легком тумане, в мареве, последовательно отступающем перед бегущим вдаль составом. Взгляд на запад заставлял Тимофея подтягиваться, собираться, незаметно для самого себя пробовать силу своих мускулов. И внутренне решать, твердо решать: что бы в жизни ни случилось, держать голову прямо. Так, как держит ее всегда старший брат Алексей. "Пошел – иди, пока не дойдешь!" Горизонт на западе в отличие от востока был чист, небо лучилось голубизной, но с земли то и дело взлетала колючая пыль и перехватывала дыхание.
Володя Сворень по-иному распоряжался наступившей для него свободой действий. Прежде всего он стремился как следует отоспаться. Полка ему досталась самая верхняя, багажная, ничто не мешало, даже дневной свет из окна, и только голод способен был разбудить его.
Ел Володя всегда со смаком, плавясь в довольной улыбке. Чай любил пить очень горячим, так, чтобы тянуть обжигающую струю из железной кружки с осторожностью сложенными в дудочку губами. Все остальное время, свободное от еды и сна, либо резался с соседями в карты, в "очко", не по-крупному, не для выигрыша, только для удовольствия, либо балагурил, пел песни с соседками. Тоже только для удовольствия.
У окна он стоять не любил, пенял Тимофею: "Ну чего прилепился? Березок, сосенок этих, что ли, не видывал! Это от нас никуда и никогда не уйдет. А повеселиться так, без всякой заботы, где и когда еще удастся? На это только дорога одна и отпущена. Погляди, в вагоне девчонки-то какие!"
Слова Свореня обжигали Тимофея, вгоняли в краску, но не могли заставить оторваться от окна. У Свореня еще и во Владивостоке были какие-то приключения с девушками. Тимофей не искал таких встреч. В памяти хранились давние рассказы матери о том, как прожил всю жизнь его отец. "Тима, гляжу на твое лицо – таким и его вижу. Все, все, как ни есть, Пашино. Даже свет в глазах тот же, ничем не помутненный, – говорила мать. – Сбереги в себе этот свет отцовский!" А в приглашениях Свореня подсесть к девчонкам всегда было что-то такое... стыдное.
Не раз в мыслях своих Тимофей возвращался к напутственной "загадке" Васенина о цели и смысле жизни. Однажды спросил Свореня: "Ты как понимаешь это?" Сворень ни минуты не задержался с ответом: "А чего, все ясно: построить на земле коммунизм. Вот вся и цель". Тимофей немало прочитал политической литературы, прослушал докладов, но все же не представлял себе отчетливо, что же такое коммунизм в самой обыкновенной жизни. Слова оставались словами. Но Сворень снова ответил совершенно спокойно, уверенно: "Ты же не был в Москве и не видишь отсюда, какая она, Москва. А мы едем туда – и приедем. Так и к коммунизму идет человечество – и придет". Тимофей заспорил было, сказал, что Москва-то давным-давно построена, и в Москву, думай, не думай об этом, а поезд все равно привезет. Коммунизм же еще надо строить, и потому надо точно знать... Сворень его перебил: "Ну, знаешь, в этом деле нам с тобой все равно достанется только глину месить. А делать из нее кирпичи, обжигать их и тем более в стены укладывать станут люди, которые нас повыше и потолковее. И которые, между прочим, хорошо видят все, чего ты не видишь". Тимофей с обидой спросил: он-то, Володя, видит ли? И Сворень подтвердил без запинки: "Сколько мне надо видеть – вижу".
А поезд шел и шел. Тонкие ручейки рельсов казались совсем иными, чем в те, почему-то чаще всего вьюжные или слякотные дни, когда Тимофей, мальчишка среди бородатых солдат, трясся в щелястых, дымных теплушках, пробиваясь к востоку. В те дни рельсы не были похожи на светлые, играющие ручейки, они тогда лежали неподвижными тяжелыми брусьями, сталью, из которой были сделаны и штыки. Тимофей размышлял: "Вот как одно и то же становится разным лишь потому, что, сам человек переменился, глядит на все другими глазами. Всегда новыми, всякий день и даже всякий час. Повториться ничто на свете не может. Все, что ты сделаешь сейчас, это сразу же уйдет "туда", назад. А для кого-то другого, кто пройдет после тебя, хоть на шаг один дальше, то, что оставил ты, будет новым. Подумай, что ты оставишь тому, кто сейчас идет вслед за тобой..."
Ему это нравилось: стоять у окна, думать, глядя вперед, навстречу далям, быстро бегущим под колеса вагонов.
Так – день за днем. И вот наконец поезд уже миновал те места, где когда-то чуть в стороне стоял полк Анталова и где Тимофей ходил в свой первый бой; потом состав пробежал и вокруг искрящегося солнечными бликами голубого Байкала, словно нанизав себе на спину десятки темных, гулких туннелей, немного еще – прошел и через Иркутск, тоже такой памятный, и теперь приближался к станции Худоеланской.
Станция эта была особенной. Сюда, именно к ней, шесть с половиной лет назад Тимофей вывел отряд капитана Рещикова...
Да-а, если бы тогда Рещиков не сбился с дороги, не занесло бы его и Куцеволова к ним на Кирей, ехал бы теперь Тимофей в этом вот поезде, одетый в военную форму?
Нет и нет! Скорее всего он сейчас покачивался бы где-нибудь в лодке, спускаясь через бурливые шиверы, и вез домой свою рыбацкую добычу. А мать, поджидая его, стояла бы на берегу Уды и делала вид, будто полощет белье. Она всегда его ожидала и всегда делала вид, словно и не думает о нем вовсе...
– Слушай, Володя, давай остановимся в Худоеланской, – сказал Тимофей. Он эту остановку задумал уже давно. – Чего нам торопиться? У нас же в запасе целая неделя!
Сворень славно выспался после обеда, только что вымылся, побрился, сидел свеженький, румяный, поглядывая на девчат, заполнивших соседнее купе. Он рассчитывал в Худоеланской запастись кипятком, попить чайку, а потом всю ночь резаться с девчатами в карты, в "подкидного дурака". Ночью девчата как-то приманчивее и на слова с дерзинкой отзывчивее. А среди них была одна москвичка, Надя, уж очень смешливая, бойкая на язычок. Приятно с такой закрепить дорожное знакомство, потом и в столице проводить с ней свободное время. Это же не пустяк!
– А чего мы там забыли, в Худоеланской? – спросил Сворень с неудовольствием. – Лучше нам эту неделю по Москве пошататься. С толком!
– Да как же... Слушай, Володя... Мои же это места! Через тайгу, как раз отсюда, – тропа на Кирей... И помнишь, приезжали сюда мы с комиссаром...
– У-у! – протянул Сворень. – Помню, конечно. Искать книги алхимика твоего. А нашли только его девчонку, им же подстреленную. Помню.
– Мне надо сходить домой, на Кирей, у могилы матери постоять. Я не могу проехать мимо!
Сворень задумался, почесал в затылке, с легкой досадой прищелкнул пальцами.
– Н-да, это действительно дело такое – память матери... Надо... Тут уж никак...
И стал собираться, заглядывая с сожалением в соседнее купе. Прощаясь с ним, Надя назвала в Москве только улицу, на которой она жила. "Захотите так найдете меня и по такому адресу", – слегка кокетничая, сказала она.
Уже совсем вечерело, когда поезд прибыл в Худоеланскую. По деревянной платформе целыми табунами ходили торговки, предлагая варево, жарево и облитые сметаной, а потом запеченные, тугие, пышные шаньги. Особенно бросались в глаза большие корзины с крупной, на подбор, голубицей в сизом, словно бы росном, налете.
Тимофей счастливо улыбался. Все здесь – дальние перевалы Саян, окрест лежащая тайга, сибирский говорок – было свое, родное.
Ему вдруг представилась та зима, когда они – Васенин, Мешков, Сворень и Тимофей – сидели здесь, ежась от холода, в прокуренном, нетопленном помещении, а с улицы то и дело входили веселые железнодорожники, постукивали залубеневшими валенками и переговаривались между собой: "Наша взяла!" Он уже тогда понимал, что это значит: "Наша взяла", – хотя в то время не сделал еще ничего, чтобы иметь основание причислить себя к этому сильному емкому слову "наша". Не знал тогда Тимофей, сколько еще надо будет пройти ему до Тихого океана, потому что только там "наша взяла" приобретала свой окончательный смысл!
И вот он теперь возвращается от берегов этого самого океана, возвращается победителем, знающим, что такое добиться победы. А теткам этим, с шаньгами и с голубицей, все равно, победа там или не победа, будет или не будет на земле коммунизм. Им бы продать шаньги свои подороже да купить на вырученные деньги для детишек что-нибудь из обуви, одежонки. Вот о чем сейчас их заботы. Вот о чем думают эти тетки. И за это их нельзя осудить. Они просто хотят хорошей жизни для себя и своих детей. А коммунизм для них пока еще только слово, не доказанное делами и даже как следует не объясненное.
Сворень именно здесь, в Худоеланской, прошлый раз спросил комиссара, в чем заключается полная суть коммунизма. И Васенин тогда ответил: дескать, поговорим у Тихого океана. Но у Тихого океана назначил другие сроки. И Сворень рассмеялся, пожал плечами: э-эх, мол, не знает комиссар, что сказать.
Нет, Васенин все знает очень хорошо. Вот смысл его ответа: дойди сперва с боями до Тихого океана, а потом окончи военную школу, а потом... а потом... Так от одной цели к другой и иди, вперед и вперед. Да не на ходулях шагай. Но Володя Сворень уже сейчас о коммунизме рассказывает так свободно и легко, точно в коммунизме сам лично побывал, все до тонкости там узнал и теперь удивляется: как это, к примеру, в деревнях крестьяне еще делят землю между собой, а какие-то тетки на станции торгуют пирогами и ягодами.
Сворень толкал Тимофея в бок.
– Чего задумался? Ну? Куда мы теперь?
Они посовещались. Пойти прямо в тайгу и там у костра переспать? Или остановиться на ночевку в селе?
Тимофей вдруг заволновался.
– Слушай, давай в селе остановимся. Узнаем, поправилась или нет Людмила? Интересно же! Может, и сам капитан Рещиков какую-нибудь весть о себе подал! Может, Виктор нашелся...
Сворень пожал плечами:
– А на что тебе они? На что, скажи мне, пожалуйста?
– Ну, я не знаю... Совесть не позволяет пройти мимо и даже не спросить.
– Совесть! Совесть! Перед кем из них ты совестью своей обязан?
– Перед собой...
– А! – Сворень пренебрежительно махнул рукой. – Ладно! Пошли в село. Не ради совести твоей, а ради того, что без нужды на сырой земле у костра валяться не хочется.
В Худоеланской и раньше Тимофей бывал не часто. А теперь прошло столько лет! Ни людей, ни дворов не узнать.
Тимофей припоминал, как тогда они шли по длинной улице из дома в дом. Начали с въезда от тайги – тут живут точно Флегонтовские, тетка Настасья с двумя дочерьми и дед седой, – потом ходили долго, пересекли не то овражек, не то застывшую речку...
А сейчас идут, идут, но речки никакой нету. Избы, дворы непохожие. Уже чуть не все село прошли... Может быть, этот дом? Так ворота новые...
Свореню надоело:
– Давай спросим!
Улица в этом краю села была пустынной, словно выметенной ветром. Только кое-где бродили телята, копались в навозе куры и, влажно похрюкивая в подворотнях, ворочались залепленные грязью свиньи.
– По-моему, все-таки этот вот дом... – показал Тимофей.
И тут же возле изгороди появилась вскудлаченная девчонка. Угрюмо потянула полотнища тесовых ворот на себя, глянула и остановилась.
– Эй, девушка! – окликнул ее Сворень, слегка покачиваясь на каблуках и красуясь своим орденом и блестящими ремнями.
– Послушай, не здесь ли живут Голощековы? – прибавил Тимофей.
– З-здесь, – запнувшись, ответила девчонка.
Отмахнула прядь темных волос, открыв прямой, высокий лоб, сразу от этого словно бы повзрослев. Боком, боком пошла, потом почти побежала по улице. Тимофей успел разглядеть, что глаза у нее угольно-черные и наполнены не то страхом, не то болью и глубокой тоской.
Уж не Людмила ли это? Ну конечно, Людмила!
Он вздумал окликнуть ее, остановить, но девушка была уже далеко.
11
В избе их встретили тоже со страхом: уж очень нежданны-негаданны оказались гости. С чего военным, в блестящих ремнях, без сельского начальства в крестьянский дом заходить? На милицию не похожи. Может, это как раз и есть чека, про которую всяко рассказывают?
Молодые Голощековы разом поднялись из-за стола, Трифон с Еленой толкнулись в углы. Только старики – дед Евдоким и бабушка Неонила – остались сидеть на своих местах.
Поздоровались, как полагается той и другой стороне. Сворень сразу приступил к делу.
– Вот что, хозяева дорогие! Девочка раненая у вас оставалась. Жива она?
Камень с плеч! Все свободно задвигались. Дед Евдоким просветленно всплеснул руками.
– Ну, робята, и напужали вы нас! Теперь опознал я тебя, малый, как есть опознал! Вот время-то как шастает! Сколько годов минуло? А девчонка выходилась, как же, выходилась, девицей стала. Невестой. Живая, здоровая. Да ты что же, Варвара, сади гостей за стол, потчуй!
И Варвара засуетилась, загремела посудой.
– Сюда вот, сюда пожалуйте, – показывала она. – Вы, стало быть, за ней? Вот слава те господи! В саму пору. Берите, берите с плеч наших заботу. Выходили вам, сберегли. Да пейте, пейте чай, покушайте калачи, ватрушки, пожалуйста!
Она подсовывала Тимофею и Свореню лучшее, что стояло на столе. Мигом спустилась в погреб и принесла оттуда еще сметану, творог, крупную голубицу, ягоду к ягоде. Заволновались и старики: вот ведь как – забирают "белячку". Привыкли к ней все-таки...
Тимофей встревоженно взглянул на Свореня. Но Свореня не так-то легко было смутить.
– Нет, дорогие хозяева, вы что-то поднапутали, – сказал он, вставая из-за стола и одергивая гимнастерку. – Мы зашли только узнать: жива ли, здорова.
– Так вы чего же это? Шутки над нами шутить? – Лицо у Варвары враз потемнело, а шея покрылась красными пятнами. Она подергала воротник кофты, задохнулась в свистящем вскрике: – Шу-утки!
Тотчас вступился и Семен, зарокотал глухим баском:
– То ись как? Тут и я тогда рядом был. Слышал весь ваш уговор, точный. А как? Како получается ваше слово? Дал – держи.
– Не понимаю... – начал Сворень.
Все смотрели на него. Он старший. И годами. И знак наградной у него на груди.
– Чего не понимать-то, – заторопилась Варвара. – Забирайте, по слову своему, да и вся недолга. Соберем ей в дорогу что полагается.
– В тот раз раненая она была – дело другое. Не щенок все же, отлежаться надобно. Отлежалась, выходилась, в самостоятельность вступила, как же полных шешнадцать лет, – проговорил дед Евдоким, поглаживая бороду и метнув строгий взгляд в сторону Варвары. – Мы это все как есть понимаем. А теперь сдаем девицу по всей чести, по уговору.
– Так мы же, деда, едем сейчас в Москву, по государственному делу! сказал Сворень, вдруг припомнивший во всех подробностях, как они сговаривались с дедом Евдокимом, били друг друга по рукам. – Куда сейчас она с нами?
Ему хотелось весь разговор обратить в шутку.
– Стало быть, вам – куды? А нам? Зачем нам "белячку-то" дольше держать? – опять закричала Варвара.
– Ну, а если бы мы сейчас не зашли с Тимофеем, просто мимо проехали бы, тогда как? – уже сердясь, спросил Сворень.
Вот накатилась негаданная беда, в самом деле!
– У всякого своя совесть, – степенно разъяснил дед Евдоким. – А уговор честный был. Словами своими зачем же зря кидаться? Варвара чисту правду говорит: девица девицей, а "белячка" вовсе нам ни к чему. В кулаки ишшо нас из-за нее произведут... Дело ваше, хозяйское. А по совести, так увозите.
Тимофея тоже стал одолевать гнев. Как безжалостно эти люди говорят о Людмиле! С какой злостью, даже ненавистью. Недаром она при встрече у ворот показалась ему испуганной, загнанной. Черная тоска стояла у нее в глазах. Он поднялся, отодвинув недопитую чашку молока. Сказал осуждающе, резко:
– Эх, вы! О человеке ведь – и так говорите!
Но Варваре слова Тимофея – точно в стену горсть гороха.
– Как человека ее при своей семье и держали! – запальчиво выкрикнула она. – Была бы не человеком, овцой на передержке, не взял хозяин в срок давно бы зарезали!
И грязно выругалась.
– О господи, Варвара, чо это ты? – вздохнула бабушка Неонила. – Каки берутся слова у тебя: уши вянут!
Сразу всем стало неловко, разговор угас. Стыдливо переглянулись все время молчавшие в этом споре Трифон с Еленой. Тихонько потянулись к выходу.
Дед Евдоким, взглядом уставившись в пол, утюжил длинную седую бороду.
– В обшшем, хомут нам на шею накинутый крепко, – сказал он вполголоса после долгого молчания, словно итог подвел. И повернулся к Свореню. – Вот ты говоришь, что время не поспело, а может, ежели не сейчас, в пути, говоришь, вы по государственному делу, так после – на обратной дороге – заберете девицу? Когда? Власть же вы! Нам-то на что она? Варвара чисту правду сказала – словами только погаными.
– Из-за нее мы теперь исплататорами выходим, – мрачно добавил Семен. Как раз об этом до приходу вашего на все лады судили-рядили. Куда ни кинь все клин! Семье крестьянской, середняцкой, трудовой за офицерску дочь с какой же стати в исплататоры?
Тимофея все еще пробирала дрожь: так оскорбить человека! Он приготовился ответить резко и зло, но Сворень остановил его, отвел рукой: "Не мешай, я сам!"
Свореню очень понравилось, что дед Евдоким обратился к нему уважительно, как к старшему, и все остальные тоже видели в нем старшего.
– Так, хорошо, значит, – забрать? – начал он медленно, щурясь в самодовольной усмешке и явно готовя какой-то замысловатый ход. – Завернуть в одеяльце...
– А чего? Таку-то, как есть, самый раз увезти – не пеленочна!
Варвара все еще кипела досадой. Но дед Евдоким предупреждающе, грозно закашлялся. И разговор по второму кругу начался чуть поспокойнее. Бабушка Неонила затеплила светильничек – керосиновую лампу без стекла.
Тимофей вышел во двор, оставив Свореня одного продолжать тягостный спор. Володе, видно, это нравилось. И пусть. Он лучше сумеет договориться. Тимофей чувствовал, что сам-то он хладнокровно не смог бы вести беседу с Голощековыми. О человеке отзываться так: "хомут на шее", "овца на передержке" и самые, самые грязные слова! В чем провинилась перед ними Людмила? За что к ней такое гадливое презрение? Сверх того, что она офицерская дочь, другой вины за ней нет. А разве в этом она виновата?
Было сумеречно, улица на выезде из села лежала пустынная и тихая. Тимофей огляделся. Двор добротный, из толстого заплотника. Слышно было, как в нем сыто похрапывали кони. Рядом белел заново перекрытый широкий навес, натуго забитый разной хозяйственной утварью. Ничего, подходяще живут люди. Не то что они с матерью на Кирее. И все равно двери их дома были открыты для каждого. Мать никогда не жаловалась на горькую судьбу, на трудности. Ее томила другая тоска: забыть не могла счастливых дней молодости с Павлом, отцом Тимофея. Как не забыть, наверно, никогда и Тимофею дней своего детства, проведенных вместе с матерью. Да и кто их может забыть, свои самые светлые дни?
Низко в небе, как раз над выездом из села, грузно круглилась желтая восходящая луна. И земля там, словно бы от ее тяжести, прогнулась узким, длинным ложком, по которому, будь это снежной зимой, можно бы легко покатиться на лыжах в самые дальние дали.
Тимофей не заметил, как, не сводя взгляда с луны, он побрел сперва вдоль улицы, потом, за поскотиной, по дороге, потом оказался уже и на открытом, росном лугу, в конце которого, под той же грузной луной, чернели невысокие тальники и тихо позванивала речка Одарга.
Задумавшись, он не сразу даже сообразил, что вышел на берег реки. Тут повсюду между кустами ивняка и черемухи были пробиты узкие тропы, по ним на водопой пастухи пригоняли скот.
Слегка поскрипывали хромовые сапоги, подарок Васенина. Тимофей ступал осторожно, боясь напороться голенищами на острый сучок.
Во Владивостоке и окрест него жесткий, сыпучий щебень. Оголенные сопки летом пышут тягостным зноем. Низенький дубнячок и орешник почти совсем не дает тени, земля там не пахнет так пьяно и нежно. А на Кирее было и еще лучше, чем здесь. Там все было свежее, непритоптаннее.
И Уда во сто раз светлее Одарги. Она не перекатывается лениво через камни, как эта, она пробивается через них – упрямо, сильно и весело! Эх! Был бы, как прежде, родной дом у него на Кирее! Конец, не поехал бы дальше, в Москву! Вот так, потихоньку, побрел бы и побрел этими ночными, влажными тропами туда, к себе, насовсем...
Вдруг ему показалось среди удивительной тишины: кто-то плачет. Тимофей остановился, прислушался. Плачет. Сдержанно, редко и трудно, как, бывало, плакала мать в годовщину смерти отца, уткнувшись лицом в подушку. Тимофей знал: в эти часы к ней лучше не подходить.
И ему представилась кудлатая девчонка с угольно-черными, тоскливыми глазами. Она тогда от двора Голощековых побежала как раз в эту сторону.
Тимофей торопливо нырнул под один, другой куст черемухи, пряно пахнущей горечью.
– Люда!.. – позвал вполголоса. – Люда! Ты слышишь?
Она лежала ничком на крохотной полянке, концом одним примыкавшей к обрывистому берегу Одарги. Неясный свет луны едва проникал сквозь плотные заросли, решетчатые тени падали на плечи Людмилы.
Занятая своими горькими мыслями, девушка не сразу отозвалась на голос Тимофея. А когда поняла наконец, что зовут ее, стремительно вскочила, отпрянула в кусты.
– Кто? Кто? – спросила испуганно.
– Да ты не бойся! Это я – Тимофей.
Людмила молчала, отступая все дальше, в глубь куста. Тонкие сучочки похрустывали у нее под ногами.
Никакого Тимофея она не знала, не помнила. Но видела сейчас при луне это один из тех двух военных, которые вошли в дом Голощековых. Зачем он пришел сюда, вслед за нею? Как разыскал ночью, в стороне от дороги? Зубы у нее постукивали от страха и пережитого волнения.
– Люда!.. Погоди, ты... Да погоди, не бойся, говорю... Бурмакин я Тимофей... Провожал вас через тайгу. Тогда, зимой...
– Чего тебе надо? – через силу выговорила Людмила.
О какой зиме говорит он? И кого это "вас", куда провожал?
– В войну... Ты больная тогда была. А я провел ваш отряд через тайгу. Сюда, к Худоеланской, до Миронова зимовья. У тебя отец – капитан Рещиков. И мать была, брат Виктор... А тебя потом ранили... Ну помнишь? Помнишь?
А-а!.. Да, да, конечно, вот это все очень хорошо помнит и знает она... Хотя словно сквозь бред или сон, а помнит, как ехали куда-то в санях, зарываясь в глубокие сугробы; как остановились в холодной и дымной избе на ночевку; как тошнило ее и стены качались перед глазами; как отчаянным, страшным голосом вдруг вскрикнула мать, Людмила потянулась на голос, и тут короткий огонек плеснул ей в глаза. А после уже ничего не было... Вот это все она помнила. А Тимофея? Нет. Тимофея она не знала.
– Да ты не дрожи, ты сядь, я тебе все расскажу, – убеждал Тимофей. – А хочешь – пойдем домой. Ну чего ты лезешь в черемуху? Я же тебя, не трону!
Она не хотела идти домой, она сейчас ничего не хотела, но слова Тимофея о Викторе, о родителях, об отряде белых, который провел через тайгу этот парень, заставили ее все же вымолвить:
– Чего ты расскажешь мне? Ну чего? Говори!..
И Тимофей стал по порядку ей рассказывать все.
А Людмила, босая, с перепутанными, падающими на глаза волосами, стояла и угрюмо слушала, что говорит Тимофей.
Сначала ей все представлялось какой-то неправдой, лишь ловкой выдумкой этого незнакомого парня. Потом она внутренне стала с ним уже соглашаться: да, так, наверно, тогда и было! Потом и вовсе поверила в каждое его слово, в каждую подробность, рассказанную им. А ведь этого ничего не знали Голощековы. И во всей деревне этого никто не знал. Толковали все совсем по-другому...
Она стояла, держась похолодевшими руками за тонкие прутья черемухи. Стояла и тряслась от холода и жути.
Вот как! Отец, значит, был в полном беспамятстве, стрелял, совсем обезумев, в бреду. А мать сгорела в огне, может быть, даже еще и живая. И Виктор – неизвестно, увезен ли солдатами или замерз где-нибудь в той же тайге. А отца ее солдаты наверняка в пути бросили, не такие с ним ехали люди, чтобы о больном позаботиться...
Вот как! Она, выходит, только одна и осталась из всей семьи жить на свете. Ах, почему отец не застрелил и ее насмерть!..
Рассказывая, Тимофей ничего не сглаживал и не приукрашивал. Он понял сразу: именно правда, пусть самая горькая, но только чистая правда нужна Людмиле, если до этой ночи она не знала ее. Выплачется сейчас человек, переможется – и успокоится. А главная боль уже останется позади, как осталась позади у него, у Тимофея, с той поры, когда выплакал он свои мальчишечьи сухие слезы над холодным телом матери, застреленной Куцеволовым.
Об этом он тоже все рассказал.
– А папа мой?.. – спросила Людмила.
Замерла в ожидании. Ведь людская молва в расправе на Кирее обвиняет как раз ее отца.
– Нет. Я же сказал – Куцеволов, я знаю. Да ты сядь, ну сядь же. Тимофей потянул ее за руку, холодную, отяжелевшую, оторвал от куста черемухи.
Они вышли на открытую полянку, в лунный свет. Сели на обгоревший с одного конца обрубок бревна, выброшенный сюда вешним половодьем. Одарга была близко, бурлила и плескалась в камнях. Сбоку, у плеча Тимофея, дыбились высокие, пахучие зонтичники.
– Тебе здесь плохо живется?
Он знал, что зря спрашивает, только бьет человека в самое больное место. Разве оказалась бы здесь Людмила ночью одна и в слезах, если бы ей хорошо жилось? Разве сидела бы сейчас как деревянная? И разве сам Тимофей не слышал, что и как говорят о ней Голощековы? Знал все это и все же почему-то спросил. Он очень много рассказал ей о себе с полной доверительностью, пора наступила спросить, хочет ли и она ответить ему такой же откровенностью.
Людмила молчала, короткими, маленькими толчками все больше и больше запрокидывая голову назад. И вдруг припала к Тимофею, тонкими пальцами крепко вцепилась ему в плечо.
– "Белячкой" зовут... Всем ненужная... – глухо проговорила она. – Будто виновата, что осталась тогда живая... А теперь боюсь... И дома у них оставаться... И боюсь... в Одаргу кинуться...
Опять застучала зубами. Тимофей чуть-чуть толкнул ее локтем: все понимаю, не надо больше.
Он чувствовал, как Людмилу колотит, встряхивает нервная дрожь. Ко всему еще девушке холодно. Она босая, и платье отволгло от росы. Мягко, бережно свободной рукой Тимофей притянул ее плотнее к себе. Еще и сам придвинулся. Заглянул в лицо, при лунном свете какое-то особенно бледное и усталое. Таким оно было и в тот зимний день, когда Тимофей со Своренем нашел Людмилу раненую, лежащую без памяти за печкой в доме Голощековых.
– Слушай, Люда, – проговорил он строго и торжественно. – Ты знаешь, мы с Виктором пообещали друг другу: будем как братья. Он не пошел со мной. А я бросил его в тайге одного. Этого я никогда не забуду. И не прощу себе. Я не знаю, почему тогда сказал: "Будем как братья". Мальчишки, друг другу сразу понравились. И я не жалею, что сказал тогда. Я жалею и мне стыдно, почему я ушел один. Ты веришь мне, что я жалею?
Людмила долго, в упор, разглядывала Тимофея холодными черными глазами. И не отодвигалась, сидела по-прежнему безвольная, приникшая к его плечу. Потом глаза Людмилы как-то враз потеплели, и по лицу пробежала светлая тень.
– Верю, – сказала она. – А Виктор всегда был трусом.
Тимофей сдвинул брови.
– Слушай, – заговорил с прежней строгостью и торжественностью, – я ведь теперь уже не мальчишка, я знаю твердо, что говорю. Вернись все назад, в те годы, и встреться я снова с твоим отцом, как тогда, на Кирее, – не повел бы теперь его через тайгу. Хотя и сейчас думаю: человек он был хороший. Но все равно он враг, потому что не бросил оружие, не перешел к нам, а командовал белыми. И бежал вместе с ними. Как человека я жалею его, а как врага и его считаю виновным во всем, что тогда было. Меру его вины не знаю, не судья. А с тебя-то за что же спрашивать? Не любят здесь тебя, понимаю: это и по праву и от сердца у каждого. Но другое понять никак не могу: не на тебя работают Голощековы – ты на них работаешь. Совесть-то человеческую надо иметь! Не овца же "на передержке" ты у них, в самом деле! Слушай, Люда, здесь я тебя не оставлю. Заберу от Голощековых. Если ты сама не струсишь, как твой брат. Поняла? Пошли!
Людмила рывком вскочила на ноги, отступила на шаг, другой, защищаясь, подняла руку: "Нет... Нет..."
Тимофей тоже встал.
Ему казалось, что он взлетел на высокую гору, с которой видно удивительно много и далеко, но ступи чуточку не туда – и оборвешься. Он как бы врос в землю ногами, и земля сейчас отдавала ему всю свою твердость. Эта горько обиженная девушка ничего не просит, даже отказывается от его защиты. Но он ведь сильный, и пусть Людмила не сомневается – он поможет ей. Если он оставит Людмилу здесь, у речки, одну, как оставил когда-то в морозном лесу, тоже одного, ее брата Виктора, – он не сможет людям прямо смотреть в глаза, он не сможет об этом написать комиссару Васенину, не сможет после этого пойти через тайгу на Кирей, чтобы постоять там над могилой матери. Тимофей знал: его отец, Павел Бурмакин, сказал бы сейчас Людмиле то же самое, что сказал он. И мать, Устинья Бурмакина, за эти слова тоже его похвалила бы. И не найдется человека на свете, который осудил бы его за это.
А Людмила стояла испуганная, настороженная. Что это? Просто пустые слова или твердое, честное обещание?
– Пошли! – повторил Тимофей.
12
Домой, в село, они шли медленно, неторопливо. Останавливались, чтобы еще и еще, подольше вглядеться в дымные от росы луга. Теперь, когда луна поднялась на самую середину неба, просторы ночных полей казались распахнутыми в бесконечность. На маленьких возвышенностях, где воздух разливался теплыми волнами, тоненько "били" перепела. В бесшумном танце иногда проносились крупные, мохнатые мотыльки. Раза два, далекие, невидимые за перелесками, прогрохотали поезда. Паровозные гудки были похожи на крики ночных птиц.