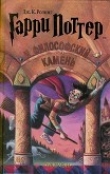Текст книги "Философский камень (Книга - 1)"
Автор книги: Сергей Сартаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)
А человек ходит, ищет. Вот, Тима, отцовское чувство! Почтительно склоняю голову перед ним.
Теперь о том, что тебя беспокоит. Твоя загадка тоже не из легких. Но чтобы сделать ее все же хоть чуточку попроще, давай между собой сразу условимся: начисто отбросить слово "белячка". Ну, какая же Людмила Рещикова белячка!
Да, по происхождению, по документам она, что называется, офицерская дочь. Но ведь осознанных политических убеждений у нее в те годы никаких не существовало. Это же еще был воск, из которого можно вылепить что угодно... Что же она из себя представляет сейчас? Теперь, Тима, дорогой мой, надо судить о ней, как о человеке с определенными взглядами. А вот что за взгляды сложились у нее в семье Голощековых – правильные или неправильные, – я не знаю. Кстати, этого по-настоящему и из твоего письма понять нельзя.
Допустим, правильные. Чудесно! Одним хорошим, надежным человеком в республике станет больше.
А допустим, неправильные. Страшно это? Не очень. Побороться за человека светлой души, как ты пишешь, – дело стоящее. Не думаю, чтобы она могла в той среде сформироваться убежденной "контрой", как по твоим словам оценил ее с размаху наш Володя Сворень. За ним это водится. Он даже меня, помнится, несколько раз ловил на каких-то несоответствиях. Сердиться на него за это не следует. Классовая линия, конечно, должна соблюдаться, и ох как тщательно и бережно! Без этого нельзя, никак нельзя!
Но от теории вернемся к практике, от общих положений к определенному человеку, к личности – Людмиле Рещиковой.
Ясно, что в прежнем положении ей оставаться негоже. Но почему она должна перебраться именно в Москву? Я понимаю: ты хочешь о ней позаботиться. Но, Тима, не преувеличивай своих возможностей! Ты ведь – курсант, связанный железной воинской дисциплиной. И много сделать при всем желании не сможешь, в конечном счете ты предоставишь эту девушку ее собственной судьбе, а хуже того – игре случая. Рассчитывать целиком на Мардария Сидоровича Мешкова в этом случае тоже не очень-то разумно.
Но дело не только в этом. Путь, который рисуется тебе для Людмилы, – не лучший путь. Ты ей, по существу, предлагаешь побег. И не только из семьи Голощековых, но и вообще из той среды, в которой она сейчас находится.
Видишь ли, Тима, есть железное правило всех революций: кто не с нами, тот против нас! Справедливое правило.
Сказать, что Людмила "против" – смешно. А середины нет. Надо, чтобы Людмила была с нами. Но для этого ей не следует прятаться или замыкаться от всех в своем грустном одиночестве. Ей нужно открыто и честно войти в общую, коллективную жизнь именно там, где все ее знают. Так сказать, заработать к себе любовь и уважение своей душой, своим трудом.
Ей прежде всего надо войти в свой сельский круг молодежи, сломать стену, какая стоит между ней и, скажем, комсомольцами Худоеланской! Это самое главное. И самое верное. И в этом ей надо помочь. Всеми средствами. Как именно? – следует пораскинуть мозгами. Время есть. Никакая особая и немедленная беда, как я понимаю, Людмиле не грозит. Только бы сама она держалась поближе к людям. С этого надо начинать. И все для нее хорошо обойдется.
Ты дал ей, не подумав, твердое обещание. Вот это уже очень серьезно! Тима, человек должен держать свое слово. Но не просто, упираясь как баран лбом в новые ворота. Обещание должно быть сдержано не по букве слова, а по глубинному смыслу своему.
В твоем письме есть что-то такое... Короче говоря, так пишут не вообще о человеке, а об очень близком человеке. Как это понять, Тима? Прости мою мужскую, братнюю прямоту: не затеплилось ли у тебя к Людмиле чувство любви? Ты пишешь, что вы провели в разговорах всего одну ночь, честную, чистую ночь. Этого бывает достаточно. И если это так, я тебя не осуждаю. Любовь великий архитектор, великий строитель. Она способна самым решительным образом перепланировать, перестроить душу человеческую. Это обстоятельство придает особый оттенок всем моим советам. Ты понимаешь?
Совесть тебя пусть не мучает, "ежа колючего" в душу ты мне не запускаешь. Если бы ты не был со мною откровенен – вот это был бы "еж колючий"! А так я чувствую, радостно чувствую, что есть на свете очень дорогой мне человек, которому и я в такой же степени дорог.
Теперь немного о себе. Живу. Здоров. Хотя, тоже в порядке полной откровенности, иногда пошаливать начало сердце. Что-то такое вроде грудной жабы... Но это дело санупра, а не мое. Ты тем более не придавай этой "жабе" никакого значения, она даже не квакает.
Читаю древних философов. Не в изложении, а в наиболее полных переводах. (Ах, жаль, что греческим я скверно владею, а в прочих мертвых языках и вовсе ни в зуб ногой!) Какое это наслаждение, Тима, по высшему приближению к подлиннику соотносить мысль философа с его временем! Не раз при этом вспоминался и пресловутый капитан Рещиков. Бегал, бедняга, в своих умствованиях по тому же кругу, по какому бегали и все метафизики.
И лишь в одном он, так сказать, все же далеко убежал от них вперед, он прав – философский камень найти можно. И он уже найден. Только не тот, который в свое время искали алхимики, – иной. Добавлю: и не тот, который искал сам капитан Рещиков. Он метался в своих поисках все больше вне земли, вне сферы земного притяжения и наконец забрался в философский вакуум, полагая, что это и есть какой-то новый путь к истине. Дьявольски старый! Всех идеалистов притягивает к себе пустота. Из пустоты, по библейской легенде, был и мир сотворен. Наш философский камень – учение Маркса, Энгельса, Ленина. Наш философский камень – материализм. Только на его основе, по его физическим законам люди начнут – и, верю я, скоро начнут! превращать одни химические элементы в другие, по существу, делать "золото". А главное, на основе нашей, коммунистический идеологии, по законам нашей, коммунистической морали станет возможным души людские делать золотыми, точнее – подлинно человеческими.
А ты, дружище, я замечаю, стал писать не просто грамотнее, но и с хорошим чувством слова. Браво, браво! Ну, что же, "пошел – иди, пока не придешь"!
Обнимаю. Твой старший брат
Алексей".
Еще через неделю Тимофей получил письмо и от Людмилы – порошочек, сложенный из тетрадной бумаги и без марки.
Строчки прыгали, разбегались по листу:
"Здравствуйте, Тимофей! С приветом к вам Людмила Рещикова. Зря вы опять написали мне, я просила не писать, не надо, а вы написали. Ваше письмо снова получила не я, а Варвара, и когда – я не знаю. Я нашла его там же, за иконами. Теперь она его сожгла. Вы не думайте, меня не бьют, меня только обидными словами обзывают, и совсем еще стыдным словом, будто на лугу мы любились, и говорят, пусть невесту свою скорей забирает. Никаких не два с половиной года. А я вам тогда написала и опять последний раз пишу, не надо вам такие обещания делать, все это зря, никуда я за вами не поеду, а как сама решу, так и решу.
Вы мне больше не пишите, зачем? Варвара и все другие будут ваши письма читать, мне в душу влезать и смеяться, злобиться. Только мне хуже. Они все боятся сейчас, будто станут весь скот у крестьян отбирать, а землю пахать всем вместе. А я им во вред. Только вы не пишите. Вас я никогда не забуду.
С низким поклоном Людмила Рещикова".
Ниже подписи, в самом уголке листа, мелкими буквами: "Тима, ну ты сам как живешь?.." И это зачеркнуто, перечеркнуто по нескольку раз. Но прочитать все же можно.
Тимофей много размышлял над письмом Васенина и еще больше – над письмом Людмилы. Оба они, каждый сам по себе, пишут правильно, особенно Алексей Платоныч. Но у Людмилы своя гордость: не пойдет она ни к кому выпрашивать к себе хорошее отношение. Пробовала, ходила – оттолкнули ее комсомольцы. Больше не пойдет. Алексей Платоныч этого, может, по-настоящему не представляет. А может, и Людмила все-таки мало ходила. Кто знает... Тогда Алексей Платоныч, конечно, прав...
Написать Людмиле нельзя, очень просит она об этом. И не написать тоже никак нельзя. Ждет ведь она, ждет, и хочет, чтобы писал ей Тимофей!
Хочется и ему получать от нее письма.
Она просит не забывать ее. Нет, не забудет!
Людмила в письме величает на "вы", а внизу сорвалась – Тимой и на "ты" назвала. Да испугалась, зачеркнула. А он ей без колебаний пишет – Люда. Не может, не решается она повторять на бумаге то, что легко той ночью говорилось живыми словами.
Тимофей еще раз внимательно вчитался в каждое слово Людмилы, стремясь припомнить ее голос, манеру говорить. Нет, говорила она тогда совсем не так – красивее, свободнее. А письмо написано хотя и не чужой рукой, но чужими оборотами речи, по деревенским правилам, какими пользовался раньше и сам Тимофей, составляя письма по просьбам своих кирейских соседей. И все-таки видно, хорошо видно и здесь человека.
Конечно, он напишет ей!
А как послать? Снова Варваре? Нет, кому-кому, но уж этой жестокой женщине он ни за что не отдаст на посмешище ни себя, ни Людмилу!
Тимофей думал, думал и решил: напишет прямо в комсомольскую ячейку села. Пусть ребята передадут письмо Людмиле из рук в руки. Он им все объяснит, ребята поймут, хотя и так ведь знают они, как живется Людмиле у Голощековых. Это будет и по совету Васенина: приблизит ее к молодежи села.
Послал Тимофей и самим комсомольцам большое письмо. Все объяснил подробно. Главное, просил: пусть помогут они этой девушке, пусть не отталкивают от себя.
5
Сойдя незаметно с поезда – воинского эшелона – на одном из маленьких полустанков, Куцеволов призадумался. Куда направиться дальше? Пробиваться к своим, оказавшись теперь на земле, занятой красными, – бессмысленно и рискованно. Белая армия, если она еще сила, хотя и позорно откатившаяся к востоку, окрепнув, вернется. Проще всего дождаться ее где-нибудь здесь. Если же это конец всему и красные взяли власть прочно, как они сами утверждают, надо еще взвесить, что лучше: уйти навсегда в эмиграцию или стать гражданином республики?
В эмиграции жить хорошо тому, у кого текущие счета в заграничных банках, кто сумел с собой увезти чемоданы, набитые золотом и драгоценностями. Без этого жизнь – игра случайностей. А Куцеволов предпочитал действовать наверняка. Все отцовские богатства, на которые он рассчитывал по праву наследования, – обратились в дым. Кроме одежды Петунина, у Куцеволова не было ничего. Даже профессии, которая обеспечила бы ему приличное жалованье там, за границей. Карателей любят и ценят правители только тогда, когда трясутся за свои собственные шкуры. Кому нужны каратели просто так, без практического применения их способностей? Да, в эмиграции его ждала скудная, нищая жизнь! На такую-то жизнь, во всяком случае, можно было рассчитывать и здесь. При переходе же через границу рискуешь головой. А потом, оставаясь на родине, – Куцеволов усмехнулся, мысленно произнеся это слово, – он может посчитаться и со своими врагами. Он еще не отказался от борьбы. И знает, что самый страшный удар – это удар, нанесенный в спину. А что он сможет сделать оттуда, перейдя границу? – только в бессильной злобе скрипеть зубами...
И Куцеволов отказался от мысли перейти линию фронта. Во всяком случае, пока. А там будет видно. Теперь следовало, наоборот, забраться в глубокий тыл, подальше от линии фронта и от той занесенной снегами желтенькой будки, в которой он из офицера белой армии превратился в путевого обходчика. Не нужно тереться близ тех мест, где наверняка могли сыскаться друзья или родственники Петунина. Надо оставить свой след там, куда еще не дошла его мрачная слава карателя. Всякий риск должен быть исключен.
Приняв такое решение, Куцеволов, не торопясь, обошел несколько сел и деревень близ разъезда, где он спрыгнул с поезда. В каждом селе с горьким, перекошенным болью лицом рассказывал мужикам, и особенно бабам, о своей страшной беде. Добавлял, что на первом попавшемся воинском эшелоне бросился он в погоню за белой бандой с желанием отплатить кровью за кровь, но дорогой узнал, будто бы где-то здесь шатается та банда. Верно ли? Если так, жизни своей не пожалеет, чтобы отыскать ее след, передать подлых убийц в руки народным властям.
Мужики, бабы слушали, сочувственно вздыхали, но о банде белых ничего ему сообщить не могли. Пока, бог миловал, нету никаких бандитов в близкой окрестности. А Куцеволов все же ходил и ходил из деревни в деревню, рассказывал, впечатывая в память крестьян свою горькую историю. Бывало даже так, что иногда молва обгоняла его и в новом месте Куцеволова встречали уже как доброго знакомого.
В крупных селах, где имелись представители государственной власти, Куцеволов осторожно и хитро выпрашивал в сельисполкоме бумажку, скрепленную печатью. Бумажка содержала просьбу ко всем организациям и лицам "оказывать пострадавшему от белого террора гр. Петунину Г.В. полное содействие". Такую бумажку он взял даже от командира партизанского отряда, приехавшего долечивать раны к своим землякам. Этот отряд действовал как раз в тех местах, где Куцеволов превратился в Петунина. Может быть, даже этот самый командир, теперь с рукой на перевязи, тогда лихо проскакал мимо зарода, в котором счастливо укрылся Куцеволов. Допытываться он не стал. Зачем с огнем играть? Вдруг нечаянно проговоришься. Однако было очень важно заручиться документом, подтверждающим его личное знакомство с известным командиром. И Куцеволов, прощаясь, долго обнимал этого доверчивого человека, говорил ему трогательные слова.
Создав в довольно большой округе устойчивую легенду о Петунине, Куцеволов тихо исчез.
Ему не было практической надобности вести жизнь подпольщика, но и слишком высовываться тоже не следовало. Запомнились афористично сказанные адмиралом Колчаком слова: "Если сам преступник хочет быть пойманным, он непременно станет скрываться там, где нет людей". И действительно, был случай, когда сбежавшего из омской тюрьмы смертника поймали в Нарымской тундре. Оборванный, изголодавшийся, опухший от цинги, он выбрел сам из своего укрытия.
Куцеволов решил затеряться среди людей. Сесть в поезд и уехать в Москву, в самое море людское.
В поезде пассажиры менялись беспрестанно. И только одна еще довольно молодая женщина оказалась попутчицей до самой Москвы. На маленькой станции, откуда начал свой путь Куцеволов, они познакомились у кассы, вместе потом садились в один вагон.
Вера Астафьевна – так звали женщину – возвращалась домой, вернее, к "своим" в Подмосковье. Постепенно, в дороге, Куцеволов узнал, что она приезжала к сестре в Иркутск, когда город еще не был захвачен всякими контрами, да вот и "прогостила" целых два года, пока Сибирь освободили красные. А сюда, на эту станцию, подъехала прикупить соленого свиного сала, – здесь оно все же намного дешевле, чем в Иркутске, не говоря уже о Москве. Все-таки не с пустыми руками приедет, и билет, слава богу, полностью оправдается. Муж убит еще на германской войне, детей нету, прибилась к свекру. Ничего, не отгоняет. Работала поломойкой на Москве-Сортировочной по Северной дороге. Возьмут поди опять на такую-то работу!
В порядке необходимой взаимной откровенности Куцеволов тоже ей рассказал о себе. Но совсем не так, как привык до этого рассказывать. Зачем рисковать? Куцеволов, хотя и назвался Петуниным – вдруг в поезде будет проверка документов, – сказал Вере Астафьевне, что он холост, сызмальства мечтал о столице. Родственников загубили белые. Он остался один. Вот и едет. Неужели в Москве не устроится?
Вера Астафьевна растрогалась, пообещала дать ему адрес своей хорошей подруги Евдокии Ивановны, женщины славной, хлопотливой – тоже вдовы. Может, она и службу ему какую-нибудь присоветует.
Так все и получилось. Милиция вначале не соглашалась на прописку мужчины в одной комнате с посторонней женщиной, но управдом разрешил поставить фанерную перегородку, а бумажка, подписанная командиром партизанского отряда, завершила все остальное.
Евдокия Ивановна оказалась действительно женщиной славной и хлопотливой. Она была старше Куцеволова лет на пять, но выглядела ему ровесницей. Он прикинул: чем добиваться ее грешной любви, может быть, лучше жениться? Сломать фанерную перегородку, без всякой заботы о пище и чистом белье пожить с приятной бабенкой, пока обстановка вокруг прояснится, а там случится другая удача – и бросить. Ну, постараться, чтобы детского крика в этой комнате не было. Если становиться отцом, иметь детей – так не теперь и все же не от этой бабы. И Куцеволов женился.
Все складывалось хорошо. Евдокия Ивановна, натосковавшись во вдовстве, всю свою любовь и заботу отдавала новому спутнику жизни.
Куцеволов дивился: и откуда только у нее берется такая энергия? Комната блестела чистотой. Это нравилось. За долгое время скитаний и ночевок в тараканьих углах так приятно было вернуться хотя и не к прежнему и не полному, но все-таки довольно приличному комфорту. Готовила пищу Евдокия Ивановна отменно. И это тоже очень нравилось Куцеволову. Осточертело жрать где попало и что подвернется. К тому же страна голодала, а Евдокия Ивановна умела изворачиваться. Потихонечку спекулировала, меняла разное барахло на толкучке у Сухаревки и доставала сахар, рис, превосходное сливочное масло, говядину для бифштексов. Может быть, даже немного и приворовывала на продовольственном складе, где работала кладовщицей. Куцеволова это не смущало: вор не тот, кто ворует, а кто попадается.
Правда, чрезмерная любовь жены порой утомляла. Он смеялся и говорил: "Дунечка, оставим немного на завтра". И все же уступал ее просьбам.
Сам Куцеволов тоже не болтался без дела. Он был абсолютно уверен в своей безопасности. Он, Куцеволов, Петуниным стал надежно, но все-таки, чтобы исключить малейшую случайную возможность разоблачения, старался чаще менять место работы, всюду оставляя самые лучшие о себе впечатления. Теперь любая проверка его личности вряд ли добралась бы до будки путевого обходчика в Сибири, до каких-либо родственников или друзей Петунина.
Физического труда он избегал, стремился пристроиться хотя бы на маленькую, но все же хозяйственную или конторскую должность. Начальство им оставалось довольно: умный мужик, грамотный.
Его не раз хотели выдвинуть на более ответственную работу. Куцеволов осторожно отказывался. Это никуда не уйдет. А чем ты выше, тем заметнее. Надо сперва убедиться, что там, в Сибири, Петунин и вся его история забыты окончательно.
"Впрочем, – прикидывал в уме Куцеволов, – Петуниных на свете много. Почему тот не может быть простым однофамильцем? Документы уже добрый десяток раз обновлялись. Теперь они подлинные. Доколе ему прятаться, как мыши в норе?"
И чем дальше текло время, тем реже предъявлял Куцеволов справку командира партизанского отряда. Наступала пора и открывались возможности создать Петунина уже чисто московского.
Первые годы нэпа шевельнули было надежды, что постепенно все повернется на прежний лад и, может быть, даже ему придется доказывать, что он не Петунин, а Куцеволов. Эти надежды вспыхнули и угасли.
Куцеволов быстро раскусил суть новой обстановки, в его оценке дьявольски хитрого хода Советской власти, рассчитанного на крайних дураков и на очень умных людей.
Дураки поверят в прочность и долговременность так называемой свободной торговли, вложат в дело свои припрятанные капиталы, а потом и эти капиталы, и они, новоявленные капиталисты, пойдут туда же, куда пошли их предшественники в дни Октябрьского переворота.
Умные люди взойдут на горизонте, как яркие звезды, на короткий срок и закатятся прежде, чем закатится сам нэп. Они дадут хорошую жатву Советской власти, но зато и сами для себя успеют собрать отличный урожай. Их забота вовремя завязать концы.
Если бы Куцеволову достались отцовские богатства, он, возможно, и попытал бы счастье, – разумеется, причисляя себя к умным людям. Но существенных капиталов у него не было, открывать же на свои гроши какую-нибудь несчастную бакалейную лавочку – значило приписать себя уже к разряду крайних дураков. Он в этом случае послужил бы не себе, а Советской власти, променяв при этом таким трудом добытый ореол "пострадавшего от белого террора" на печальный ярлык приспособленца.
Когда предположения Куцеволова оправдались и нэповский родничок стал пересыхать, а незадачливые предприниматели, зажатые налоговым прессом, растерянно стонали, не зная, как спасти свои капиталы, Куцеволов лишь с ехидцей взирал на эти тревоги. Общественная репутация супругов Петуниных за годы нэпа не запятналась, а между тем в ящике комода, под бельем, лежал небольшой запасец золотых изделий – результат манипуляций Евдокии Ивановны. Глупо было бы копить бумажные деньги, даже те, которые теперь гордо именовались "червонцами".
"Нет уж, дудки! – злобно думал Куцеволов. – Им понадобится, так они снова обратят "порося в карася". Бумажка она бумажка и есть, какой нарком на ней ни расписывайся".
И наставлял женушку не выпускать из рук хорошие вещи. Впрочем, Евдокия Ивановна и сама это великолепно понимала.
6
А Москва пестрела кумачовыми лозунгами, бурлила митингами. С рабочих собраний добровольцы строем, словно на фронт, тут же уходили к поездам, отправляющимся на север, на юг, на восток. Везде начиналась упорная борьба за восстановление народного хозяйства, закладывались первые новостройки, всюду нужны были люди. Со сказочной быстротой вставала, поднималась молодая республика, преодолевая злую разруху, оставленную гражданской войной и нашествиями интервентов.
Все эти годы Куцеволов наводил осторожные справки о настоящем Петунине. Остался у него кто-нибудь из близких родных? И узнал: есть отец в Иркутске! Ходит этот старик каждое лето по линии "железной дороги, по окрестным селам, все ищет следы своего сына. И не находит. А что, если найдет? Что, если легенда, созданная Куцеволовым, протянулась в Москву какой-то незримой ниточкой? Что тогда?
Это тревожное известие Куцеволову привезла Вера Астафьевна. Она опять ездила в Иркутск проведывать свою сестру.
– Старика этого сама я не видела, – рассказывала она, – а сестра неоднова с ним разговаривала. Кочегаром он в бане служит, как раз там, куда сестра ходит мыться. Мне сейчас и подумалось: не вы ли все-таки ему сыном приходитесь? Опять же, запомнилось мне, ни отца у вас нет, ни матери. И чего-то про вас я сестре своей сразу ничего не сказала?! Так жалею теперь! Правда ведь, может, зря не сказала? Фамилии у вас с этим стариком одинаковые. Опять же, именами с его сыном схожие. Бывает ведь всякое, вот потеряли люди друг друга, а после найдутся. Испыток-то – не убыток! Вы напишите сами сестрице моей. А вдруг?
Куцеволов тогда печально усмехнулся:
– Петуниных, дорогая Вера Астафьевна, в Сибири и в Забайкалье, как в Москве Ивановых, – сто сот. А родителя, отца своего, собственными руками я похоронил. В один год с матерью. Чего же тут и зачем писать вашей сестрице? И вы, пожалуйста, не пишите ей. Напрасно не надо будить надежды у старика.
– И в самделе, чего же душу томить человеку? – поддержала Евдокия Ивановна. – В гражданскую, что и в германскую, сколько солдат сгибло без вести! Так вот, должно, и сын его. Был бы живой, как отцу родному не подать голоса? А убит врагом проклятым – сыщи теперь могилку, попробуй. Может, и вовсе без креста лежат где-нибудь на ветру его кости. Не то – в речке моются.
Несколько дней после этого разговора Куцеволов ходил угрюмый, и Евдокия Ивановна не могла утешить его.
А Куцеволов ходил и напряженно думал: "Вот и протянулась в Москву из Сибири ниточка. Насколько все это опасно?"
Прикидывал на все лады. Петунин, тот, который бродил по деревням, а после исчез, не преступник, он – сам пострадавший. Ни гепеу, ни уголовный розыск интересоваться им не будут. Эти милые учреждения охотятся только за преступниками, а не за пострадавшими. Но кто знает, какие мысли теснятся в голове старика, с таким упорством разыскивающего могилу своего сына?
Конечно, приметы двух Петуниных не сходятся... Но, боже, ведь именно это сейчас и оборачивается против него! Почему не сможет старик предположить, если узнает... Да, если узнает, допустим, от Веры Астафьевны, что как раз в те дни, когда исчез его сын, она ехала в поезде из Сибири тоже с Григорием Петуниным. Приметами схожим с тем человеком, который бродил по окрестным селам, и не схожим с сыном старика... Как тут не предположить...
Ниточка протянулась пока очень тоненькая. Но ведь и любая веревка, даже та, что для виселицы, плетется из тонких ниток! Риск должен быть исключен.
Придя к этому решению, Куцеволов повеселел. Расцвела и Евдокия Ивановна. Давно не был муж таким внимательным и ласковым.
От ремонтной конторы городского водопровода, где он работал завхозом с недавнего времени, Куцеволов взял двухдневную командировку в Тулу – заказать на тамошних заводах специальную арматуру.
Командировка оказалась удачной.
А дома Евдокия Ивановна встретила мужа страшной вестью: в прошлую ночь, когда он был еще в Туле, Вера Астафьевна на своей Москве-Сортировочной попала под товарный поезд. Как случилось это, никто не знает. Кончила смену, видели люди, пошла по направлению к своему дому, – ночь, темно, а утром оказалась на рельсах, на главной линии, совсем в другой стороне.
Куцеволов слушал жену, сочувственно кивал головой.
Потом попросил мыло, полотенце и ушел на кухню мыть руки. Мыл долго. Вернулся, сел к столу пить чай, и снова поднялся, схватил полотенце.
– Ты же, Гришенька, только помылся! – удивленно воскликнула Евдокия Ивановна.
– Да? – спросил Куцеволов.
Оглядел руки, швырнул полотенце на кровать. К пиджаку прилипла белая льняная ниточка. Куцеволов снял ее, защемил между пальцами, дернул и оборвал. Скатал в комочек.
– Помылся уже, говоришь? Ну конечно, помылся!
В этот вечер на постели он обнимал Евдокию Ивановну особенно крепко.
7
И еще прошли годы.
Все так же бурлили, наполненные революционной свежестью, рабочие собрания и уходили эшелоны с добровольцами-строителями во все концы советской земли. Кумачовые полотнища теперь уже призывали: "Даешь пятилетку!"
Почти вовсе забылись тяжелые дни гражданской войны, разрухи, блокады, интервенции. Хлеба по-прежнему не хватало, и промышленные товары – каждый метр сукна или ситца, каждая пара обуви на строгом учете – распределялись только по коллективам. Жилось более чем туговато. Но мечта неизменно звала вперед, в будущее. Люди не расставались с заботами о строительстве новых гигантских заводов, о закладке новых линий железных дорог, о необходимости крупнейших преобразований в сельском хозяйстве. Объявлялись поход за походом против темноты, бескультурья, неграмотности. Не было ни малейших предвестников, что какие-то посторонние силы вдруг вмешаются и разрушат все эти замыслы. Наоборот, престиж Страны Советов все больше креп и расширялся.
Куцеволов читал газеты, сообщения из-за рубежа и со злой радостью думал о тех безденежных глупцах, кто в свое время удрал за границу и остался там среди чужих чужаком навсегда. Он мудро этого не сделал.
Нет, счастье ему все же сопутствует постоянно, несмотря на любые повороты судьбы. Во всем, большом и малом, он отмечен удачей, сразу, может быть, по достоинству и не оцененной. Куцеволов прищуривался: не следует скромничать перед самим собой. Только ли удачливость и слепое счастье? А не вернее ли – дар предвидения и точный расчет?
Он задумывался теперь все чаще: пора ему, пора переменить образ жизни. Не оставаться же до конца дней своих только завхозом, делопроизводителем или счетоводом! Старой России нет и не будет, Куцеволова тоже нет, и не будет, и главное – не было, а Петунину уже несколько раз предлагали пойти на выдвижение.
Бесконечно отказываться, даже с умелой наигранной стеснительностью, значит постепенно портить себе репутацию. Если не хочешь двигаться вверх, будешь двигаться вниз. А лучше ли это? Докуда еще выжидать? И чего выжидать? Перемен государственных не предвидится, а угроза его разоблачения со смертью Веры Астафьевны окончательно миновала. Единственная ниточка, протянутая отсюда к старику Петунину в Иркутск, оборвалась. Можно быть твердо уверенным, что никакие пути старика Петунина в Москву теперь уже не приведут.
Ну, а как поступить с Евдокией Ивановной?
Когда-то все было очень ясно. Пора наступит – бросить. Такая пора, если выходить на люди из своей мышиной норки, уже наступает. Баба она хорошая, хозяйка тоже хорошая, но жена, если понимать это, так сказать, в дореволюционном смысле, – жена, супруга, совсем незавидная. Одним словом, не светская дама. К тому же она старше его на целых пять лет! И, очевидно, сознавая все это, в последнее время она с удивительной настойчивостью просит ребенка. А чем дальше, разница в годах станет и еще заметнее. И если будет ребенок, цвет с лица у нее и вовсе быстро слетит. Что же тогда?
Разве только ради вкусных щей, какие она умеет варить, с ней оставаться? И разве другие бабы помоложе, и покрасивее, и пообразованнее, то есть годные и в жены, в супруги, в дамы, тоже не сумеют вкусных щей сварить? Или детей от них не будет? За восемь лет он к этой, конечно, привык, как к комнате, как к постели, привык. Но если попросту сказать, именно даже бабы другой уже хочется. Надо бросать! Бросать, пока нет ребенка и, следовательно, нет лишних слез и жалоб высшему начальству.
Придя к твердой мысли, что наступила пора двигаться вверх, что нельзя упускать время, Куцеволов постепенно переменился и на работе. Он уже не просто с прилежанием исполнял то, что ему поручалось, но делал это с все возрастающим рвением. Выступал на митингах и собраниях, строчил заметки в стенгазету, исправно ходил на субботники и воскресники, записался чуть ли не во все кружки, стал членом МОПРа, РОККа и разных других добровольных обществ.
Делал это он планомерно, не сразу, не одним рывком, где выжидая, когда ему предложат какую-либо общественную нагрузку, где сам напрашиваясь на нее. Его безупречная грамотность производила свое доброе действие. Из стенкоров он быстро заделался членом редакционной коллегии, а потом и редактором стенгазеты, возглавил в своей конторе ликбез – поход за ликвидацию безграмотности. Наконец, подал заявление в партию.
Принят он был в кандидаты без единого замечания. Кто-то спросил только: "А скажи, Петунин, чего ты раньше не вступал в партию?" Он потупился, помолчал: "Не считал себя достаточно подготовленным". И еще был вопрос: "Почему ты раньше часто менял работу?" Он снова потупился, помолчал и выкрикнул из души с отчаянной честностью: "Как рыба ищет, где глубже, искал я, где лучше! Самому стыдно теперь. Потому и считаю, не был я тогда подготовленным в партию".
Это произвело впечатление. Мужик не скрытничает, говорит обидную для себя правду. Отовсюду, где он работал, о Петунине добрые отзывы. К тому же человек пострадал от белого террора. Проголосовали за него единогласно.