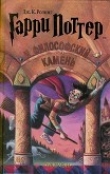Текст книги "Философский камень (Книга - 1)"
Автор книги: Сергей Сартаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 21 страниц)
Так, извиваясь среди невысоких пеньков и болотных кочек, он продвинулся далеко. А когда наконец Мешков заметил это и крикнул в полный голос: "Куда ты, остановись!" – бандиты опустили за Тимофеем огневую завесу, отсекая свинцовым ливнем двинувшегося ему на выручку Мешкова.
Тимофей прижимался к земле, разваливая телом снег, отталкивался ногами от хилых торфяных кочек и полз, полз вперед. Там, еще издали, он присмотрел удобный холмик с обгорелым выворотнем, таращившимся к небу узловатыми корнями. Вот оттуда он откроет огонь! Ему было страшно; нервная дрожь, будто от холода, вдруг передергивала его тело, но ненависть к врагу побеждала все. Остановиться или отступить он уже не мог.
А пули нащупывали, искали его в промерзшем болоте, среди кочкарника тут и там, осатанело взвизгивали иногда близ самого уха, осыпая мелким мусором плечи, голову, рубили совсем рядом сухие метелки гогона.
Но вот и облюбованный холмик с выворотнем. Под корнями – так бывает всегда – глубокая чаша. Тимофей свалился в нее, перевел дыхание.
Отсюда, с возвышения, хорошо были видны свои, лежащие за пнями и кочками, в изломанном, широко разбросанном ряду. Стучали частые выстрелы, мигали острые огоньки.
По его следу торопливо, но с осторожностью продвигался Мешков.
Тимофей хватил губами мягкий, прохладный снежок один раз, другой и положил ствол винтовки на корень выворотня. Приподнялся. И замер в растерянности. Бандиты были совсем недалеко от него. Он искал глазами главного. Ему хотелось непременно главного. Который из них? Но видел он только торчащие из снежных сугробов черные стволы карабинов, горбатые плечи да острые макушки башлыков. В кого же из них в первого?
Зубы постукивали. Тимофей знал: нажмет сейчас спусковой крючок винтовки и, значит, кого-то непременно убьет. Ведь он не промахнется, не может промахнуться...
Которого? Забывшись, он приподнялся еще выше, чтобы получше разглядеть цель.
И выстрелил.
Но в ту же секунду какая-то неведомая сила его самого так резко толкнула в грудь, что он не устоял на ногах, повалился навзничь. По всему телу разлилась быстрая боль, горячая и давящая. Небо заполыхало багровым пламенем.
"Убили... – с обидой подумал Тимофей, подчиняясь холодной темноте, сменившей вдруг палящее пламя. – Убили меня... А я... успел ли?.."
8
Его не убили. А о том, что сам он все же успел сразить врага, Тимофей узнал лишь много дней спустя, очнувшись на госпитальной койке в Верхнеудинске, когда схлынул темнящий сознание жар, свет перестал резать глаза, а в ушах прекратился настойчивый, неумолчный звон.
Тимофей силился припомнить, проследить в памяти, как все это произошло. Да, он тогда видел, отчетливо видел короткий огонек, всплеснувшийся над сугробом, он даже заметил, что огонек этот двухцветный – желтый с красным, что он острый и тонкий и направлен прямо в него. А пуля толкнула так сильно, словно ударило в грудь широким торцом тяжелое лиственничное бревно. Он лежал и вместо заснеженной белой земли видел почему-то пылающее красное небо. Потом небо качнулось, погасло, будто жгучая боль черным пологом торопливо задернула его. И тогда не стало уже ничего.
Да, совсем ничего!
До тех самых пор, пока не явилась какая-то новая боль, острее крутого кипятка, от которой, сколько ни мечись на постели, даже на минуту спрятать себя невозможно. И Тимофей с той поры снова стал жить.
Если бы его убили, он бы не чувствовал боли, смерть могла бы прийти раньше, чем боль. Может, лучше было бы умереть, чем так мучиться? Да, но теперь, когда умрешь, ты уже не будешь знать, что освободился от боли. Ты даже и не поймешь, хуже это или лучше – стать мертвым, потому что боль будет с тобой до самого последнего вздоха. А когда перестанешь дышать, боль исчезнет, но не будет уже и самого тебя.
"Знаешь ли ты, что такое жизнь? И смерть? Знаешь ли ты, что такое "ничто"?" – перед глазами бежали строчки из тетради капитана Рещикова. И Тимофею хотелось крикнуть зло, вызывающе: "Ну и узнаю! Теперь я все узнаю..."
Стучались в памяти и другие слова, сказанные Васениным еще в Иркутске: – "Жизнь – это очень просто: покамест человека ноги носят – вот это и есть его жизнь". Тимофей перекатывал на подушке потяжелевшую голову, облизывал сохнущие губы, спорил: "Ну нет, товарищ комиссар, это тоже не совсем так..."
Часто ему в бреду, в душных, перепутанных снах почему-то виделась Людмила Рещикова. Вот так же, как сам Тимофей, мечущаяся в постели, немо, с горьким укором глядящая на него отуманенными болью глазами. И Тимофей перед нею оправдывался. Будто в том, что девочке так тяжело, именно он, и только он один виноват...
Потом, когда закончилась полоса горячих бессонных ночей, перевязки не стали причинять страданий и можно было подолгу лежать спокойно и тихо, Тимофей припоминал все это уже как прочитанную им интересную книгу, над которой, чтобы хорошенько в ней разобраться, сто раз надо подумать.
Дни тянулись медленно.
Он спрашивал врачей, санитаров: "А где сейчас комиссар Васенин? Где наш полк?"
Ему отвечали: "Взяли Читу! Двигают дальше..."
Вон как! "Взяли Читу... Двигают дальше..." Это значило – к заветному Тихому океану. А Тихий океан, даже если шагать к нему по карте циркулем, был еще так далек от Читы, что Тимофею делалось лихо и руки сами тянулись сорвать бинты.
Он понимал, что выручить его из госпиталя и снова взять в полк может только Васенин. Но как он это сделает, находясь в походе? А санитары уже сострадательно намекают: "Тебя, парень, когда на выписку, так, пожалуй, вчистую. Доктор тебя шибко жалеет. Свое ты отвоевал". И Тимофей решал твердо: доктор может его "жалеть", и выписать его могут "вчистую", но свое он еще не отвоевал. В полк он все равно вернется, какие бы ему ни выдали документы!
Иногда от Васенина приходили короткие письма. Шли очень подолгу. Из них можно было понять, что комиссару и даже командиру полка Анталову крепко попало за тот неладный бой в тайге. Банду хотя и ликвидировали, но могли ведь и сами там сложить свои головы. И еще понятно было из писем, что потом, после Читы, удачно погонялся комиссар за самим бароном Унгерном. В общем, дела идут. Передавались приветы от Володи Свореня, от Мешкова, тоже в том бою раненного. А Тимофею давался наказ: встанет на ноги – не покидать Верхнеудинска.
Тимофей не послушался. После долгих споров с хирургом, выписавшись из госпиталя – стояла уже глубокая осень – и получив бумажку, что к несению строевой службы красноармеец Тимофей Бурмакин временно не пригоден, он тут же бросился, как задумал, на розыск своего полка.
Он нашел его за Хабаровском, в буранный день, когда полк отбивал встречное наступление бело-повстанческой армии, сколоченной японцами из хорошо отдохнувших в Приморье семеновцев и каппелевцев.
Васенин обрадовался появлению Тимофея. А удивился не особенно: "Нарушил мой приказ! Так сказать, прибыл... Но вообще-то, конечно, сделал ты правильно. Если определил себе цель, к ней надо идти. Упрямо идти, пока не дойдешь". Долго вертел в руках бумажку из госпиталя и наконец без слов вернул ее Тимофею. Больше никто у него документов не спрашивал.
А через три месяца, под Волочаевкой, в самом конце долгого, жестокого боя, Тимофей снова был ранен. На этот раз не так тяжело, в ногу. Но поваляться на госпитальной койке ему все же пришлось. Второе возвращение в полк было принято уже как само собой разумеющееся, тем более что новая бумажка из госпиталя свидетельствовала лишь о легком ранении. Васенин поощрительно хлопнул его по плечу. Мешков обнял и расцеловал.
Володи Свореня при комиссаре уже не было: он учился в дивизионной школе младших командиров.
Линия фронта теперь проходила близ станции Иман. Поглядеть на географическую карту России – кусок земли, остающейся в руках белогвардейщины, был всего с ноготок. Большой палец Васенина легко накрывал его полностью. И взять бы, как следует давануть в последний раз...
Но снова поперек пути становилась японская армия. А в открытую войну с Японией по-прежнему ввязываться было нельзя.
"Когда же наконец они с нашей земли уберутся ко всем чертям?" – с негодованием спрашивали бойцы.
Все знали, что переговоры на Дайренской конференции японцами сорваны. Нагло, бесстыдно, с явной целью оттянуть время, чтобы измором заставить правительство Дальневосточной республики согласиться на их условия.
"А условия, братцы, такие: поделить с ними мешок золота пополам, объяснял Васенин. – Нам пустой мешок, а им золото".
"Такахаси! Мацудайра! Тачибана! – фамилиями японских генералов ругался Мешков. – На-кося, выкуси!"
И показывал тугую фигу.
А из Владивостока между тем приходили вести: в стане белых грызня. Одно временное правительство сменяется другим. Братья Меркуловы, Дитерихс, Народное собрание, Земский собор... Призыв за океан, к развенчанной императрице Марии Федоровне: "Соблаговолите возглавить Приамурский край..."
Генерал Дитерихс сучил кулаками: "Лягу костьми на поле брани, но не отступлю перед красными!" Представители Японии подогревали бравого генерала. В мутной воде рыбка удилась лучше.
Так прошла пора весеннего цветения. Затем отшумели и летние грозы. В лесу уже поспевали ягоды. И назревала решительная схватка с врагом.
Она началась очередной провокацией японцев, сорвавших и новые переговоры – теперь в Чань-чуне.
Тотчас с готовностью зашевелились штыки "земской рати" генерала Дитерихса, двинулись к северу в наступление, опираясь на мощные твердыни Спасска – своего ближнего тыла. Им казалось...
Неизвестно, что им казалось. Всему миру уже было ясно в те дни: песенка белых на Дальнем Востоке спета. Это поняли наконец и японцы. Толкнув Дитерихса в бессмысленные бои, сами они тут же стали отходить к Владивостоку, грузиться на корабли. Интервенция отсчитывала свои последние часы.
А "земскую рать" Дитерихса, гоня вспять, к югу, между тем перемалывали партизаны и части народно-революционной армии. Неприступные редуты Спасска, густо опутанные колючей проволокой, скоро превратились в затянутое пороховым дымом поле. Штурм Спасска продолжался только двое суток. Но эти дни были днями великого мужества.
Тимофею, уже привыкшему к многим тяжелым сражениям, казалось, что именно этому бою не будет конца: так труден был каждый шаг вперед, так страшен был свинцовый ливень врага.
Потом, когда отгремели последние выстрелы и все затихло, Тимофей оглядывал опустевшие, изрытые снарядами укрепления противника, брошенное, втоптанное в грязь оружие и с удивлением думал: "Как я дошел сюда? Почему на этот раз ни одна пуля в меня не попала?"
Он припоминал тот давний, свой первый бой. Страх, колючей льдинкой тогда подползавший к горлу. Безнадежность, с какой он готов был, опрокинувшись навзничь в сугроб, отдаться смерти.
Припоминал второе ранение, когда уже и мысли не было о том, что он умрет. Только досада, что вот опять его подкосила пуля.
А в этом бою, самом грозном из всех, он и совсем не испытывал страха или близости смерти. Лишь ожесточение, когда, казалось, даже сердце каменело. И забывалось, дышишь ты или нет.
Тимофей кривил губы в усмешке: "Человека только один раз можно убить. Один раз меня убивали. Чего мне теперь бояться?" Мать рассказывала: отец его тоже ничего не боялся. Он не может не походить на отца!
Битва за Спасск была еще не самой последней. Откатившись на юг, "земская рать" попробовала зацепиться за Монастырище, ударить оттуда в тыл красным войскам. И наткнулась на дивизионную школу, всей силой "рати" своей – десять против одного. Но выстояли все же курсанты, хотя из двухсот сорока в живых остались только шестьдесят семь человек. Тимофей томился в тревоге за судьбу Володи Свореня, пока их полк пробивался к курсантам на выручку.
Сворень уцелел. Залепленный грязью, окровавленный, он тихо и радостно повторял, когда встретились: "Тимка! Ты? Тимка!" И отрицательно покачивал головой: "Нет, не раны, это просто царапины".
Потом и еще были короткие схватки на марше. И снова японцы пытались предъявлять ультиматумы, грозили остаться во Владивостоке. Но это была уже агония.
Во Владивосток народно-революционная армия вступала солнечным днем. Золотая дорожка играла на светлой глади залива. Усталости как не бывало. Тимофей каблуками рубил щебнистую землю, жадно глотал влажный воздух.
"Вот он, Тихий океан! Вот где конец войне!"
Мешков шел рядом, свободной рукой потирал давно не бритую бороду, толкал Тимофея локтем. "Эх, попариться бы в баньке скорее! Да скинуть винтовку с плеч!"
А Тимофей и сам не знал тогда, чего себе пожелать.
Главное, дошли до Тихого океана, до Владивостока. И нет больше на русской земле японцев. И нет беляков. Свобода! И, значит, винтовку теперь действительно, как хочется Мешкову, с плеч долой!
Так иногда говорил и комиссар. Говорил, что, когда армия дойдет до Тихого океана, он, Васенин, пожалуй, тоже снимет шинель и вернется к гражданским наукам. Не потому, что не любит военную службу, а потому, что хочет быть всегда в схватке, боец же мирного времени – все-таки лишь часовой.
"Открытие сделать бы! Огромное! На пользу всему народу, человечеству. Впрочем, мне теперь это вряд ли удастся, знаний у меня маловато, старею, а самые крупные победы в науке чаще всего принадлежат молодым. Вот тебе, Тима..."
Он весело смеялся. А Тимофей думал: "Чтобы лишь сравняться в знаниях с комиссаром, и то – сколько же надо мне учиться!"
Приходил на память капитан Рещиков. Если верить Виктору, он почти открыл уже, каким образом свинец можно превращать в золото. В тетрадке в свою последнюю ночь при свете сального светильничка дрожащей рукой капитан записал: "Возможно, золото – это снова тот же свинец, и снова как бы живой, только "там", в ином мире, после своей, свинцовой смерти..."
Вот, наверно, какую жизнь и смерть силился разгадать капитан Рещиков! Но так и не разгадал.
– Нет, по-серьезному, товарищ комиссар! – спрашивал Тимофей Васенина, когда складывался у них такой разговор.
Комиссар шутливо отмахивался.
– Потом, потом, сейчас не время для глупостей! Воевать нужно, Тима. И не время из свинца золото делать. Из свинца сейчас пули лить нужно. Вот это вполне серьезно.
Он обещал заняться записями капитана Рещикова как-нибудь потом, после войны.
И вот война кончилась.
9
А серьезный разговор, тот, на который так набивался Тимофей, состоялся у них все же не скоро.
Уже Васенин спорол нашивки с рукавов, а в малиново-красных петлицах у него заблестели новые знаки различия – остренькие эмалевые ромбики, по одному с каждой стороны. Давно уже, хотя и не в одно и то же время, окончили дивизионную школу младших командиров Володя Сворень и сам Тимофей. В петлицах у них тоже появились знаки различия – по четыре "осколочка", треугольника. А Сворень, кроме того, горделиво носил еще и привинченный к гимнастерке орден Красного Знамени. Все курсанты, выдержавшие бой под Монастырищем, были награждены орденами. Демобилизовался и уехал домой в Москву Мардарий Сидорович Мешков. На Владивостокском вокзале он долго обнимал Тимофея, трепал его по плечу. "Приезжай! С Полиной Осиповной примем тебя, как родного". Перевели в Москву и командира полка Анталова, назначили начальником военной школы. Тимофей справил свой двадцатый день рождения. В личном деле значилась теперь очень дорогая для него пометка о сдаче экстерном экзаменов за школу второй ступени. Правда, слова "экстерном" там не было, это слово пустил в ход Васенин, подняв из запасов минувших времен, но Тимофею оно почему-то особенно пришлось по сердцу: оно звучало красиво и, кроме того, подтверждало, что знания свои красноармеец Бурмакин приобрел не за партой. Самый же драгоценный документ он носил всегда при себе партийный билет.
Он вступил в партию, когда вся страна скорбно переживала тяжелую утрату самого дорогого человека на земле – Владимира Ильича Ленина. В партийной ячейке полка заявление Тимофея обсуждалось недолго. Не споря, все согласились, что сын героя, погибшего за дело революции на царской каторге, потерявший мать от подлых рук белогвардейских палачей и сам прошедший честно и храбро с боями, с кровью трудный путь от Байкала до Тихого океана, достоин называться большевиком.
В тот день, когда Тимофей получил партийный билет, Васенин подарил ему книгу Фридриха Энгельса "Диалектика природы".
– Люблю дарить хорошие умные книги. И дарить их со значением, – сказал он. – А значение на этот раз таково: лишить тебя спокойствия! Именно в столь знаменательный день для тебя. Чтобы запомнился день этот и этот подарок. Думаю, без волнения ты не начнешь читать эту книгу. Больше о книге я пока ничего не скажу, кроме того, что это первое издание на русском языке. Будем говорить о ней, когда тебе самому понадобится.
Тимофей пришел с книгой Энгельса к Васенину, уже собираясь в большую дорогу. Положил на стол, развернул посредине – запестрели на полях частые карандашные пометки – и сказал:
– Понимаете, товарищ комиссар, стал готовиться, складывать свои вещи и вспомнил ваши слова: "Приди, когда наступит пора". Ну, я понимаю, почему тогда вы эти слова сказали. А я после того чуть не каждый день к вам приходил, и мы разговаривали, обо всем разговаривали, но сказать вам так, прямо: "Хочу о книге этой поговорить, потому что я не все в ней понял", – не мог. Язык не поворачивался, самого себя было стыдно. Не расспрашивать же вас! Поговорить так уж поговорить. Когда оба точно знают предмет разговора. Вот мне как хотелось! А не доспел. С тем и уезжаю, товарищ комиссар. Но забыть я ничего не забыл. И книгу принес показать: все же будете видеть, что не лежала она просто так, в тумбочке у меня.
Васенин слегка прищурился, тонкие лучики морщин собрались в уголках глаз.
– Мужской разговор, Тима! Только зачем тебе нужно все это словно бы документами доказывать? Вижу пометки на книге, вижу: работал. Понимаю и то, что ты называешь стыдом своим, – не доработал. И не мог доработать! Времени было мало. И образования мало. Так разве всего этого я не знаю? Чего тебе со мной-то в кошки-мышки играть? Куда же тогда я гожусь? И ты куда годишься?
– К слову пришлось, товарищ комиссар. И притом хотелось еще начистоту сказать вам... Охота мне, как бывало в детстве, все понять, во всем разобраться, а доверчивости той уже нет, к каждому слову в книге – сто "почему". Одно мне неясно, другое неясно... Товарищ комиссар, а есть на свете такой человек, которому до конца все ясно? Вообще может он быть, такой человек?
– Ну, это, брат, не очень-то новые слова. Каждый великий философ, мудрец прежде всего об этом заявляет. До конца все ясно только дуракам.
– Мы с Володей недавно поспорили. Он говорит: ему все ясно.
– Ага! Вот видишь, значит, есть такой человек. Что же ты меня спрашиваешь?
– Товарищ комиссар!..
– Слушай, Тима, а не пора ли тебе называть меня как-нибудь иначе, не товарищем комиссаром? Хотя бы у меня в доме. Неужели оттуда, издалека, ты и свое первое письмо начнешь: "Товарищ комиссар!"?
– Не буду... Спасибо, Алексей Платоныч!
Тимофей готовился к отъезду в Москву. Надолго, а может, навсегда, расставался с Васениным.
Мечта комиссара полка завершить поход на Тихом океане, а затем снять шинель и заняться гражданскими науками не сбылась. Его вызвали в Реввоенсовет республики, сказали: "Да, конечно, желание ваше можно понять. Но вы уже столько лет служите в войсках! У вас накопился огромный опыт политработника. Зачем вам менять профессию? Не такая сейчас пора. Необходимо, чтобы вы остались в армии".
Утром он прочел приказ, подписанный начальником Политуправления РККА о переаттестации и о назначении А.П.Васенина комиссаром Тихоокеанской дивизии. Посидел, зажав ладонями голову. "Встать, комиссар! – негромко сказал он себе. – Повторить приказание!"
И вот настал день, когда Тимофей и Сворень уезжали от своего комиссара. Собственно, это было его рук дело. Васенин подумал: ребята окончили дивизионную школу, нужно дать им хорошую путевку в жизнь, помочь поступить не в краткосрочную, а в нормальную, с полным курсом обучения военную школу. А там пусть действуют самостоятельно. В конце концов шинель совсем неплохая одежда. В Реввоенсовете республики правы: армию укреплять нужно, такая сейчас пора. Полагается направлять в военные школы в своих же военных округах. Но, черт возьми, такой ли уж большой грех, если друзья из Политуправления, да и Анталов, поспособствуют Дальнему Востоку получить два места в Московском военном округе для красноармейцев, один из которых был дважды ранен, другой награжден орденом Красного Знамени. Пусть ребята посмотрят столицу!
И вот Тимофей расставался с Васениным.
Теперь, сидя за чайным столом, они больше молчали. Васенин, взглянув в окно, спросил:
– Зайдет ли Володя Сворень?
Тимофей промолчал. Он боялся выдать себя, свою тоску, свою любовь к комиссару. Ему было жаль уезжать, оставлять одиноким близкого человека. Конечно, вокруг Васенина, как всегда, будут тысячи людей, но дома-то он все-таки одинок. Войдя в эту комнату, подолгу будет стоять у порога, не сразу снимет фуражку, не сразу распахнет створки окна. Очень трудно будет и ему, Тимофею. Кто знает, как она сложится, новая жизнь? А к кому вот так доверительно придешь, с кем так запросто посоветуешься?
– Наверно, не заглянет больше Володя, – сказал Васенин, и в голосе комиссара Тимофею почудились обида и горечь. – Ну, да, впрочем, мы с ним уже распрощались. Кстати, он тоже решил мою память проверить. Спросил, помню ли я давний разговор на станции Худоеланской. Дескать, обещался я тогда у Тихого океана про "полную суть коммунизма" ему рассказать. И не рассказал, дескать. Понимаешь, Тима, не запомнился мне тот разговор. Но я ответил ему: "Вот закончишь военную школу, тогда поговорим, тогда ты и сам мне расскажешь". А он засмеялся – и, знаешь, как-то... неладно засмеялся.
Васенин помолчал, побарабанил пальцами по столу.
– Провожать вас на вокзал я не приду, завтра у меня командирские занятия.
Тимофей знал, что командирские занятия начинаются в девять, на два часа позже отправления поезда, и угадывал, почему не хочет прийти на вокзал Васенин.
И снова они замолчали.
– Слушай, Тима, а у тебя ведь усы начинают расти! Еще вчера их и не было.
– Ну какие это усы, товарищ комиссар? – Тимофей потрогал верхнюю губу. – И сейчас ничего нет.
– Растут, растут, – сказал Васенин торопливо. – Да-а... Жизнь себе идет полным ходом. – Он взял книгу, которую принес Тимофей, подержал, как бы взвешивая, в руке. – Жизнь идет... Так сказать, диалектика природы в действии.
– А что такое жизнь? – с ударением спросил Тимофей. – Помните, обещали: потом, потом...
– Ну? Опять проверка моей памяти?
– Вы ведь так ни разу серьезно мне и не ответили. Только всегда обещали: потом, потом...
– А-а! Что ж, могу. Теперь я даже обязан ответить совершенно серьезно. Когда еще снова задашь ты мне этот свой надоедный вопрос? Жизнь – это неразгаданное чудо природы, пользоваться которым выпало счастье и человеку, – сказал Васенин, глядя в сторону, в окно, за которым шатались на ветру тонкие макушки молодых тополей.
– У Энгельса написано: "Жизнь есть способ существования белковых тел..."
Васенин быстро повернулся к Тимофею, бросил книгу на стол.
– Тима, не хотелось бы мне, чтобы ты читал Энгельса или, к примеру, Маркса, Ленина так, как прочитал сейчас.
– Да нет, Алексей Платоныч, совершенно точно. – Тимофей даже слегка растерялся. – Хотите, я сейчас вам это место найду.
– Не надо, Тима, не надо. Жизнь действительно есть способ существования белковых тел. И точнее определить невозможно. Но разве одна эта формула исчерпает всю глубину и многообразие жизни? Я боюсь формул, когда ими начинают разговаривать очень молодые люди. Ты знаешь химическую формулу воды?
– Знаю: аш два о.
– И это все, что можно сказать о воде? Часто ли, думая о воде, ты мысленно произносишь эту формулу?
– Да я же, Алексей Платоныч...
– Понимаю, понимаю. И все-таки, Тима... Не сделай сердце свое только органом кровообращения. Знаешь, меня что-то кольнуло в самой твоей интонации. Торжествующей, победительной. Будто тебе и на самом деле вдруг стало известно, что же такое жизнь. Бойся в суждениях своих торопливости! Он откинулся на спинку стула, полуприкрыл глаза, и Тимофей отметил про себя, что у Васенина лицо теперь все изрезано морщинками, словно бы окутано тоненькой сеткой, а этого совсем недавно еще не было. – Ты понимаешь, не знаю даже, что для уяснения истины опаснее: промедлить или поспешить. Промедлишь – придешь к истине позже, потеряешь драгоценное время; поспешишь – может случиться, и вовсе на галопе проскочишь мимо, уйдешь от истины в сторону. Вот я тебе даю разные наставления. А какое у меня на это право? Словно бы я сам ни в чем и не ошибался и всегда приходил к истине точно вовремя. Конечно, нет, но ведь кто-то должен наставлять идущее вслед поколение! Как будет недостойно старших, если их сыновьям придется заново открывать Америку, выдумывать колесо и ломать голову над квадратурой круга. Не говорю уже о поисках вечного двигателя. Или философского камня – предмета многих забот и душевных страданий трагического капитана Рещикова.
– А я ведь как раз о нем и вспомнил, товарищ комиссар, когда вам ради шутки задал свой вопрос, – сказал Тимофей. – Только поэтому и спросил.
– Нет, Тима, шутки у тебя не получилось. Можно сколько угодно осмеивать чертей и ангелов, которых действительно на свете не существует, но изощряться в дешевом остроумии по поводу таких глубочайших понятий, как "жизнь", "вечность", "бесконечность", о которых ты просто еще мало знаешь, вряд ли это присуще подлинному мыслителю.
– Понимаю, Алексей Платоныч...
– И еще. Никогда не криви душой, Тима! Из кривого ствола винтовки в цель не попадешь... А когда ты станешь ученым... – Васенин хлопнул по столу ладонью и засмеялся. – Станешь, станешь! Не век ты будешь носить шинель, хотя сейчас это нужно родине. Да и для тебя полезно – дисциплинирует. Но не век будут терзать человечество жестокие войны. Верю в разум человеческий, верю в силу трудового народа на всем земном шаре, верю в коммунизм! И ты, Тима, совсем еще молодой, дождешься этого... Нет, почему – добиться надо этого! Словом, пока походишь в шинели. А потом непременно станешь и отличным ученым. Понимаю, тебе хочется побыстрее. Так ты совмещай. Поставь себе это второй целью в жизни. И станешь! Ученых, знающих все, повторяю, нет и не может быть. Но есть и будут всегда ученые, знающие очень много. К этому стремись!
Он встал, прошелся по комнате, растирая ладонями виски. Оглядел стену, маленький холщовый коврик, увешанный оружием – личным, наградным и разными техническими диковинками, – отрицательно покачал головой. "Нет, не годится!" Потом пробежал взглядом по этажерке с книгами. Снял одну, подал Тимофею.
– Должен я что-то при расставании подарить тебе на память. Это обычай народный. Пусть у тебя окажется еще одна книга, подаренная мной. Вот "Слово о полку Игореве", возьми! Нет, погоди, я сперва сделаю надпись. – Он набросал несколько строк и прочел вслух: – "Моему младшему брату Тимофею. На дальнюю дорогу. Алексей". Вот так! Объяснять свою надпись не буду, кажется, все понятно. О самой же книге немного скажу. Она на древнеславянском языке, перевода на современный русский язык здесь нет. Придется постигать самому. Видишь, тысячи лет еще не прошло, а объясняться со своими предками приходится уже через посредников. Вот она, как жизнь течет! Да-а... И мы с тобой кому-то ведь тоже со временем придемся далекими предками, и написанное нами сейчас через тысячи лет будет читаться, как написанное на древнерусском языке. Так надо же, чтобы наши мысли, наши слова и дела, подобно "Слову о полку Игореве", тоже помнились тысячи лет. Вот с таким значением сегодня я и дарю тебе эту книгу. Шагай, Тима! Шагай в тысячелетия! Не себе – народу своему пробивай дорогу в тысячелетия. Ну, прощай! Мне еще надо подготовиться к командирским занятиям.
Васенин обнял Тимофея, постоял так и легонько отстранил от себя.
– Ступай! Хочешь, на дорогу, на длинную твою дорогу, я тебе загадаю загадку? Так сказать, по сути нашего сегодняшнего разговора. Ты вот вычитал и знаешь уже, что "жизнь есть способ существования белковых тел...". Великие, бессмертные слова Фридриха Энгельса! Но белковые тела далеко не одинаковы, и способы их существования бывают разные, человек – тоже белковое тело. Итак, жизнь есть только способ... А вот тебе загадка: цель, смысл жизни? Задумайся над этим. Каков смысл жизни белковых тел? В том числе человека...
10
Путь на запад был совсем иной, чем путь на восток.
Тогда Тимофей шел, на каждом шагу делая для себя удивительные открытия; теперь ему все уже представлялось знакомым, привычным. Теперь он редко спрашивал, чаще сам отвечал на вопросы других. Тогда он шел или ехал, куда двигалась вся армия, куда шел или ехал комиссар Васенин, теперь он ехал один.
И хотя Володя Сворень занозисто командует вблизи больших станций: "Тимка, сбегай за кипятком! Пора нам чайку попить", – это не значит, что Тимофей подчинен ему. Нет, теперь Тимофей сам себе хозяин. На стоянках он может сколько угодно расхаживать вдоль состава, а когда поезд тронется и начнет набирать скорость, может вскочить в самый последний вагон и ехать в нем до следующей остановки, не опасаясь выговора. И эта свобода совсем не похожа на ту, с какой он, тоже самостоятельно, когда-то ехал из госпиталя искать свой полк. Эта свобода похожа на ту, что была раньше в тайге, на охоте. Сейчас он может, если ему захотелось бы, даже вообще сойти с поезда на любой станции и задержаться там на целую неделю, в пределах срока действия "литера". Он может все!
Единственное, что он обязан сделать, – это прибыть в Москву, явиться в Политуправление по адресу, обозначенному Васениным на конверте, и сдать запечатанный пакет. Второй пакет вручить Анталову.
Поезд шел удивительно быстро. Тимофей подсчитывал: каждые сутки – почти шестьсот верст. Не успеешь и оглянуться – приедешь на место. Попасть поскорее в Москву очень хочется. Но еще больше хочется вот так ехать и ехать без конца, стоять в тамбуре, до пояса высунувшись из окна, стоять пропыленному, исхлестанному тугим встречным ветром, исколотому угольной гарью паровоза, орущего крепким раскатистым басом на крутых закруглениях пути.
И можно было кричать, и можно было петь, смеяться, не привлекая к себе внимания. И можно было просто молчать и думать, уносясь мыслью в прошедшее или будущее. Можно было, нацелясь взглядом в чуть появившуюся вдалеке "казенного" желтого цвета будку путевого обходчика, словно бы тянуть и тянуть ее на себя, любуясь, как она вырастает в размерах, а когда твой вагон поравняется с нею, выкрикнуть что-нибудь веселое, озорное. Бородатый, темный лицом обходчик, распустив зеленый флажок, не дрогнет, не поведет даже бровью, но откуда-нибудь с порога будки, или из окошка, или от колодца нежданно всплеснется белая девичья рука и долго, долго будет потом провожать убегающий поезд. Хорошо в большой дороге!..