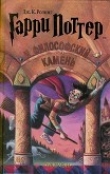Текст книги "Философский камень (Книга - 1)"
Автор книги: Сергей Сартаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
Но "дедечек" выручил его снова. Он медленно разнял сцепленные кисти рук и продолжил свою речь.
– Понимаю, я священник, Йозеф владелец завода, пусть небольшого, и это все плохо согласуется с новыми идеями. Но, мальчик мой, не мог быть Юлий Цезарь христианином, ибо жил он еще до рождения господа нашего Иисуса. Не мог быть социал-демократом Спартак, ибо жил он задолго до Оуэна и Маркса. Идеи рождает время, а время идет, и не может человек нового времени оставаться в кругу прежних, постепенно дряхлеющих идей. Вот на столе у меня лежат томики многих великих мыслителей. И я радостно вижу, как век от века возвышается мысль человеческая, как идеи справедливости становятся господствующими. Равенство людей... Разве не самой религией нашей оно заповедано? Пивоваренный завод Йозефа не такой завод, чтобы мне читать заповеди господни по-другому. Преклоняюсь перед теми, кто стремится к такой цели. И если ты, Вацлав, вошел в этот мир идей – честно служи справедливости. Не делай только ничего, что было бы во вред родине нашей, что приносило бы ущерб вере в господа нашего. Пообещай мне это!
Вацлав пообещал. Со спокойной совестью он пошел ужинать. Он не сказал старому патеру ни единого слова прямой неправды, – вряд ли понадобится теперь прибегать к заведомой лжи. "Дедечек" в свое время сам был заговорщиком и знает, что болтливость, даже в кругу своей семьи, не лучшее качество.
Совесть Вацлава была спокойна еще и потому, что он никакого зла ни своей прежней, ни своей новой родине не желал и не готовил. А вера в возможность овладеть неизведанными демоническими силами природы никак не противоречила его религиозным убеждениям. Вера и безверие у него легко, не мешая друг другу, шли рядом.
Пани Марта приготовила действительно превосходный ужин – знаменитого нашпигованного зайца, который всегда был хорош и в холодном, а особенно в подогретом виде. Но Вацлав был голоден, он быстро расправился с холодным зайцем, выпил большую кружку пива и бросился в постель.
Сон никак не приходил. Вацлав лежал на спине, закинув обе руки за голову. И в памяти его оживали то фантастические чудища, красочно изображенные доктором Батайлем, то вытянувшиеся в длинный ряд кабалистические формулы из записей в тетрадях отца, то гороскопы его и Людмилы, расчерченные рукой отца на двенадцать "обителей" квадраты, все испещренные знаками зодиака и цифровыми обозначениями углов восхождения планет.
Потом почему-то сразу представился далекий зимний путь, как бы пробитый в узком снеговом ущелье. Шумящий морозный пар изо рта. И звезды, звезды над головой, те звезды, которые определяют вперед на всю жизнь судьбу каждого человека. Борьба в санях и промороженный, сиплый голос мальчишки в разлохмаченной собачьей шапке: "Молчи! Не то придушу. Поедем к нам. Больше некуда!" Его железные, сильные руки, вдруг как-то странно разжавшиеся. И после легкое покачивание мягкого вагона, чистое постельное белье, приятная улыбка голубоглазой Марты Еничковой: "Пан Сташек добрый, пан Сташек пекный..."
Какая звезда посветила ему в тот миг, когда разжались железные руки Тимофея? Он помнит, так звали парня в лохматой шапке. Куда, в какую жизнь ушел бы он с этим парнем, если бы звезда его тогда закрылась облаком? Тимофей говорил ему: "Будем с тобой как братья!" Да-а, братья...
Тяжело голове, пуховые подушки тверды, как деревянные. Пани Марта, должно быть, слишком туго накрахмалила наволочки. Вацлав скатился на край постели. Вот так. Хорошо...
Снова все те же звезды. Только редкие. Гаснут одна за другой. А "своя" все горит и горит. Что там? На мгновенье среди звезд, холодных и далеких, возник живой образ "дедечка". Спокойный, задумчивый, как бы в себя самого обращенный взгляд. Слабый зеленоватый свет лампы, и сухая рука, заслоняющая глаза даже от этого слабого света: "Не делай, Вацлав, ничего, что было бы во вред родине нашей..."
И сразу теплый, пьянящий ветерок. Тьма, густо окутывающая со всех сторон. А в этой чернильной темноте едва слышное, прерывистое дыхание Анки, ее теплые, податливые губы, томящий запах волос. Какая малость нужна еще до полного счастья! Но почему же он не может сейчас ни свободно вздохнуть, ни пошевелить руками? И не может выговорить одно, всего одно лишь слово: "Милована!"
Кружится голова. А темнота становится такой плотной, что даже глохнут уши. Сладкая истома словно бы пронизывает все тело насквозь. И нет уже земли под ногами. Вместе с Анкой они возносятся к звездам...
Но грозно где-то далеко за стеной гремит электрический звонок, скрипит железо в замке. Заячий страх бросает Вацлава снова на землю.
И все исчезает.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
1
Давняя дружба Тимофея и Свореня дала глубокую трещину. Началось это в Худоеланской. А потом, в Москве, пошло все хуже и хуже. Свореню хотелось, чтобы Тимофей, как прежде, признавал его превосходство во всем, и главным образом – в политической точности любых его суждений. Сворень их высказывал всегда безоговорочно, чуть свысока, как бы снисходя к тупому умишку собеседника. А Тимофей уже давно привык к независимости. Постоянные наставнические подсказки Свореня его раздражали. Но он, не оставаясь безответным, умел держать себя в руках. Именно это спокойствие и бесило Свореня. Когда ему удавалось вывести Тимофея из себя, он мог его перекричать: Сворень был горластее.
– Для чего нас в Москву направили? – спрашивал он. – И почему из всей дивизии только тебя и меня? Потому, что Москва есть сердце нашей родины, и военные школы здесь самые наилучшие. А нас с тобой сюда откомандировали как самых образцовых младших командиров. Поэтому наша задача – зубами грызть гранит науки! Так в песне поется.
– Ну, в песне не совсем так поется, – возражал Тимофей. – И потом, что ты имеешь в виду? Что я не занимаюсь зубрежкой? Так военная наука – не таблица умножения! Главное надо знать, и я это знаю. А зубрежку ненавижу, да и времени не хватает.
– А на другое хватает! Какими книгами вся тумбочка у тебя забита? Для какой службы ты готовишь себя: для военной или звезды на небе считать? Разные стишки небось наизусть помнишь, а на политчасе запоролся на "Апрельских тезисах". Даже назвать их все по порядку не смог.
– Я рассказал о содержании тезисов своими словами и, кажется, ничего не напутал.
– Ага! Тебе "кажется"! А седьмой тезис насчет немедленного слияния банков всей страны в один общенациональный банк ты начисто пропустил – это как? Выходит, товарищ Ленин в апреле тысяча девятьсот семнадцатого года не интересовался финансовым хозяйством страны. А восьмой тезис ты как изложил? Политрук поправлял тебя по первоисточнику!
– Он не поправлял, он просто прочитал. Для полной ясности.
– Значит, ясности как раз у тебя и не было!
– По смыслу получилось то же самое.
– То, да не то! Уж "Апрельские тезисы"-то следовало бы запомнить, как таблицу умножения. Впрочем, уставы Рабоче-Крестьянской Красной Армии тоже точненько знать полагается, а не пересказывать своими словами.
– У тебя, Володя, одни способности, а у меня другие. И память не такая въедливая. А хочется побольше узнать, охватить пошире. Вот я и читаю не только то, что нам задано.
– От такой "широты" как бы тебе не стать вовсе узеньким! – победно хохотал Сворень. – Есть программа обучения, расписание занятий – их и придерживайся. Это вернее.
– Ну, правильно там или неправильно, Володя, а учиться буду я не только по программе. Я хочу знать не одно военное дело.
– А для чего? Думаешь превзойти нашего комиссара Васенина? Напрасный труд – не по твоей это черепной коробочке, да и поумнее Васенина есть люди. Всех их не превзойдешь. Зато по прямой своей обязанности – дураком останешься. Вот так. Ты это, Тимка, запомни!
И отходил гоголем.
Случалось, в разговорах со Своренем Тимофей упоминал имя Людмилы, коря себя за то, что не сумел ей помочь. Тут Сворень всегда был начеку: знал, что в этом случае растравить Тимофея проще всего.
– Не соску сосала эта девчонка, когда отец ее служил Колчаку, – рубил он решительно. – А если даже и соску сосала бы, все равно к порядочным людям ее не приравнять. Царя Николая расстреляли вместе со всей его семьей. И правильно сделали! Так и надо с контрой бороться – под корень! Эту выходили, выкормили мужики. Верх революционного великодушия! Какая еще ей помощь нужна?
Он словно забывал, что когда-то сам выговаривал Голощековым: как это можно человеку "цвет" подбирать. Сворень догадывался – Тимофей неспроста теряет самообладание. И надеялся, что теперь, зная его больное место, он постепенно сумеет вновь подчинить Тимофея своему влиянию.
– Что этой девчонке, пить-есть не давали? – выкрикивал Сворень. Правда, любить ее Голощековы не любили. Так за что же любить? За отцовы "заслуги"?
– Вины ее нет ни перед народом, ни перед революцией, – возражал Тимофей. – Причем же тогда отцовы "заслуги"?
Сворень с подчеркнутой безнадежностью махал рукой и отворачивался:
– Таежный ты, Тимка, лесной!
На этом и затухал разговор до следующей, очередной стычки.
Тимофея больше всего мучила неизвестность. По приезде в Москву он послал Людмиле два письма. Дал свой адрес: главный почтамт, до востребования. Но проходили дни, недели и месяцы, а ответа не было.
– Вот мы спорим с тобой, – говорил он Свореню, – а человека, может быть, уже на свете нет.
– Утопилась? – ёрничал Сворень. – Не бойся! Такие за жизнь хватаются, как осот за землю, – не вырвешь. Увидишь, жива твоя зазноба.
– Ты Людмилу совсем не знаешь, Володя, а я целую ночь с ней разговаривал. Захватит обида – утопится! Из головы она у меня не выходит.
– Конечно! Целую ночь разговаривал да обнимался с ней – вот из головы и не выходит.
– Замолчи!..
Слова Свореня вскоре подтвердились: пришло письмо от Людмилы. Без марки, без конверта, порошочком сложенный листок тетрадной бумаги.
На главный почтамт Тимофей частенько заходил вместе со Своренем. Оба они здесь, пока еще не наладилась переписка в адрес школы, получали письма от своих прежних полковых товарищей, от комиссара Васенина.
В этот раз, подавая в окошко маленький пакетик, сотрудница почты предупредила:
– Будете выкупать? Письмо доплатное.
Сворень глянул через плечо Тимофея, расхохотался.
– А! Что я тебе говорил, Тимка! Давай, раскошеливайся.
Тимофей широко, против воли своей, улыбнулся. Жива, значит, в самом деле жива. Тяжелая гора свалилась с плеч. Он вертел в руках письмо, не решаясь распечатать. Хотелось прочитать одному, без свидетелей. Сворень понял это. Туманясь холодом, он сказал:
– Секретное...
И Тимофей побелел от обиды.
– Читай! Секретов у меня нет.
Ему казалось, что Сворень не станет читать чужое письмо, да еще от девушки. Но Сворень спокойно взял и развернул листок.
– "Здравствуйте, Тимофей! – прочитал он вслух, смакуя каждое слово. – С приветом к вам Людмила Рещикова. Вы на меня сердитесь, что я убежала тогда. Но что я могла сделать? Я же весь разговор ваш с товарищем слышала. Вы мне говорили, Виктор трус и я тоже струсила. А надо было бы в Одаргу. Четыре дня ходила по лесу, а все же вернулась в дом. Так и буду теперь, потому что наложить на себя руки силы уже не хватит. Вам пишу, чтобы вы не думали про смерть мою, как сказала мне бабушка Неонила. Теперь они злятся на меня еще больше. И письма ваши мне не отдавали, я их нечаянно нашла за иконами. Не надо вам вовсе меня искать. И не надо было ничего мне рассказывать, так бы и жила. Зачем вы позвали меня с собой, когда этого сделать нельзя? А как мы тени свои меряли под луной, я никогда не забуду.
Прощайте навсегда. И не пишите. С низким поклоном Людмила Рещикова".
Сворень не спеша сложил исписанный листок бумаги.
– Ну, так что же, Тимофей Павлович? Выходит, зря ты мне пыль в глаза пускал? Мог бы по-дружески сразу признаться, как вы с ней под луной тени свои меряли. Ну, и чья же оказалась длиннее? Только знаешь, Тимка, еще раз я тебе советую: плюнь! Если уж начинать ходить по девкам, так не с этой...
Закричать на Свореня, ударить, вырвать письмо Людмилы у него из рук Тимофей не мог. Они стояли посредине светлого зала со стеклянным потолком, на виду у десятков людей, снующих мимо них по всем направлениям.
– Дай письмо, – глухо, сквозь стиснутые зубы выговорил Тимофей. Белые пятна на щеках выдавали его волнение.
– Пожалуйста! Мне-то на что оно? – Сворень усмехнулся, но письма не отдал, сунул его в карман. – Погоди малость. Еще почитать хочу...
Рядом, но молча вышли они из почтамта, повернули направо по Мясницкой к бульварам; также молча стояли, дожидаясь трамвая. В вагоне Сворень уселся на свободное место, а Тимофей остался на тормозной площадке. Так они и доехали до Синичкина пруда, неподалеку от которого находились казармы.
Тимофей дал себе слово не разговаривать со Своренем до тех пор, пока тот сам, без напоминаний, не вернет ему письмо Людмилы. Гордость и самолюбие не позволяли поступить иначе.
В "молчанке" прошел весь этот день. И следующий. Сворень обращался к Тимофею как ни в чем не бывало, но тот лишь каменно стискивал челюсти.
На третий день Сворень спросил в упор:
– Тимка, я думал – побалуешься и хватит, а ты всерьез. Из-за чего ты на меня надулся? Из-за письма занозы твоей? Ну, пошутил, виноват, признаю, – и протянул руку. – Давай мириться!
Тимофей стоял, держа руки по швам, смотрел в сторону. Он не знал, как должен теперь поступить. Сворень винится, просит прощенья, протягивает руку, но... письма-то не отдает.
Напомнить ему об этом? Значит, заговорить, изменить своему слову.
Молча отойти прочь? Сейчас, когда Сворень предлагает повинную? Нет, это было бы и совсем неверно. Это разрушило бы их дружбу уже навсегда.
– Письмо, – сказал Тимофей сухо, по-прежнему не глядя на Свореня и не принимая протянутой руки. – Отдай!
– Письмо? Какое? – Сворень испуганно отшатнулся. – Тимка, да ты что! Нет его у меня.
– Письмо Людмилы.
– Ну, слушай... Припомни. Еще тогда же, в трамвае, поднялись на площадку – и отдал. Ты что, забыл?
Тимофей отрицательно покачал головой. Нет, он не забыл. Про письмо Людмилы он не мог забыть. Сворень глядел на него ясными глазами.
– Письмо в кармане твоих брюк, в правом кармане. Посмотри, – сказал Тимофей. Ноздри у него нервно вздрагивали.
– Правда? – воскликнул Сворень. И коротким рывком вывернул оба кармана. На пол упали складной ножик, скомканный носовой платок, несколько медных монет и огрызок химического карандаша. – Ну, вот! Конечно... нет ничего. И не было... Да ты у себя погляди. Тимка! Ну, я же тебе честно говорю: в трамвае отдал.
И против совести, против воли Тимофей тоже вывернул свои карманы, зная хорошо, что в них нет и не могло быть письма Людмилы.
Сворень недоуменно пожимал плечами, говорил, что ничего не понимает, что готов съесть себя за нелепую шутку с письмом, что если теперь и пропало оно, так только по вине самого Тимофея и что, право, это не такие драгоценности – потерянный листок бумаги и сама девчонка, чтобы из-за них продолжать свою ссору.
Он был так искренен, так раздосадован случившимся, что Тимофей в конце концов уступчиво сказал:
– Ну, ладно!
Другого, лучшего выхода он не видел.
Но вряд ли Тимофей пошел бы тогда на мировую, если бы знал всю правду.
2
А дело обстояло так.
Еще в первый день их размолвки, перечитав письмо Людмилы и убедив себя, что "тени под луной" были не просто тени, что ночь на лугу свое дело сделала, Сворень задумал посоветоваться с Анталовым. Пусть вызовет начальник школы Тимофея к себе и втолкует ему то, что сам он, Сворень, втолковать не сумел. Ведь жаль парня!
И Сворень, немножко злорадствуя и тут же борясь с этим злорадством, нарисовал мысленно такую драматическую картину. Ответит Тимофей своей "занозе". Потом она ему снова напишет. Он – ей, она – ему. Так и пойдет и пойдет. А чем потом все это кончится? Конечно, его, Свореня, Тимофей не будет слушать, хоть в лепешку разбейся. А вот начальника школы ему послушать придется. Анталов – бывший командир полка, в котором они с Тимофеем служили. И не просто командир, а еще и друг комиссара Васенина.
По-служебному коротко Сворень отрапортовал Анталову всю историю Тимофея и Людмилы вплоть до последней их встречи в Худоеланской.
Он не хотел клепать лишнего на Тимофея. Но, рассказывая, он вдруг почувствовал, как все в его рапорте звучит мелко и несущественно. Все, что он говорит, отдает бабьей сплетней. И хотя Анталов пока слушает внимательно, хмурится все больше и больше. Вставляет вполголоса какие-то отдельные словечки, а в этих словечках – явное недовольство.
И Сворень постепенно стал вводить в свой рассказ такие скользкие подробности, которые хотя и сгущали краски, но, по его мнению, хорошо "проясняли" суть дела. Говорил, не желая причинить заведомый вред Тимофею или бросить тень на Васенина. Просто он бессознательно понимал: если в "ту сторону", на ту чашу весов ничего не прибавить – его, Свореневой, чаше ни за что не подняться. Стукнет Анталов кулаком по столу, крикнет: "О-отставить! Какого черта вы тут мне докладываете!" И он, Сворень, погорит в глазах начальства, и задача по спасению Тимофея от грозящей ему беды останется невыполненной.
Анталов холодно выжидал: ну, что еще?
И Сворень полошил на стол письмо Людмилы, невнятно добавив, что "тени, вы сами, товарищ начальник школы, понимаете, какие это тени". Анталов молча прочитал письмо. Посидел, размышляя.
– И ты точно знаешь, что "это" было?
– Точно, товарищ начальник школы! Иначе и не стал бы вам докладывать. Жаль парня, друга, вы же сами знаете его – герой! А любовь с такой...
– Погоди, – перебил Анталов, – ты сейчас утверждал, что Бурмакин по доброй воле отряд беляков на тракт выводил. Я этого что-то не помню. Васенин мне тогда будто бы не рассказывал.
– Не знаю, товарищ начальник школы. А комиссару Бурмакин при мне докладывал. Только это в вину ему вы не ставьте. Тогда, товарищ начальник школы, Бурмакину было четырнадцать лет, он вовсе...
– И записями этого самого капитана Рещикова до сих пор увлекается? Анталов снова не дал договорить Свореню.
– Увлекается. Так этой тетрадкой и наш комиссар тоже увлекался, Сворень и сам не знал, почему имя Васенина все время попадало ему на язык. Словно щитом, хотелось прикрыться им. – Товарищ начальник школы, припугнуть бы хорошенько Бурмакина! Чтобы оставил он все это дело. И не писал бы больше туда. Эта Людмила Рещикова – ну, чистый же классовый враг! А он еще и от Васенина поддержку получить хочет... Зачем же еще комиссара Васенина...
Анталов встал, ладонью прикрыл письмо Людмилы. Посмотрел поверх головы Свореня.
– Вы свободны, товарищ курсант. Но – о разговоре нашем ни слова. Вы поняли: ни слова! Никому. Бурмакину тем более. Поняли?
– Так точно, товарищ начальник школы! О нашем разговоре ни слова. Бурмакину – тоже ни слова.
– Ступайте!
– А письмо? – И Сворень невольно протянул руку. – Товарищ начальник школы, письмо я... взял у Бурмакина.
Анталов лишь слегка приподнял ладонь над листком бумаги и тут же снова опустил. Сказал непреклонно:
– Письмо останется здесь. От Васенина письма Бурмакину у вас тоже имеются?
– Н-нет, товарищ начальник школы! – и запнулся, спросил неуверенно: Принести?
– Ступайте! А о Бурмакине не беспокойтесь, погибнуть ему не дадим. Я с ним поговорю.
– Товарищ началь...
– Ступайте!
Сворень вышел из кабинета Анталова, словно избитый, физически ощущая боль во всем теле. А в голове было пусто: помог или навредил он Тимофею? Все получилось не так, как заранее он рисовал себе: и свой рассказ, и разговор с начальником школы. И не то, совсем не то говорил он Анталову... А начальник школы был сдержан, сух, даже словечком одним не вспомнил о их прежней, боевой дальневосточной жизни. И даже под конец на "вы" к нему обратился. Совсем худо. Нет, иначе надо было вести разговор. Сглупил, сглупил! Страх, что ли, перед начальством стянул язык...
Да ладно, он добился своего все-таки – Анталов поговорит с Тимофеем, и поговорит, как следует. Хорошо, что при этом на него ссылаться не будет. А письмо? Это плохо. Очень плохо, что оно у начальника школы осталось. Для чего? Как это объяснить Тимофею? Тем более что Анталов несколько раз повторил: "Ни слова!" И глаза у него были холодные.
Но, побродив немного по свежему воздуху, Сворень повеселел: "А, чепуха, в конце концов, все это! Сказано ясно: "Погибнуть человеку не дадим". Вот главное! А письмо... Начальнику школы виднее, что с ним сделать. А я-то уж как-нибудь выкручусь".
Он чувствовал себя удивительно добрым и щедрым другом. И чем больше раздумывал над тем, что произошло, тем больше убеждался: Тимофей еще действительно совсем дурак мальчишка, а он, Сворень, куда толковее, опытнее и серьезнее его.
Вот так они и помирились. Но трещина в их дружбе все же не затянулась, осталась накапливать в себе пыль и грязь.
Начальник школы Анталов потом, дня через два, вызывал Тимофея. Долго и запросто с ним беседовал. Вспоминал, как они вместе воевали, как Васенин на Яблоновом хребте отправился громить белую банду и чуть было не положил в тайге весь свой отряд. Вот его, Тимофея Бурмакина, во всяком случае, это он, Васенин, первой пулей попотчевал. Говорил и хохотал: "Эх-ха, а чего-чего только в жизни нашей военной не приключается! Но, между прочим, Алексей Платоныч молодец! А та пуля, может, тебе и жизнь сберегла. Что улыбаешься, не веришь? Ранила только. А другая, пока ты в госпитале отлеживался, может, и вовсе бы насмерть убила. Так-то, брат!"
Анталов не спрашивал Тимофея о прошлом, о Людмиле, о их встрече в Худоеланском, – что рассказал о себе сам Тимофей, то и рассказал. Так просто, поговорили, вспомнили дни боевые и общего друга-комиссара Васенина. Поговорили, и все тут.
3
А время летело быстро. Времени не хватало. Занятия, занятия и занятия. В учебных аудиториях, на стрельбище, на плацу, в ленинском уголке, в библиотеке – всюду. Тимофею нравилось накапливать в своей памяти знания, занося в тетрадку все новые интересные сведения, так что карандаш теперь сделался для него привычным и естественным продолжением руки. Сколько помнил себя Тимофей, он всегда учился. И не только грамоте, учился всему, что полезно в жизни.
Живя в тайге, на Кирее, собственным опытом постиг он, что дробь, нарубленную из расплющенных свинцовых пломбочек, следует обкатать на сковороде – круглая дробь летит кучнее и дальше. Он заметил сам, что удить рыбу в белой рубашке нельзя – хариус боится белого, что охотника выведет к зверю не всякий сорочий зов; надо уметь простую болтовню сороки отличить от ее удивления; что легче колются в сильный мороз суковатые поленья и что бересту для туесков снимать лучше утром, по началу движения сока, к позднему вечеру на стволе дерева кора стягивается туже...
Когда мальчишкой он попал к комиссару Васенину, новый круг знаний открылся перед ним. Тимофей столкнулся с не виданным до того множеством людей, одна часть которых называлась просто народом, а другая с особой гордостью – Рабоче-Крестьянской Красной Армией; он прошел через большие города; увидел удивительные машины, о которых прежде даже и не слыхивал, а услышал бы – не поверил. Он понял, какая земля богатая, сильная и разная. С необычайной силой в нем вспыхнула жажда познания. Книги, распахивая перед ним мир интересный и яркий, открыли в нем самом способность рассуждать связно и направленно о таких предметах, которые, что называется, в руках не подержишь, потому что возникают они и живут в самой человеческой мысли. Именно это доставляло ему теперь наиболее высокую радость.
В дивизионной школе младших командиров его хвалили: "Прилежен!" Здесь, в Москве, преподаватели удивлялись: "Отличные способности! Все схватывает с полуслова". А Тимофей, работая над учебниками и разной дополнительной к ним литературой, думал: "Как в общем здесь все просто и ясно. Только бы крепко запомнить самое главное, чтобы потом не забыть, да успеть прочитать еще вот это, да это, да то..." Совсем наособицу он хранил у себя в тумбочке брошюру с речью Ленина на III Всероссийском съезде комсомола, в которой он отметил слова: "Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Нам не нужно зубрежки, но нам нужно развить и усовершенствовать память каждого обучающегося знанием основных фактов, ибо коммунизм превратится в пустоту, превратится в пустую вывеску, коммунист будет только простым хвастуном, если не будут переработаны в его сознании все полученные знания".
И надо было читать и читать. А времени ему никак не хватало. Хотелось в редкие свободные часы проведать Мешкова и просто пошататься по Москве. Она притягивала своей подобной тайге бескрайностью и совершенно необыкновенной красотой.
Постепенно отодвинулось в сумеречную даль очень многое из того, что когда-то, казалось, будет вечно жить перед глазами. Только лунная ночь на лугу за Худоеланской и темная борозда следов Людмилы в серебрящейся от росы траве никак не уходили в далекое.
В любой момент Тимофей мог слегка прикрыть глаза и тотчас вызвать перед собой видение – худое, продолговатое лицо Людмилы, согретое доверчивой, застенчивой и в то же время встревоженной улыбкой. Она говорит: "Ну зачем ты так?" Да, вот именно эти слова с надеждой и ласковой жалобой вырвались у нее, когда, насчитав пятьдесят девять шагов в Тимофеевой тени, Людмила поняла, что он над нею подшучивает – движется вперед вместе с тенью.
Конечно, тогда она не кривила душой, та ночь для нее была действительно единственной и необыкновенной. И для него тоже. Разве не так?
И потому после примирения со Своренем Тимофей, не страшась, что размолвка вспыхнет с новой силой, написал Людмиле письмо. И с вызовом объявил Свореню. Тот молча пожал плечами.
А Тимофей написал Людмиле, что слова свои он помнит всегда и на ветер их не бросает. Если сказал, что возьмет ее от Голощековых, значит – возьмет. Он понимает, как жестоко, несправедливо ее обидел Сворень и просит прощения за этот безобразный поступок своего товарища. А все-таки зря тогда она сбежала в лес. Может быть, если бы сразу – все получилось бы по-другому. Теперь же сложнее, он пока учится в военной школе, точно не знает еще, как вызволить ее из той трудной жизни. Но он об этом не забудет. И не забудет ночь на росном лугу, которая так сильно запала в душу и ей. Пусть не приходит в отчаяние, набирается мужества, смелости. Ну всего на два с половиной года! И пусть ему пишет почаще.
Тогда же он отправил письмо и Васенину. Спрашивал, как быть? Спрашивал вопреки предостережению Свореня, что письмом таким Тимофей комиссару только лишь "колючего ежа в душу впустит". Да, Тимофей знал, что Васенину тоже не просто будет подать совет, но кто же тогда, если не Алексей Платоныч старший брат, – сможет ему посоветовать! Надежно и от чистого сердца.
Он послал письма и стал ждать ответов. Людмила в эти дни вспоминалась Тимофею особенно часто.
Также неотступно вставал в памяти чем-то неразрывно связанный с Людмилой поручик Куцеволов, его повернутое в профиль лицо и занесенная над головой рука с согнутой в кольцо витой плетью.
Нередко на политзанятиях, уйдя в эти воспоминания, Тимофей бессознательно выводил карандашом на бумаге горбоносый профиль своего врага и этот, какой-то особенный, взмах его руки с зажатой в кулаке витой плетью. Чертил бездумно, а очнувшись, удивлялся: рисунки походили друг на друга, будто он их выписывал по трафаретке. И хотя понимал, что вряд ли судьба вновь сведет его с Куцеволовым, удравшим, видимо, в Маньчжурию или погибшим, как капитан Рещиков, он также знал, что всю свою жизнь не забудет этот профиль и эту вскинутую над головой руку.
Вспоминался капитан Рещиков. И тогда хотелось сызнова полистать его записи. Они и теперь заставляли думать и думать, искать в своих учебниках прямых ответов на прямо поставленные вопросы. Он искал, а нужных ему ответов все же не находил. Забирался в специальную литературу. Но каким бы образом любой философ ни объяснял на словах понятия пространства и бесконечности зримыми они все равно не делались.
И тогда приходили на память слова комиссара, сказанные им при расставании: "Ученых, знающих все, нет и не может быть. Но есть и будут ученые, знающие очень много, знающие больше того, чем знали люди до них. К этому стремись, Тима!" А капитан Рещиков хотел невозможного – познать все. Он, Тимофей, не станет стремиться к этому, он хочет знать просто "много". И он добьется этого. Непременно добьется!
4
Не очень скоро, но все же пришло наконец большое письмо от Васенина:
"Тима, ты извини за столь долгую задержку с ответом. Объясняется это просто. Был в отъезде, дела заставили меня поехать в Иркутск, а письмо твое все это время, дожидаясь моего возвращения, лежало-полеживало во Владивостоке.
Знаешь, Иркутск, между прочим, очень похорошел. Или потому, что сейчас – золотая осень. Или руки человеческие хорошо потрудились, приводя его в порядок. Или просто у меня оказалось отличное настроение. Но так или иначе, а с Иркутском я снова повидался как со старым и добрым знакомым.
Кстати, о знакомых людях. Ну, в военном округе – дело понятное, там по-прежнему, как были, все свои. А вот я с кем встретился! Помнишь ли ты кочегара Петунина Василия Егорыча, что приходил к нам и рассказывал грустную историю? Невестку у него при отступлении белые убили, а сын Григорий подсел в воинский эшелон, да так и пропал без вести. Адрес Петунина у меня сохранился, время нашлось – я и зашел проведать человека. Очень он был обрадован этому. Да и я тоже. Старику было приятно, что я вспомнил его, а мне было приятно, что он помнит меня.
С сыном его до сих пор нет ясности. Даже больше – туман сплошной! Василий Егорыч сам съездил на место предполагаемой гибели Григория, расспросил тамошних жителей, присутствовавших при захоронении в братской могиле убитых красноармейцев. "Нет, нет, – сказал он мне, – точно знаю теперь: Гришки там нету". После этого Василий Егорыч разыскал еще и демобилизованного красноармейца, который ехал как раз в том эшелоне, куда на перегоне подсел Григорий. Ехал вместе с ним в одном вагоне. Так этот красноармеец заверил Петунина, что в бою с бандитами у безымянного разъезда сын его не участвовал, так как сошел с поезда раньше, за несколько остановок до разъезда. Понимаешь, какая история! Не на линии фронта, а в тылу человек пропал без вести. Был бы жив, конечно, отцу родному подал бы голос.
Вот и решил Василий Егорыч: "Всю Сибирь пройду, а Гришку найду, хотя бы кости его. На своей же земле они!" Каждый отпуск ездит теперь по линии железной дороги, на полсотни верст в обе стороны все деревни обходит пешком, выспрашивает, не находили ли где в лесу мертвое тело. И пока – существенного ничего. Впрочем, вроде бы кое-какие следы и нащупывались. Будто бы то в одном, то в другом месте его видели, фамилию называл, печальную историю свою рассказывал. Но, по описанию, чертами лица с Григорием не очень-то схож. В общем, надежды, конечно, нет.