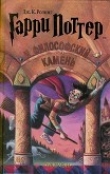Текст книги "Философский камень (Книга - 1)"
Автор книги: Сергей Сартаков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
И толкнул ногой головешки, разваливая сложенный костер.
10
Они зашли в избу, стоявшую на самом краю села. Стены избы были срублены из некантованных сосновых бревен, пожелтевших от времени, такими же потемневшими были и некрашеные наличники. Зато высокая драничная крыша под резным коньком бросалась в глаза своей новизной. Двор с улицы забран в столбы толстым заплотником, но с боков реденько обнесен жердями. Навесы дряхлые, зато амбар светился желточком. Во всем боролись достаток с нехватками, крестьянская прилежность и заботливость со слабосильностью.
Никаких переборок внутри избы не было – вся открыта взгляду. По стенам две деревянных кровати, горбатый сундук, стол, ничем не накрытый, ближе к двери, на березовых колышках, вбитых в бревна, какая-то одежонка. В дальнем углу на одной из кроватей спал или просто лежал, закрыв глаза, круглобородый старик, облепленный сединой, словно тополевым пухом. Возле печи хлопотала худенькая женщина, закутанная в темный самовязаный платок.
Васенин снял шапку, поздоровался, вслед за ним: "Здравствуй, хозяюшка!" – сказали остальные. Хозяйка молча выпрямилась в напряженном ожидании. Комиссар осведомился, как ее зовут.
– Ну, Настасья, по отцу Петровна, – хмуро ответила женщина, – а всех нас ежели, так Флегонтовскими кличут.
Васенин попросил вскипятить чайку.
Беспокойно поглядывая на винтовку, которую Сворень прислонил к стене поблизости от кухонного стола, Настасья принялась наливать воду в самовар, щепать лучину.
– Свои мы, Настасья Петровна, свои, – поспешил сказать Васенин. – Нас вы не бойтесь. Когда отступали здесь белые, вас не обидели?
– "Обидели"? – переспросила женщина, сдвигая с головы на плечи темный платок. – Кабы просто обидели, так это полбеды. Под ноготь забрали все. Корову, телушку! И курей всех порезали. Из амбара даже муку пшеничную до пылинки повыгребли. А мужика моего на двух конях с собой угнали и по сю пору нету! Убили, может.
– Ну, что вы так уж сразу, "убили". – Васенин растирал застывшие руки. – Вернется... Надо надеяться.
– Дыть... третий день, как сегодня... Нет, клади, четвертый. Тут надежа такая – начисто сердце все выболело!
Васенин переждал, пока женщина справится со своим горем. Спросил потом:
– Не от Мироновой смолокурки на тракт беляки выезжали? Про больных и раненых среди них никакого разговора не было?
Настасья разожгла лучины, кинула их в самовар и наставила короткую трубу, наклонив другой ее конец к печному челу.
– Темный их знает, откудова они выехали! Перли, перли по тракту валом! И все с ходу в наш дом. Потому крайние мы. Всяки там были с ними: и недужные и ранетые. У меня по сю пору мельканье в глазах. Тыщи, тыщи!.. Через две избы от нас парня соседского Алеху Губанова было насмерть шашками забили. Пластью, пластью по спине! Вон и деда Флегонта, свекора моего, – кивнула головой в угол, – тоже так прикладами уходили, лежит – глаз поднять не может. А у Кургановских, опять же Савельевских – богатеев, – у тех даже щепоти не взяли. Разве только чаю у них попили. Да, господи, когда ж конец-то им? Или сызнова еще пойдут?
– Амба! Не пойдут. Никогда больше не пойдут, – сказал Сворень. Подошел поближе к Настасье, снял с себя шапку и пальцем показал на красную звезду. Видишь? Звезда пятиконечная. Пять концов, пять слов. Вот, следи: Российская, Социалистическая, Федеративная, Советская, Республика. Поняла? Так как же своя республика не защитит народ свой!
Но женщина ничуть не повеселела. Пощипывая концы платка, она со страхом поглядывала на шапку, которую Сворень по-прежнему держал в вытянутой руке. Васенин это заметил.
– Что вы, Настасья Петровна, так на звезду смотрите?
Женщина торопливо обтерла губы рукой.
– Да ничо... Ничо... Только вот... Анчихристова, говорят, звезда эта.
И вышла в сени, прикрыв за собой дверь.
– Так... Крепко людям в уши надули! – Васенин пригладил волосы, сел на лавку. – Вот как получается: "Звезда анчихристова"... И думает сейчас Настасья Петровна, думает. У нее беляки все "под ноготь" забрали, а мы, новая власть, чем вознаградим? Покушаем у нее сейчас за спасибо? И только? Васенин ткнул указательным пальцем в грудь Свореню. – Ты вот, Володя, пять концов красной звезды ей показал и объяснил, что они символически означают. Не заметил я радости у женщины на лице. А если бы ты на эти концы показал так: хлеб, конь, корова, мирный труд, спокойный сон – это все Республика тебе гарантирует. Засмеялась бы Настасья Петровна, даром что мужик у нее еще неизвестно где и даром что звезду "анчихристовой" называют.
– Так, товарищ комиссар... Вы, конечно, смеетесь насчет коня и коровы по концам звезды! – с обидой сказал Сворень. – А ведь как же над этим смеяться? Звезда наша – это же...
– Да нет, Володя, не над звездой я вовсе смеюсь. И вообще не смеюсь. Прогнать нам белых – только половина дела. И половина-то, пожалуй, еще самая легкая. А вот как потом – и, главное, быстро – сытую жизнь народу обеспечить, когда в стране разруха полная? Как политику правильно повести, чтобы у людей терпения хватило дожидаться хорошей жизни? И сил бы хватило! И желания самим жизнь эту построить, через все трудности, а вперед! Дать им самим в руки наш "философский камень", который никак не мог отыскать в природе капитан Рещиков!
– Для меня мудрено, ежели философия, товарищ комиссар, – признался Сворень. – Только власть-то наша зачем? Властью своей все и сделаем.
– Так мудреного тут что, – отозвался Мешков, – мудреного нет ничего. Народу вперед всего – чтоб без войны. Народу – чтоб без насильства над тобой. Народу – чтоб один не заедал другого. А насчет власти – вот на это только и власть надо. Для твердого наблюденья.
Вошла хозяйка с миской, полной капусты, светло поблескивающей мелкими льдинками. Сняла с полки несколько тугих, зарумяненных калачей. Поклонилась всем: "Ешьте себе на здоровье". Сама занялась полузаглохшим самоваром.
– "Власть для наблюденья...", "Один чтобы не заедал другого". Ты. Мардарий Сидорович, теоретик, – вполголоса проговорил Васенин, присаживаясь к столу. – Володя, а ну, практически! Какие там имеются при тебе запасы? Выкладывай все, Советская власть, народу! Настасья Петровна, прошу откушать с нами. Детишек, что ли, нет у вас?
– Как нет? Двое. Девочки две, Нюрка да Фимка. По улице где-то бегают.
– Зовите! И деда Флегонта своего подымайте, если не спит, если встать может, за общим столом чаю попить.
Мимо окна на крупной рыси промчался большой отряд конников. За ним еще. И еще. Подковы смачно рубили накатанную снежную дорогу. Хозяйка притаила дыхание. Сворень самодовольно подмигнул ей: "Не бойсь, свои!" И женщина в первый раз при них засветилась улыбкой.
11
Потом они долго ходили из избы в избу подряд. И без пользы. Так много прошло здесь белых, что в памяти жителей села все их приметы смешались. Останавливался или нет у кого-нибудь на постой отряд капитана Рещикова, понять было нельзя. Все одинаково грабили, все одинаково издевались.
День переваливал на вторую половину, короткий зимний день. Васенин озабоченно поглядывал на часы. Ему совершенно необходимо было переговорить по селектору с Шиверском прежде, чем оттуда двинется их эшелон. А до железнодорожной станции шагать от села не близко.
Сворень проникновенно советовал:
– Товарищ комиссар, да вовсе напрасно мы ходим, ноги бьем. Если книги эти с места беляки подобрали, здесь они их не бросят. Вам на станцию надо идемте!
– Всякое дело следует доводить до конца.
– Так у нас же нет времени! Дались вам эти книги!
– Всякое дело, Володя, следует доводить до конца, – настойчиво и твердо повторил Васенин. – Времени у нас действительно нет, но...
Комиссар задумался. И решил: пусть Сворень с Тимофеем походят еще по селу, он же с Мешковым уже сейчас направится к станции.
– Только, Володя, смотри! Точно: в сумерках и вам быть на месте. Понимаешь?
– Товарищ комиссар! – Сворень укоризненно развел руками.
И снова изба за избой. Одна, другая... десятая... Сворень крутил головой: "Если бы комиссар не сказал "надо". Сам он явно не верил в успех.
Тимофей ходил, тяжело переставляя ноги. Ему невыносимо хотелось спать. Но еще больше хотелось выполнить приказ комиссара. А веры в это, как и у Свореня, не было.
И вдруг...
– Лежит девчонка кака-то, белыми брошенная, – ответил длиннобородый, суровый с виду старик, встретивший их у порога избы, близкой на выход с другого конца села.
Провел за переборку к некрашеной деревянной кровати. Под стареньким ватным одеялом, сшитым из разных клинышков, лежала Людмила с закрытыми глазами. Девочка дышала редко и тяжело. За спинами Тимофея и Свореня сразу собралась целая ватага ребят – человек шесть, похоже, и свои и соседские. Они толкали друг друга в бока, перешептывались.
– Люда! – позвал Тимофей. И голос у него перехватило. От радости, что жива. И от жалости – как она мучается!
У Людмилы чуть дрогнули веки, но глаз она не открыла. Только еще короче, прерывистее стало дыхание. Дед потащил Тимофея за руку прочь от кровати.
– Не кличь, не тревожь! – сказал сердито. – Вишь, беспамятная она. Вся горит. Грудь насквозь простреленная. Разу еще слова не молвила. Ты ей кто: свой, что ли?
Тимофей молча глядел на Людмилу. Опять вспомнилась страшная ночь в Мироновом зимовье и все, что было потом. "Знаешь ли ты, что такое жизнь? И смерть?.." Нет, что такое жизнь он не знает, а смерть он видит теперь чуть не на каждом шагу.
– Свой, говорю? – повторил старик.
– Нет, не свой, – сказал Тимофей неохотно, чувствуя, что эти слова отдают какой-то неправдой. Среди посторонних сейчас Людмила для него была больше других "своя". – С ними был еще парень, брат ее, годами, как я. И отец – больной, тифозный. Офицер, всем отрядом командовал. В бекешу одет. Где они?
Старик не успел отозваться на эти слова. Кто-то из ребят, давно уже нетерпеливо шмыгавших носами, выдвинулся вперед, застрочил скороговоркой:
– Тут такое было-о!.. Тятька с мамкой в подполье влезли, деда в стайку убег... а... а мы с Ванькой... Вдруг – заходят... Сто человек! Сапоги скрипят, ружья мерзлые... Кинули ее прямо на пол и-и... ходу!.. Лошадей кнутами стегать... Деда после прибег. А она тут... Деда думал, мертвая. Подвинул, а она живая...
– Цыц, ты! – прикрикнул старик. – Ну, да так оно и было. За мертвую попервости и сошшитал. Глянь, спустя время – вижу, кровит девчонка. Ну куды девать? Перевязали. А кто она така, с кем была – ничего мы не знаем. Петька вам чисту правду – кинули ее, как щенка, без всякого имени. А выходит, она офицерска?
– Людмилой зовут. А по отцу – Андреевна. Фамилия – Рещикова, – угрюмо сказал Тимофей.
Ему было ясно. Нет, не бросил бы капитан Рещиков в чужом доме свою дочь прямо на пол, как щенка. Нет, не входил он сюда, сделали это без него. Не входил и Виктор. Он ведь с сестренкой своей по-человечески попрощался бы. А не вошли они оба, стало быть, не могли войти.
Давняя колючка больно царапала совесть Тимофея: неправильно, нечестно поступил он, бросив Виктора в тайге одного. Жена капитана Рещикова погибла, сам капитан тоже, вот и Людмила – выживет ли? Так хоть Виктор бы тогда не погиб! Можно это себе простить? В смерти Виктора никто другой, он, Тимофей, самый главный виновник.
Сворень между тем расспрашивал ребятню, не видел ли все же кто-нибудь из них, чем были нагружены подводы у беляков. Может, сбрасывали солдаты на дорогу ящики, чемоданы с саней? Ребята не видели ничего, в окнах стекла морозом были затянуты. Сворень тихо вздохнул:
– Девчонку-то мы нашли. А книги эти самые? Увезли их дальше. Так, выходит. – Он поглядел на Тимофея: – Знаешь, а ведь, пожалуй, дело-то мы до конца все же довели. Можно теперь и восвояси.
– Так, милай, – остановил его старик. – Милай, а... с девчонкой теперь как же? Раз нашли вы ее, так...
Сворень в замешательстве развел руками.
– Понимаю, деда, – ответил наконец. – Девочку мы непременно забрали бы. Но ведь война идет. А мы Красная Армия, гоним классового врага. Как же мы раненую девчонку в полк возьмем? Вы уж тут полечите ее покуда...
– "Лечите"! А потом? – через плечо старика сердито выкрикнула откуда-то вдруг возникшая молодуха. – Ить белячка она, получается! Нам-то на что же белячка? Знали мы разве? Еще офицерска!
– Дык... – Сворень покраснел от возмущения. – Дык... совесть-то есть у вас? Едва дышит девчонка, а вы ей цвет подбираете: "белячка"! Вы вот фамилию нам свою назовите. Знать, за кем она остается.
Старик степенно разгладил бороду, рукой отвел молодуху.
– Погодь, Варвара! Наше прозвишше – Голошшековы. Я – Евдоким, бабка моя – Неонила. Это сноха. За сыном Семеном. Всякий нас знает. И не волки мы. Девчонку стреляную чичас вам на плечи, ясно, не кинем. Выходим, коль не помрет. Только нам на подкид ее тоже не надобно. Решшикова она – пускай. Голошшековой в жизни никогда и не станет. В семью к нам белячку зачем же? Варвара тут чисту правду. Давайте уговор сразу: вы когда, значит, за ней? И протянул руку ладонью вверх.
Сворень недоуменно подергал плечами.
– Нет – когда? Чтобы взять от нас. – Дед Евдоким настаивал: – Только так, без омману. По-честному! Когда?
– А! В свое время, деда...
И с размаху, только бы поскорей отвязаться, Сворень влепил свою ладонь в ладонь старика.
Вечером, сидя в теплушке быстро бегущего на восток эшелона, уже согревшийся и сытый, Тимофей устало прислушивался к разговору.
– "Пролетариям терять нечего, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир!" Вот, приобретаем! – с пафосом провозгласил Сворень. – Правильно запомнил я слова, товарищ комиссар?
– Кажется, правильно. У меня на цитаты, Володя, память тугая.
– "Приобретут весь мир..." Выходит так, товарищ комиссар, при полном коммунизме у каждого пролетария будет всего сколько хочешь?
– Когда будет "всего сколько хочешь", тогда не будет и пролетариев, сказал Васенин. – Тогда будут только люди, просто люди.
– На жирный кусок повернуть человека нетрудно, – вступил в разговор Мешков. – Этим делом в человеке живот управляет, тут думать не надо. И слов не надо никаких. А чтобы последним сухарем с другим поделиться, совесть требуется. Пока все люди станут люди, пуще всего в них надо совесть воспитывать.
– Живот у всякой скотины, у всякого зверя есть, – наставительно сказал Сворень. – А совесть – только у человека.
– Ну? – произнес Мешков.
– Ну... значит, не по законам живота, а только по законам совести человек и живет.
Мешков сдержанно засмеялся. Кашлянул.
– Для этого зашить либо отрезать начисто живот нужно. Иначе он, язви его, все равно своего требовать станет, бороться против совести! Вот я и не знаю даже, как оно, в будущем? Ох, и ломать надо человеку себя!
– Как же тогда, товарищ комиссар? – растерянно спросил Васенина Сворень. – Ежели так...
– А черт его знает как! – сказал Васенин. – Мешков тоже не зря говорит, он теоретик. И социальную группу, между прочим, определенную представляет. Ушел из деревни в город, а духом рабочим полностью еще не пропитался. Даром что к тому же еще шесть лет на фронтах. Так сказать, остается пока деревенским москвичом. Пролетария каждого еще рукой между ребер пощупать хочет, как корову щупают, проверяют, станет ли прибавлять молоко. Так, Мардарий Сидорович? Ты не обижайся, я ведь это по-дружески. Знаю, с деревней ты начисто все-таки не расстался, сыновья твои пашут землицу-то. И как сказать, закончим войну, не потянет ли тебя обратно? А вообще, Володя, прав ты, конечно: по звериным законам человечество жить никак не должно. И не может уже. Оттого и революции сотрясают всю землю. И давно уже бродит призрак по Европе – призрак коммунизма. Нам до Тихого океана, товарищ Сворень, идти? Точно знаешь?
– До Тихого! Точно.
– По дням, по часам весь наш путь, все бои на пути заранее не распишешь?
– Не распишешь, товарищ комиссар.
– А дойдем до Тихого океана?
– Дойдем! Как же не дойти, товарищ комиссар. Цель наша!
– Ну вот, там об этом снова и поговорим. На самом берегу океана. Глядишь, за дорогу малость и повидней кое-что станет.
– Ну, товарищ комиссар, – разочарованно протянул Сворень. – Вы сегодня чего-то совсем не того... "Призрак" – это из Коммунистического манифеста. А в чем же полная суть коммунизма, который вот уже... – Он пощелкал пальцами, подыскивая слово: – Я чего-то не понимаю.
– У Тихого океана, Володя, у Тихого океана поговорим. Ты мне сам тогда про полную суть коммунизма расскажешь. Да и Тима тоже, наверно... Э-э, он, оказывается, спит! Ну и пусть. Правильно!..
Но Тимофей не спал, хотя и очень устал за этот невероятно длинный день. Он просто сидел, закрыв глаза, и думал. Разговор Васенина со Своренем и Мешковым для него был мало понятен. Он слышал все, но думал свое.
Случалось, говорили о войне люди у них в поселке. И мать, которая была сама на японской войне, много о ней рассказывала. Говорили страшное. А ему страшно не было. Все рассказы словно бы отдавали привычной для таежников охотничьей выдумкой. И вот война сразу, как коршун цыпленка, накрыла, ударила его своим жестким крылом. Не стало матери, не стало своей избы, не стало близких таких и хороших соседей. И он, бездомный теперь, все время идет и идет куда-то. Вон, разговаривают, до какого-то Тихого океана должны все дойти. А ему бы только скорей догнать Куцеволова.
О маленькой Людмиле совсем особая боль. У нее тоже был дом, были отец, мать и брат. И куда-то все вместе они ехали, куда им вовсе даже не хотелось ехать. И вот этот злой коршун их тоже ударил крылом. Людмила лежит простреленная, беспамятная, кинутая нежалостливым людям, чужим, мать сгорела в огне, кто знает, может быть, тогда еще и живая. Отец и брат замерзли где-нибудь в снегу. Война! Только Куцеволов живой и здоровый скачет. Стреляет в людей, рубит их шашкой. Это он война...
Не поднимая век, Тимофей глядел в одну точку. Багрово-красная, она плавала в темноте, скользила то вверх, то вниз. И, все расширяясь, полыхала, как пламя пожара. И сквозь это пламя упорно шел вперед он сам, Тимофей, стремясь непременно догнать, настигнуть Куцеволова и зная, что он его непременно настигнет.
12
А Куцеволов был уже далеко. Стороной, забираясь в предгорья, обошел Черемхово. Он слышал на пути от многих: верховный правитель Сибири адмирал Колчак со своим премьер-министром Пепеляевым расстреляны. В Иркутске действует большевистский Ревком, а за Байкалом вообще творится черт знает что: кипит партизанский котел. Атаман Семенов со своими дивизиями мечется по Забайкалью с запада на восток и обратно, как тигр в клетке. Жанэн, сукин сын, продал Колчака красным, а сам укатил во Владивосток. Так же поступил и прохвост Гайда. Чехословаки совершенно осатанели, не подпускают к железной дороге остатки каппелевских полков, сами едут в теплых вагонах, а русское воинство, хочешь спасать свою шкуру – шагай пешком. Коней давно уже начисто всех позагнали. К черту! К черту цепляться за миф о перемене счастья и возвращении прежней власти. Это крах! И вернее всего было бы, как давно уже задумано, перебежать в Маньчжурию. Не та родина, откуда тебя изгоняют, а та, которая способна сохранить твою жизнь.
Но не так-то просто оказывалось уйти и за маньчжурский щит.
Стремясь не остаться в самом хвосте отступающей армии, Куцеволов вел свой отряд столь быстро, что совершенно забыл о мудром народном правиле: "Тише едешь – дальше будешь". Запаленные кони стали падать один за другим. Тогда он решил сделать хотя бы односуточную передышку, подкормить лошадей. Иначе гибель. В селе, обобранном передовыми частями до последней соломинки, ему под угрозой расстрела целой семьи показали дорогу к покосам, где еще стояло несколько нетронутых зародов доброго горно-лугового сена.
Что ж, морозы немного ослабли, и можно переночевать в лесу, у костров. Потом еще пять-шесть переходов, выбраться напрямую через хребты на старинный Кяхтинский тракт, резануть по нему в Монголию, а там...
Куцеволов чувствовал себя главнокомандующим. С тех пор как он сначала вместе с измученным болезнью капитаном Рещиковым нечаянно отбился от главных сил, а затем уже умышленно остался лишь со своей группой конников, он понял: никому сейчас нет до него дела, живи сам или умирай, как хочешь. Можешь ехать вперед, можешь ехать назад, можешь стоять на месте. И проще бы всего повернуть коней навстречу Красной Армии, сдаться, не бежать в Монголию, в Маньчжурию... Но его отряд был особый – карательный отряд. И не по принуждению, а по убеждению. Много кровавых дел числилось на их счету. Надеяться на милость Красной Армии ни самому Куцеволову, ни его солдатам было нечего. Они это знали. Да и вовсе не о милости к себе помышляли они, а о том, скоро ли снова удастся им пожить в полную волю.
Лесная дорога, близ которой на круглой большой поляне стояли огороженные жердями зароды сена, не была тупиковой. Если поехать по ней и дальше, она снова выводила на тракт, идущий параллельно железной дороге. Что в одну, что в другую сторону от поляны, до ближнего села на тракте было верст по двадцать, по двадцать пять.
Давая команду стать здесь на отдых, Куцеволов послал в обе стороны дозорных. Хотя он был твердо уверен, что вырвался вперед от замыкающих частей по меньшей мере на двое суток пути, привычная для него подозрительность заставляла соблюдать и особую осторожность. Когда армия отступает, бежит, ничего не стоят любые стратегические подсчеты.
Они провели на отдыхе ровно сутки, давая коням вволю отъесться на иссиня-зеленом полинном сене, которое сибирские крестьяне ценят выше овса. Удалось и людям выспаться хорошо, глубоко зарывшись в зароды.
Повеселевшие солдаты собирались в путь. Плотно позавтракали вареной бараниной – в селе сумели-таки прихватить овечек, – напились горячего чая и стали седлать коней.
Мохнатым розовым шаром солнце медленно выкатывалось на вершины деревьев, окружавших поляну. Восточный ветерок чуть-чуть шевелил сухие листья травы.
Куцеволов внимательным взглядом обвел свой отряд и взялся за луку седла. Улыбнулся. Расчет оказался очень точным и правильным: сутки не пропали даром, потерянные версты теперь возместить будет легко.
– Эй! Поживее! – прикрикнул он.
И вскинулся в седло. Крупом ломая изгородь, которой был обнесен зарод сена, конь попятился и заступил задней ногой между жердями. Куцеволов сердито выругался. Приказал ближнему солдату спешиться, помочь коню вытащить ногу. Но тут на поляну галопом влетели дозорные, те, что прикрывали отряд с тыла, истошно прокричали: "Па-артиза-а-ны!" – и понеслись по дороге дальше.
В суматохе, сразу вскипевшей вокруг, солдат не выполнил приказания Куцеволова, хлестнул плетью своего коня и поскакал прочь. Еще минута, другая, и весь отряд, развернувшись веером, устремился за дозорными.
Вслед бегущим из лесу защелкали винтовочные выстрелы.
Злой Куцеволов сорвался с седла, торопливо развел жерди, высвобождая ногу коня, и выпустил из рук повод. Конь без седока тотчас же метнулся вдогонку за отрядом, а Куцеволов, помертвев, остался один возле зарода.
Охватывая поляну полукругом, партизаны уже мелькали между деревьями, стоящими на опушке. Стреляли. Куцеволов рванулся в одну сторону, в другую и, пятясь, зарылся в сено.
Ему ничего не было видно, он только слышал, как вздрагивает земля под копытами совсем близко от него скачущих коней, слышал сухие, звонкие, бросающие в колючий озноб выстрелы. И ждал, как приговоренный к смерти, стоящий у столба с завязанными глазами, когда горячая пуля оборвет давящий сердце страх...
Но удары копыт стали реже, глуше, пронеслись мимо, как в летнюю пору короткий град. Отдалились и выстрелы. А потом наступила полная, нерушимая тишина.
Куцеволов сидел долго, не шевелясь, и только языком слизывал с губ горькую сенную труху. Выбраться из укрытия он не решался. Вдруг на поляне оставлена засада?
А время шло. Надо было действовать. Только как?
"Кто выходит там сейчас победителем в схватке: наши или партизаны?" спросил он себя.
И скрипнул зубами. Свои так драпанули, что никакой схватки, пожалуй, и не было. В худшем случае их всех перестреляли в спину, в лучшем – им удалось удрать. И если даже отряд уцелел, солдаты сюда не вернутся. Надеяться не на кого – надо спасаться самому.
Он осторожно выбрался из зарода, огляделся.
Солнце в радужной короне стояло уже высоко над лесом, более остро, чем с утра, "хиузил" – тянул с востока – ветерок. Поляна вся была взбита, взбугрена сотнями конских копыт. Из ямки в ямку перекатывались, словно живые существа, скрутившиеся в трубки сухие листочки травы. Костры погасли, пепел раздуло ветром, и оголенные черные головешки мрачно рогатились в обтаявших от огня глубоких снежных чашах. Где-то вдали дятел отчетливо-громко долбил сухостоину.
Куцеволов стряхнул с себя прилипшее сено.
– Сволочи! – со стоном сказал сквозь зубы.
Постоял и выругался омерзительно, страшно, относя слова свои и к партизанам, налетевшим так внезапно, и к дозорным, так поздно заметившим партизан, и ко всему отряду, без боя ударившемуся в бегство.
Поднял с земли свой карабин, свалившийся через голову, когда он, наклонясь, вытаскивал из жердевой ограды ногу коня, подержал на весу и бросил.
"Теперь мне не только карабин – и пушка не поможет", – темнея лицом, подумал он.
Проверил патроны в маузере, пощупал на бедре под полушубком браунинг: "Это вот вернее пригодится". Посмотрел на запад, на восток. Пойти на восток? Да, там, конечно, только там спасение. Но пойти сейчас по этой дороге значит, пойти по пятам партизан. Расправившись с его отрядом, они скорее всего повернут обратно, к месту своей обычной стоянки. И Куцеволов пошел на запад.
13
"Догонят или не догонят, прежде чем я доберусь до села? – повторял он про себя, при каждом шорохе в лесу хватаясь за рукоятку маузера. – А в селе укроюсь ли?"
Пройдя верст девять-десять, Куцеволов увидел след. Партизанский отряд спустился с гор на лесную дорогу здесь. Скорее всего и обратно они пойдут этим же следом. Куцеволов вздохнул с облегчением; появилась надежда, что теперь до села он сумеет добраться. Только бы там...
Но когда еще часа через три с опушки тонкого березника перед выбившимся из сил Куцеволовым открылось село, раскинувшееся на плоской, открытой елани, он совсем задохнулся от злобы. На высоком шесте, прикрепленном к крыше волостного управления, вился по ветру красный флаг. Предзакатное солнце освещало его особенно ярко, празднично.
– Капкан! Попался... – прошептал Куцеволов, слабо шевеля стянутыми холодом губами. И, переводя дыхание, выкрикнул громко, зло: – Врешь, еще не попался!
По ту сторону села, примерно верстах в двух-трех, обозначалась линия железной дороги, и по ней, курясь голубым дымком, медленно полз товарный поезд.
Железная дорога! Идут поезда, увозя людей от этих проклятых мест... Он остановит поезд. Как? Не все ли равно. Главное – Куцеволов сейчас знал, железная дорога поможет ему.
Прислонясь спиной к березке, стал дожидаться сумерек. Отсюда, сверху, ему отчетливо были видны и торные санные дороги, и пешеходные тропы, пробитые в обход села. Он их старался сейчас поточнее запомнить. Даше крошечный риск невозможен, даже ночью не следует лишний раз попадаться кому-нибудь на глаза.
Станции поблизости нет, поезда здесь не останавливаются. Но поезд можно остановить на перегоне. И это даже лучше. Только бы не ошибиться, не промахнуться...
Вон слева видна будка путевого обходчика. Хорошо это или плохо? Пожалуй, хорошо. В будке можно отогреться. Куцеволов чувствовал, как у него, разгоряченного было ходьбой, постепенно леденеют ноги, словно бы чужой становится спина.
Ночь выдалась тихой и крупнозвездной. Пронзительно скрипел снег при каждом шаге, и крайние усадьбы провожали Куцеволова неистовым собачьим лаем, когда он огибал село по задворкам. Но ни один человек не встретился ему на дороге. Время тревожное, каждый сидит в своей избе, закрывшись на все крючки и засовы.
К будке путевого обходчика он приблизился, держа браунинг на боевом взводе, – маузер бросил еще в открытом поле.
Из маленького окошка на полотно железной дороги падал тусклый свет, длинными ручейками слабо струился по рельсам. Куцеволов держался в тени, осторожно переставляя ноги в рыхлых сугробах. Стекла в окошке были чистые, не затянутые инеем, должно быть, в будке жарко топилась печь.
Куцеволов остановился, присматриваясь к местности. Будка стоит на прямой, если подать фонарем сигнал машинисту, его будет видно издали. По ту сторону будки однопролетный мост, круто падающий берег речки, густо заросшей таловыми кустами. Там хорошо было бы спрятаться летом. Зимой все равно выдадут следы.
Он перевел взгляд на окно, задернутое понизу марлевой занавеской. По стеклу неторопливо передвигалась тень одного человека. Женщины. А где же мужчина? Спит? Или его нет дома?
Куцеволов прокрался к самому крыльцу, осторожно потянул дверную скобу. На запоре. Тогда он легонько постучал. Донесся изнутри молодой женский голос:
– Гришуня, ты?
Щелкнула задвижка. Куцеволов рванул дверь на себя и ступил в помещение, весь окутанный клубами морозного пара.
Женщина отчаянно вскрикнула и, прикрывая грудь обеими руками, медленно отступила в самый дальний угол. Куцеволов бросил взгляд направо, налево нет больше никого – и приподнял браунинг в полусогнутой руке.
– Где муж? – спросил он, свободной рукой запирая дверь на задвижку.
– На обходе, – чуть слышно выговорила женщина. – Скоро... придет...
– Скоро? – переспросил Куцеволов.
Мелькнула мысль: нет, не очень скоро. Во всяком случае, когда он стоял на крыльце, не слышно было скрипа шагов обходчика, даже самых далеких шагов. Но все равно надо спешить. Что именно следует сделать, он обдумал заранее.
– Дай документы мужа.
Женщина показала глазами. Расширенными, застывшими в тревоге.
– Вон там... все... на божничке...
С узенькой полочки под иконой, висевшей в переднем углу, Куцеволов снял стопку бумаг. За бумагами потянулась кружевная салфетка, разостланная на полочке. Куцеволов отшвырнул ее.
Первое, что было сверху, – метрики. Петунин Григорий Васильевич. Отчество одинаковое, не нужно будет запоминать. Он взглянул на год рождения, обозначенный в метрике, и легкая улыбка тронула ему губы: тут разница самая малая. Второй документ – служебное удостоверение. Дальше Куцеволов не стал смотреть. Вполне достаточно этого.
– Дай мужнину одежду, – приказал он женщине, по-прежнему держа ее под прицелом.
Пятясь, вся одеревеневшая, негнущаяся, женщина приблизилась к сундуку, откинула крышку, начала доставать какие-то пожитки. Они вываливались у нее из рук, падали на пол. Куцеволов с брезгливым презрением смотрел на женщину: "Развезло". И нетерпеливо прикрикнул:
– Скорее!.. Еще верхнее. Где верхнее? Зимнее.