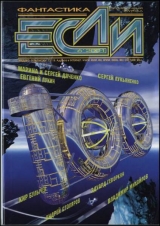
Текст книги "Журнал «Если», 2001 № 06"
Автор книги: Сергей Лукьяненко
Соавторы: Марина и Сергей Дяченко,Кир Булычев,Евгений Лукин,Владимир Михайлов,Владимир Гаков,Эдуард Геворкян,Дмитрий Байкалов,Наталия Мазова,Дмитрий Караваев,Евгений Харитонов
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Второй звонок.
Ожидание сделалось нестерпимым.
Когда прозвенит третий – Тимур знал, – все будет решено, хода назад не станет, сразу сделается легче. Но хорошо бы поскорей пережить эти последние минуты, между вторым звонком и последним, третьим…
Вот и он. Слава Богу.
Погас свет. Тимур придвинулся ближе к сцене.
Зазвучала музыка.
Поднялся занавес.
* * *
– Тима, остановись! Тима, перестань! Он никогда ничего не объясняет… Пойдем!
Тимур стоял перед дверью служебного входа и тянул ее на себя, и толкал ее, и бил ногами – но дверь не поддавалась. Кон не желал больше видеть его; длинные руки Дрозда оттаскивали Тимура прочь, в темноту, но Тимур возвращался снова и снова – и дергал ручку, и толкал, и бил.
– Ты сам во всем виноват, – глухо сказал Борис. – Теперь поздно…
– Заткнись, – через плечо бросил Дрозд.
– Это правда, Коля, – сказал Борис. – Он нас подставил. Всех.
– Еще слово, и сверну челюсть, – сказал Дрозд так спокойно и ровно, что Борис отступил на шаг:
– Коля… Что я маме скажу?! Если я скажу ей правду… у нее же новый приступ будет, Коль…
Дрозд тяжело обернулся:
– Скажи ей неправду. Скажи… Слушай, уйди, Борька! Я могу тебе рыло начистить, но стыдно же будет потом…
Борис отошел. Сел на кромку газона, спиной к фонарному столбу.
Тимур смотрел на закрытую дверь.
…Начали удачно. Дрозд, игравший Ученого, укладывался точно в заданный ритм. Его партнерша Оля, которой всегда трудно давалось начало спектакля, шла за Дроздом, как овечка на привязи…
Только чрезмерная седина на висках Дрозда почему-то отвлекала и раздражала Тимура. Он успел подумать, что надо бы точнее выверить грим…
А потом он понял, что ничего, кроме фальшивой седины, не видит и не замечает. Что Дрозд весь соткан из фальши, что Оля говорит невнятно и тихо, что сцена безбожно затянута. Никакого действия нет и в помине, диалога нет, есть формальные слова и жесты, и зритель начинает потихоньку ерзать, скрипеть мягкими креслами, вполголоса переговариваться, нетерпеливо кашлять…
Спектакль, еще вчера натянутый, как струна, теперь провис сырым тестом. Тимур ждал, что появление Кирилла спасет дело – но получилось еще хуже.
Кирилл был, будто деревянный. Сломанная рука сковывала его движения – но не было настоящей боли, так поразившей мать на утреннем прогоне. На сцене стоял неуклюжий юноша, который ничего не видел, не слышал, который существовал отдельно от партнера и говорил заготовленный текст…
И тогда у Тимура потемнело в глазах.
Вот, оказывается, как это бывает.
Вита стирала белье в ледяной воде, но энергии, так радовавшей когда-то Тимура, не было и в помине. Был наигрыш, суета, разлетающиеся грязные брызги, грохот стиральной доски, съедающий текст и Виты, и партнера…
В зале откровенно скучали. Кое-кто ушел, не дожидаясь перерыва; пустые места зияли выбитымй зубами. Когда, наконец, рассыпающийся на ходу спектакль дотянулся до антракта, зал встретил опустившийся занавес разочарованным гудением и редкими хлопками.
Половина зрителей сразу же рванула в гардероб. Хлопали, выпуская людей, двери.
…Эти двадцать минут перерыва были самым страшным временем в его жизни. Потому что он пошел к ребятам и криком, угрозами, руганью взялся доказывать, что второе действие отыграть надо во что бы то ни стало, потому что артистов, не доигравших спектакль, Кон просто не выпустит на улицу…
И они сыграли второе действие: оно прошло под свист, кашель, громкое сморкание и ехидные смешки.
После того, как опустился занавес, им устроили короткую издевательскую овацию. Все те, чьи спектакли с успехом шли на Коне – артисты, режиссеры, драматурги, – все они хлопали в ладоши, приветствуя провал нахальных конкурентов.
Через полчаса после окончания спектакля перед служебным ходом Кона остановились сразу две «скорые». Дрозд поехал с Кириллом, которого надо было срочно везти в хирургию, Тимур сел в машину с Олей, которую срочно надо было везти в неврологию; Вита и Борис остались ждать в прокуренной гримерке.
…Кириллу вкололи обезболивающее и снотворное, и он спал. Оле вкатили три укола кряду, и она тоже спала, а немолодая врач качала головой, стоя с Тимуром в продуваемом сквозняками приемном покое: «Это у меня девятый пациент после Кона. Да-да… Вы-то сами – как?»
…Потом они провожали Виту. Вита была твердая, как алебастр, и такая же белая. Тимур что-то говорил – вряд ли Вита слышала хоть полслова.
А потом снова, как примагниченные, вернулись к Кону. Он встретил их темными окнами и наглухо закрытой дверью служебного входа.
– Тима, пойдем домой. Пойдем, проводим Борьку… Оставь ты эту дверь. Переживем…
– Коля, – сказал Тимур, оборачиваясь. – У меня к тебе огромная просьба… Отвези Борьку сам. Мне надо… у меня есть еще одно дело.
* * *
В квартире долго никто не отзывался. Тимур позвонил снова. И еще.
Шорох. Свет в дверном глазке. Кто-то смотрит на Тимура с той стороны, из-за двери.
Щелкнул замок. В желтом проеме обнаружился человек в распахнутом халате, всклокоченный, с мятым, как пластилин, розовым лицом:
– Ты знаешь, который час?!
– Полтретьего ночи, – сказал Тимур. – Надо поговорить.
– Посмотри на часы!
– Надо поговорить, Дегтярев. Готов на лестнице?
О чем-то нервно спросила женщина из глубины квартиры.
– Спи! – крикнул ей Деггярев. – Все в порядке.
Исподлобья глянул на Тимура:
– Заходи…
У входа Тимур сбросил ботинки. В носках прошел на просторную кухню, присел на самый край клеенчатого диванчика; кухня была аккуратная и яркая. В углу стоял высокий детский стульчик, на вешалке для полотенец висел нарядный фартучек-слюнявчик.
– Хочешь выпить? – деловито осведомился Дегтярев.
– Нет, – Тимур мотнул головой.
– Н-ну, неопределенно протянул Дегтярев, устанавливая на плитке красный пузатый чайник. – Я же тебя предупреждал… правда ведь? Чем же я теперь могу помочь, Тима?
– Ты сказал: спектакль хороший, но Кон его не примет.
– Я сказал: спектакль забавный…
– Ты сказал: не секрет – что нравится Кону. Я-то по простоте душевной думал, что ему нравятся хорошие спектакли…
Дегтярев серьезно кивнул:
– Ты правильно думал.
– Но ты имел в виду что-то другое?
– Нет, Тима, – чуть преувеличенно удивился Дегтярев. – Я имел в виду именно хорошие спектакли. Профессиональные, серьезные… Не секрет, что Кону нравятся хорошие спектакли.
Тимур помолчал.
– Значит, мой спектакль недостаточно хорош?
Дегтярев поджал губы:
– Тима, я тебя понимаю, все еще очень свежо… Потрясение от провала… Давай сейчас не будем об этом, а? Может быть, через неделю, когда страсти поулягутся…
Тимур сухо усмехнулся:
– Все, кто нуждался сегодня в утешении, уже получили его – из рук медсестры со шприцем. Почему ты заранее знал, что спектакль не понравится Кону?
– Потому что он сырой и беспомощный, – мягко сказал Дегтярев.
– Видишь ли, Тима… Кон не в состоянии добавить спектаклю достоинств либо недостатков. Он берет то, что уже имеется – и тактично выделяет, подчеркивает то, что считает нужным. Это можно сравнить с искусством фотографии – вот женщина средних лет, с помощью света и ракурса можно сделать из нее старуху, а можно – юную красавицу. Весь вопрос в том, любят ее или нет…
– Нас не полюбили, – сказал Тимур.
Дегтярев кивнул:
– Все, что ты сегодня видел, это вполне реальные недостатки твоего спектакля. Кон никогда не лжет. Правда, в спектакле были и достоинства – но Кон не счел нужным подчеркивать их.
Дегтярев снял чайник с плиты. Заварил чай прямо в чашке; Тимур смотрел, как набухают, распрямляясь, чаинки в кипятке.
– Да, Тима. Вот, например, этот мальчик, который играл Писателя – он когда-то полностью пропустил первый курс училища. То есть он учился, но ничего не взял… Это фатально. Он элементарно не видит партнера. А эта девочка…
– Кир играл со сломанной рукой!
– А кого это волнует? Все боли, травмы – наше личное дело. Ты разве никогда прежде не слышал, что Кон жесток? Очень жесток? Что Кон ценит только спектакль, только действие на сцене, а прочее для него – мишура?
– Я не верю, что наш спектакль плох, – медленно сказал Тимур.
– Это Кон изуродовал его.
– Думай, что хочешь, – Дегтярев пожал плечами. – Во всяком случае я рад, что ты не утратил мужества… Видывал я других режиссеров после провала на Коне – случались и слезы, и сопли, и попытки самоубийства…
Тимур долго смотрел на него. Потом ухмыльнулся. Покачал головой:
– Размечтался, ей-Богу… Ну ты размечтался!
* * *
Горели фонари; в половине четвертого утра город походил на аквариум, из которого выплеснули воду, такой же пустой и тускло-прозрачный. На всем долгом пути Тимуру встретилось одно только подслеповатое такси у кромки тротуара. Заинтересованно подмигнуло Тимуру фарой – он был в распахнутом пальто, в приличном, но измявшемся за ночь костюме, со съехавшим на бок галстуком.
Тимур прошел мимо.
Способность прокручивать перед глазами когда-то виденные – или воображаемые – сцены обнаружилась у него еще в раннем детстве. В институте выяснилось, что это качество незаменимо для будущего режиссера. Шагая по лужам, Тимур просматривал свой спектакль. Не тот, каким он был сегодня, а тот, каким он должен быть; в чем ошибка, спрашивал себя Тимур, но не находил ответа.
Все огрехи и неточности, подмеченные Коном, действительно были. Но ведь было и другое! Была мысль – так, во всяком случае, Тимуру до сих пор казалось. Был оригинальный ход, было решение, был стиль…
Почему Кон не пожелал этого увидеть?
Неужели Тимур и в самом деле «графоман от театра», как однажды обозвала его начинающая критикесса?
Он остановился на перекрестке. Блестящая мокрая брусчатка показалась ему бесконечным зрительным залом, увиденным сверху, со второго яруса, а то и вовсе – с неба…
На той стороне пустынной улицы возвышался темный спящий Кон. Перед парадным зрительским входом стояли круглые афишные тумбы – десять: Тимур впервые сосчитал их, когда ему было года три…
Сейчас на Коне было четырнадцать действующих спектаклей. Самому старому шел седьмой год. Самый молодой – «Комедия характеров» – жил на Коне всего четыре месяца и выдержал около десятка представлений.
Тимур пересек мостовую. Остановился перед шеренгой тумб. «Десять Толстяков» – так их называли. «Что, насмешливо говорили первокурснику, хочешь увидеть свою афишу на одном из Десяти Толстяков?»
Тимур шел, разглядывая плакаты, виденные им уже множество раз. Сперва он воскрешал в памяти все эти драмы, комедии, трагикомедии, вспоминал в деталях и подробностях, а потом устал и стал просто разглядывать афиши.
А почему нет фотографий, вдруг подумалось ему, когда самый последний Толстяк был изучен до последней буквы. Почему, ведь перед каждым городским театром – обычным, большим и не очень, хорошим и так себе – обязательно клеят на стенды фотографии актеров, заснятые сцены из спектакля…
А ведь Кон запрещает снимать спектакли на видео. Традиционное объяснение – сценическое действо нужно смотреть из зала. У всех, кто пытался обойти запрет, обязательно портилась камера или размагничивалась пленка…
Тимур медленно двинулся обратно – вдоль шеренги Толстяков. «Кону нравятся хорошие спектакли». Вот афиши четырнадцати хороших спектаклей…
Увидеть бы их хоть раз на нейтральной сцене, вне Кона.
Тимур остановился.
Ни один спектакль, принятый на Кон, ни разу после премьеры не игрался на обычной сцене.
Его мать побоялась выйти на обычную сцену после головокружительного успеха на Коне…
Тимур запахнул пальто. Утренний ветер пробирал до костей.
Если бы можно было отделить магию Кона от собственных достоинств спектакля… Тогда, возможно, ему удалось бы понять…
Белый циферблат над зрительским ходом показывал половину пятого утра. Скоро надо будет ехать к Оле в больницу…
Телефонные будки стояли в ряд – сразу четыре. Тимур бросил жетон, набрал номер; трубку схватили сразу же, и Тимур пережил короткий приступ раскаяния.
– Тима?!
– Со мной все в порядке, – сказал он мягко. – Ма, скажи… Ты видела дегтяревскую «Комедию характеров» перед премьерой, еще до Кона?
– Тимка…
– Прости, ма.
Пауза.
– Да. Видела.
– Это действительно было так здорово? Без помощи Кона?
Пауза.
– Тима, где ты? Иди домой. Пожалуйста. Ира звонила… Человек десять звонили, все хотели тебе сказать, какой ты талантливый, какой ты…
– Скажи, мама, спектакль Дегтярева… Мне казалось, я его видел раньше.
– Тима, иди домой. Прошу тебя… Я тебе все расскажу, когда ты вернешься.
– Я скоро приду. Пока, мам.
– Тима, пожалу…
Он аккуратно повесил трубку на рычаг. Сунул руки глубоко в карманы пальто; втянув голову в плечи, обогнул угол и остановился перед служебным входом.
Дверь была по-прежнему закрыта. Тимур потрогал ручку; потянул, заранее зная, что попытка обречена.
Поднял голову. Посмотрел на ряды темных окон.
Медленно, будто гуляя, обогнул еще один угол и оказался на заднем дворе театра. Отсюда монтировщики грузили декорации…
Широкие железные ворота были тоже закрыты. Зато приоткрытой оказалась форточка на втором этаже. На окне без решетки.
Тимур снял пальто. Повесил на сучок маленького облезлого дерева; подумал и снял пиджак. Сумку оставил рядом. Мысли ушли, было хорошо и спокойно от ощущения, что наконец-то можно действовать. Добиваться цели, а не анализировать поражение.
Тимур вскарабкался сперва на дерево, оттуда на крышу стоящего рядом гаража, оттуда на карниз второго этажа. Больше всего он боялся, что форточка захлопнется у него перед носом. Это было бы вполне в духе Кона – но Кон либо спал, либо недооценивал Тимура, либо просто любопытствовал: и что же дальше?
Форточка была узкая. Дрозд – тот не влез бы. А Тимур, хоть и ободрал немного бока и порвал рубашку, но продрался и, оставив грязные отпечатки ботинок на белом подоконнике, спрыгнул на пол.
Нащупал в кармане зажигалку. Огляделся.
Костюмерная. В обычном театре ее выдал бы запах нафталина, но Кон не терпит пронафталиненных костюмов. Да и моль здесь не водится.
Глаза Тимура привыкли к темноте. Пощелкивая время от времени зажигалкой, он пробрался к выходу. Каждый из идущих на Коне спектаклей имел свою стойку для костюмов, каждый костюм источал свой запах. Тимур жадно поводил ноздрями – пахло пудрой, духами, машинным маслом, воском… но больше пахло потом. Даже изысканное платье со страусиными перьями, платье героини из «Комедии характеров», пахло, как надушенное трико силового гимнаста.
Тимур толкнул дверь – она поддалась, и это было славно, потому что он до последней минуты боялся: дальше костюмерной его не пустят.
В коридоре не было окон: совершенно непроницаемая темнота.
– Добрый день, – сказал Тимур, стараясь говорить спокойно. – Вернее, доброе утро… Я прошу прощения, что вошел без спросу. Но мне очень надо поговорить.
Тишина.
– Я прекрасно понимаю – многие, наверное, после провала вот так же требовали объяснений…
Тишина.
Тимур двинулся вдоль коридора, ведя по стене рукой. Запнулся о свернутую в рулон дорожку; дальше пошел осторожнее, время от времени щелкая зажигалкой в надежде отыскать надписи на стенах.
Надписей не было.
Стена была холодная, шероховатая. Коридор свернул; обнаружилась лестница. Тимур худо-бедно сориентировался, подниматься не стал, а пошел по коридору дальше – по направлению к сцене.
– Я думаю, вы меня слышите. Но притворяетесь, что меня здесь нет. Что же… Я расскажу. После сегодняшнего… вчерашнего провала меня не возьмут даже вести школьный драмкружок. Не знаю, потеряет ли что-то театр оттого, что меня в нем не будет. Может, и не потеряет. Это и не важно. Речь не обо мне. Речь даже не о тех, кого я подставил под удар: не о Вите, которая могла бы стать великой актрисой, не об Ольге, которую придется долго лечить, не о Борисе, чья карьера закончена, не о Кирилле, преданном театру настолько, что он и с размозженным черепом играл бы, наверное… И не о Коле Дрозде, чей редкостный талант так никто и не оценил. Речь не о нас. Я хочу знать… просто объясните мне, что вас так раздражает в этом проклятом спектакле? Что именно? Ведь вы сломали его, как игрушку. Изуродовали перед зрителем. Превратили в карикатуру. Почему? Потому что он сделан «не по правилам»? Не по тем правилам, которые вы считаете абсолютными?
Тимур снова щелкнул зажигалкой. Стены коридора были по-прежнему чисты.
– Я расскажу вам, почему этот спектакль получился именно таким, а не другим. Когда я читал пьесу «Три брата», еще в школе, мне было очень жалко Ученого. Все прочие персонажи считали его эгоистом, мещанином – и относились соответственно, а мне было его жаль. Он не такой эстет, как Писатель, не такой романтик, как Врач… Я уже тогда подумал, что хочу рассказать эту историю по-другому!
Щелчок зажигалкой. Впереди, шагах в тридцати, замаячил выход из коридора.
– Но дело не в этом. Не в том, что пьеса по-другому прочитана, вас раздражает, как она воплощена… Но ведь любую историю можно рассказать по-разному. Можно спеть, можно станцевать… Какая разница, каким путем достигается сопереживание!
Щелчок зажигалкой.
– Так вот, я скажу вам. Вы вот не терпите нафталина… Но там, за вашими стенами, очень быстро меняется мир. Вы понятия не имеете, что такое время – для вас это расстояние от одного звонка до другого. И от антракта до финала. А время – это иное! Это совсем другое… мироощущение. Если бы эти спектакли – те, которыми вы потрясаете души, – если бы их пустить сейчас голенькими, на обыкновенной сцене… Я не говорю, что они будут плохи. Они, возможно, вполне хороши. Но ведь они были бы хороши и десять лет назад, и двадцать… Я путано говорю, да? Вы старше меня во много раз, вам кажется, что вы все познали, все видели… Но попробуйте! Попробуйте хоть на секунду отречься от этих своих правил! Попробуйте взглянуть иначе! Как ребенок, который впервые пришел в театр…
Тимур остановился. Прижался щекой к шероховатой стене:
– И вот что ужасно. Вы ведь задаете тон, вы даете понятия о плохом и хорошем… Все ваши спектакли одинаковы. Драма ли, комедия… Все правильно, все точно так, как учат первокурсников – все в рамках! И все хотят вам соответствовать… Умные люди давно поняли, что вам нравится, и делают спектакли специально для вас. А вы их радостно принимаете. И вкладываете душу. Которую их творцы – недовложили… А когда кто-то хочет смотреть на мир собственными глазами, а не вашими, вы отторгаете его. Вы его давите, как клопа. Чтобы другим неповадно было. И все говорят: этот спектакль плохой…
Коридор закончился; железная дверь, ведущая на сцену, была заперта. Тимур двинулся в обход.
– А вообще, имеете ли вы право судить людей? У вас у самого глаз нет… И души, думаю, тоже нет. Или есть? Где она прячется, ваша душа?
Широкий проем, через который на сцену втаскивали декорации, невозможно было ни закрыть, ни запереть. Тимур вошел в абсолютную темноту. Двинулся вперед, огибая кулисы, отводя с дороги тяжелый бархат. Здесь было душно, от пыли чесалось в носу, Тимур не удержался и чихнул. Духота усилилась – и отступила; перед Тимуром в темноте угадывалось большое пространство: он оказался на сцене, и занавес был поднят.
Тишина. Ни дуновения.
– Вы не будете со мной говорить? Вообще?
Тишина.
Щелкнула зажигалка. Тимур не стал убирать язычок пламени, вместо этого шагнул к кулисе, поднес огонь к краю ткани:
– Будешь говорить?!
Кулиса рухнула. Десятки килограммов пыльного бархата упали с высоты четырех этажей, погасили зажигалку, сбили Тимура с ног, вжали в деревянный пол, оставили без воздуха.
Он не утратил самообладания. Задержал дыхание, как ныряльщик, и стал выбираться на ощупь. Выполз из-под тяжелой горы складок, отдышался; перед глазами плясали искорки, а кроме них, вокруг не было ни пятнышка света. Тимур выбрался на самый центр сцены, подальше от кулис, и снова щелкнул зажигалкой.
Скрип и грохот. Тимур упал ничком, перекладина с укрепленными на ней прожекторами остановила падение в полуметре над поверхностью сцены – в самом нижнем своем положении. Гул потревоженной машинерии не смолкал – падугу опустили против всех правил, слишком быстро, и теперь она тяжело раскачивалась над лежащим человеком.
– Ты не прав, – шепотом сказал Тимур. – Меня давить поздно – меня ты уже раздавил… Но пойми, театр не может идти по рельсам, как поезд… То, что не нравится тебе, не обязательно плохо. Ты похож на огородника, который выпалывает васильки и ромашки за то лишь, что они не смотрятся как любезная ему картошка…
Сцена качнулась, пришла в движение – с негромким скрипом проворачивался круг. Все быстрее и быстрее; Тимур успел встать на четвереньки – и тут же упал снова, втиснулся в гладкое дерево, чтобы центробежная сила не швырнула его в зал Или в кулису. Круг вертелся бешеной каруселью, зажигалка вылетела из руки Тимура, а сам он в какой-то момент едва не потерял сознание.
Вращение замедлилось. Тимур не мог подняться еще долго после того, как круг остановился.
А потом сверху ударил свет, такой яркий, что Тимур закрыл лицо ладонями.
И так, не отрывая ладоней, сел.
Глаза, долго осваивавшиеся с темнотой, привыкали теперь к свету. Тимур видел узор сосудов на собственных веках. А потом в белом, ка-ком-то даже хирургическом свете софита он увидел себя – рваная рубашка с грязными манжетами, брюки, еще недавно приличные, а теперь измятые и перепачканные донельзя. Ссадины на ладонях; у ног его, прямо на досках, было выведено ярко-желтым мелом: Иди домой, Тимур.
– Я не уйду, – сказал Тимур, поднимаясь.
Все фонари, которые только были на сцене и в зале, одновременно вспыхнули.
Это было нечто среднее между летним полуднем и плавильной печью. Тимур заслонил лицо локтем; свет стоял стеной, как прежде стояла темнота, но если темноту можно было рассеять с помощью зажигалки, то средства против света не было никакого.
– Ты ничего со мной не сделаешь, – сказал Тимур. – Я понимаю, мне тебя не разубедить… Но я должен хотя бы попытаться. Вот моя первая победа – ты разговариваешь со мной.
Свет погас – весь, кроме единственного прожектора, показавшегося теперь тусклым, будто одинокая лампочка в ободранном подъезде. Пятно света поползло по сцене; остановилось на меловой надписи: Уходи.
– Нет, – сказал Тимур.
Круг света передвинулся еще.
Ты слышал, на чем строится театр?
– На растоптанных самолюбиях, – Тимур усмехнулся.
Подбирай остатки своего – и убирайся.
– Послушай, – тихо сказал Тимур. – Почему бы тебе не усомниться? Хоть один раз немножечко усомниться… Я не говорю – пересмотреть вкусы. Ты знаешь, что такое театр – но ведь ты не знаешь, что такое жизнь! Как же ты можешь судить?
Пятно света нырнуло за кулисы. Переползло со сцены на бетонную стену.
А почему бы не усомниться тебе? – было написано на стене, в полуметре от земли.
– Потому что я уже прошел через сомнения. Я понял, что имею право на свой спектакль… на свой взгляд. Да, я напрасно пришел с этим к тебе. Я был глуп. Мне хотелось признания. Лучше бы я просто написал у себя на лбу: бездарность и формалист…
Луч поднялся выше. На черной краске было выцарапано, будто гвоздем:
Ты действительно бездарность и формалист.
– Разумеется, – кивнул Тимур.
Луч поднялся еще выше. Тимур шагнул вперед, к лестнице – и наступил на зажигалку.
Поднял. Не думая, бросил в карман.
От перекладин-ступенек пахло железом.
Тебя плохо учили, мальчик. Ты дилетант.
– Нет, – сказал Тимур.
Комочки высохшей грязи откалывались от его подошв и летели вниз.
Ты не умеешь элементарного.
– Нет, – повторил Тимур громче. – Я знаю законы, которые нарушил… Я сделал это намеренно. Мой Ученый, в отличие от персонажа пьесы, существует среди размалеванных кукол… Ведь рисует же ребенок синюю лошадь, прекрасно зная, что синих лошадей не бывает.
Самоуверенность – отличительный признак бездарности.
Тимур поднялся выше еще на несколько ступенек.
– Ты путаешь бездарность и непривычность… Да, мои персонажи сперва отвечают, а потом уже выслушивают вопрос. Я знаю – так неправильно, надо сперва услышать, оценить… Но ведь они же все глухие, кроме Ученого… Я знаю, что это не психологическая драма, а что-то другое… Но ведь сопереживание все равно возникает! Вернее, возникало – до того момента, как мы пришли к тебе.
Сцена осталась далеко внизу. Тимур стоял на узкой площадке с железным полом.
Ты ведь сам обратился ко мне, – было написано на дверце распределительного щитка, над картинкой с черепом и костями. – Хочешь уйти?
Тимур вцепился в поручни. Здесь всюду высокое напряжение, в темноте легко свалиться вниз и навсегда остаться инвалидом, а если угодишь в люк…
Ярость накрыла Тимура тяжело и внезапно, как незадолго до того упавшая кулиса. Но если из-под кулисы Тимур выбрался, то ярость не оставляла ему шансов.
– Не пугай! Ты губитель, а не храм. Ты – ортопедический корсет! Ты – протезная фабрика для здоровых людей! Ты сломал жизнь моей матери. Столько судеб, столько талантливых людей! Ты… Я хочу, чтобы тебя не было!
* * *
В семь часов утра к зданию Кона подъехали одна за другой три пожарных машины.
Огонь удалось потушить не сразу. Толпа вокруг Кона прибывала; пожарные казались неподобающе растерянными – но прятали робость за злостью. А что случилось с ними и что удалось увидеть в здании старого театра, они никому не говорили.
Потом к театру подъехала одинокая белая машина с красным крестом. Милиция оцепила служебный ход и отогнала толпу на изрядное расстояние, но все равно любопытные, привстав на цыпочки, видели накрытые простыней носилки.
Огнем была повреждена крыша над сценой и сама сцена, но не зал; городская управа торопливо выделила немалые деньги на ремонт, и уже через две недели Кон был полностью восстановлен. Со дня на день ожидали возобновления спектаклей, но время шло, и никто не мог объяснить недоумевающей публике, почему до сих пор пустуют афишные тумбы…
* * *
Большой снег выпал поздно. Крыши завалило так, что трубы и антенны увязли почти полностью; деревья стали похожи на белые привидения в простынях. Осенняя грязь канула под снег, будто не было ее вовсе, и только в круглой проталине на месте теплого канализационного люка виднелись распластавшиеся в слякоти кленовые листья.
Спектакли на Коне наконец-то возобновились; первой строкой обновленного репертуара значилась «Комедия характеров».
Среди предъявивших входные билеты была красивая немолодая женщина. Сдав в гардеробе длинное заснеженное пальто, она осталась в черных джинсах и свободном черном свитере.
В зале едва ощутимо пахло свежей побелкой. Возбужденные зрители занимали места; женщина в черном поднялась высоко на ярус. С ее места отлично видна была режиссерская ложа – там сидел безмятежный мужчина средних лет, нос его украшали маленькие очки в модной оправе, и, глядя поверх дымчатых стеклышек, он с интересом изучал зал – заранее восхищенный, ожидающий чуда.
Поднялся занавес. Начался спектакль. Прошла минута, другая…
Слушая знакомые реплики, женщина поймала себя на странном ощущении. Как будто между ней и сценой выросла стеклянная стена; глядя беспристрастно, со стороны, она легко замечала достоинства и недостатки спектакля – актерские находки и недоработки, кое-где режиссерские затяжки, кое-где пробалтывание текста, удачные ходы и намозоленные штампы. «Комедия характеров» предстала перед ней в первозданном виде – без ауры, создаваемой Коном. Без привнесенного Коном света. Нагишом.
Она усмехнулась. Вот, значит, какова цена случившейся с ней перемены: она научилась видеть спектакли Кона сквозь наброшенную им пелену гениальности…
А потом она обмерла от внезапной догадки.
Зал шептался. Поскрипывали бархатные кресла; кто-то кашлянул, но тут же смущенно стих. На сцене ни шатко ни валко шел стандартный, сотканный из «крепких» штампов спектакль. Не то чтобы плохой, не то чтобы хороший. Такой же, как десятки других, многократно сыгранных, привычных, будто растоптанные шлепанцы.
Из зала было отлично заметно, как потихоньку впадают в панику прежде спокойные, довольные жизнью актеры. Кто-то, стиснув зубы, гнал по накатанной схеме с упорством паровоза; кто-то метался, выпав из привычной колеи, пытаясь что-то придумать по ходу действия, обновить, оживить…
Тщетно. Ни помощи, ни противодействия; спектакль, привыкший к мягкой поддержке Кона, теперь вынужден был идти сам. С таким же успехом можно было бы играть посреди пустыни, или на помосте посреди базара, или на сцене любого народного театра; Кон оставил свое любимое детище. Кон вручил «Комедию характеров» ее собственной судьбе.
Зал гудел. В зале шептались все громче; раздались несколько хлопков, шиканье, кашель, снова шиканье… «Тихо вы!» – «Тоже мне, театралы…» – «Это невыносимо!» – «Что вы понимаете, это же Кон!» – «Что вы понимаете в искусстве…» – «Да что вы понимаете!»
Женщина в черном не понимала ничего. И одновременно понимала все – только что теперь делать с этим пониманием?..
В глубине режиссерской ложи обозначился узкий прямоугольник света, а когда пропал, ложа была пуста.
Женщина в черном не ощутила злорадства.
В антракте среди публики случилась едва ли не драка. Гардеробщицы, на глазах бледнеющие, выдавали одно пальто за другим. Корреспондент вечерней газеты что-то быстро наговаривал в трубку мобильника; женщина в черном спустилась в партер, подошла к самому краю сцены и тяжело уставилась в опустившийся бордовый занавес.
На самой кромке сцены, на покрытой лаком деревянной планке были выцарапаны, будто иголкой, несколько слов. Женщина не сразу заметила их, а заметив, вздрогнула, болезненно сощурилась…
Грета, зайди в гример…
Она с трудом оторвала глаза от оборванной надписи. Снова взглянула на плотно закрытый занавес; прозвенел звонок, собирающий зрителей на второе действие, а в фойе вызывающе звонко хлопнула входная дверь…
Грета Тимьянова протянула номерок перепуганной гардеробщице – спустя секунду та испугалась еще больше, обнаружив пустой крючок, на котором прежде висело длинное серое пальто. Грета не стала возмущаться, не стала слушать и сбивчивых обещаний-оправданий, а просто усмехнулась и двинулась к двери.
Она вышла в темноту декабрьского вечера; снег летел почти горизонтально, с сухим шелестом бился о круглые афишные тумбы – «Десять Толстяков».
– Конец Кона! – выкрикивал сквозь ветер незнакомый молодой мужчина в светлом пальто до пят. – Это конец Кона, конец эпохи, вы попомните мои слова!
Грета отвернулась.
Ве…ись… – было написано на ближайшей тумбе, прямо на стекле, поверх какой-то афиши. Надпись оплывала, менялась, как будто ее смывали мокрой тряпкой: Нужно… Не… ненужно… должен… должна…
– Ты свихнулся, – сказала женщина.
Ве…ер…нись… —буквы меняли очертания. Улетали вместе со снегом. Возникали снова.
Грете казалось, что тумбы заступают ей дорогу. Что они готовы сойти со своего столетиями неизменного места, чтобы удержать ее.
Не удержали.
Обхватив плечи руками, женщина в черном шла сквозь белую пургу; на углу остановилась. Оглянулась; беззвучно расходились зрители. Подернутое снежной пеленой здание театра сияло всеми окнами; женщине показалось, что на нее смотрят десятки желтых глаз…








