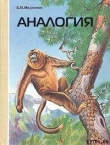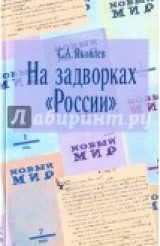
Текст книги "На задворках "России""
Автор книги: Сергей Яковлев
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
– Такой диагноз надо сохранить, – сказал я.
– А он хранится в истории болезни. Там так и написано: "Писатель. На контакт не идет". Я знаю, почему выкарабкался. Живут те, кому что-то еще надо сделать. Как Сергей Павлович, да? Я нужен России.
У Битова предрассудков не было.
Тогда или в другой раз, уже не помню, заглянул Залыгин – попрощаться перед уходом домой, удивленно обрадовался Битову:
– Все писатели стараются быть или казаться оригинальными, а вот Андрей из тех, кому не нужно стараться: он всегда оригинален.
– Завтра тяжелый день, Сергей Павлович. Остерегайтесь, – серьезно сказал Битов.
– А я завтра не работаю. Завтра у нас никто не работает. Демократия! Мы ведь демократы, хоть и стараемся не показывать виду.
ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ
В том году выбирали президента (не АОЗТ "Редакция журнала "Новый мир”, а России).
Егор Яковлев с экрана телевизора рассказывал свежий анекдот:
"– Выберут Ельцина.
– А если не выберут?
– Тогда останется прежний президент!"
Роднянская решила вложить лепту в "победу демократии" и заказала Валерию Сендерову, серьезному публицисту и автору "Нового мира", разгромную рецензию на какую-то книжонку Зюганова. Сколько ни объяснял ей, что такая выходка была бы недостойна журнала, все сказанное воспринималось только под одним углом зрения: я "красный", следовательно – за коммунистов!
Рецензия получилась невыразительной и банальной, как агитка (таков уж материал). Залыгин ее забраковал, о чем Роднянская чуть ли не целый год поминала и сожалела. Впрочем, "сожалела" – не то слово: ее высказывания всегда имели обвинительный уклон (в первую голову против меня, конечно). И Сергей Павлович, чтобы не обострять, согласно кивал: да, промашку допустили. Надо было напечатать. Хотя предложи ему ту статью еще раз, наверняка бы снова отклонил и нашел тому убедительные основания...
Как он относился к происходящему в стране?
Я уже упоминал, что в конце 1994 года, когда я только пришел работать в журнал, он охарактеризовал ситуацию как "демократическую трагедию".
Весной 1996 года в статье о "Новом мире", предназначенной для зарубежного журнала, писал так:
"Не будучи ни правыми, ни левыми, мы неизменно подвергаемся критике и с той, и с другой стороны, критиковать "Новый мир" – это и модно, и престижно.
Нужно сказать, что отстранение от политики – дело трудное и в нравственном отношении. Вот идет совершенно бессмысленная война в Чечне – не может же журнал отстраниться от этого события? Предстоят выборы президента – и нам тоже нужно определиться, кого мы поддерживаем: демократа Ельцина или коммуниста Зюганова?
Ельцин виновен в той же чеченской войне, в том чудовищном беспорядке, который царит в стране. Поддерживать Ельцина – значит утверждать весь этот хаос.
Зюганов, тот обещает все это устранить, все наладить. Но ведь это обещания, и не более того. Как все это Зюганов сделает – он не говорит, но ясно одно: если коммунисты вернутся к власти – это надолго, следующих свободных выборов они не допустят, конституцию, не задумываясь, перекроят на свой лад.
Коммунисты действуют проницательно в вопросах захвата власти, но когда власть в их руках – законов для них нет никаких, а раз так – репрессии и ГУЛАГ неизбежны.
У Зюганова больше шансов на победу, но поддерживать его наш журнал не будет, нет.
В нашем журнале собрались люди, которые и никогда-то в коммунистической партии не состояли и состоять не будут. Дело лично каждого – за кого голосовать, но публиковать прозюгановские материалы желания нет ни у кого из нас, и нам предстоит выбирать президента исходя не из принципа "кто хуже, а кто лучше", не из того, кто хуже, а кто еще хуже.
Этот почти что невероятный тезис нам приходится осуществлять нынче в повседневной работе журнала".
Отсюда видно, что Залыгин рассматривал ситуацию 1996 года (при всех стыдливых оговорках) в рамках банальной оппозиции "Ельцин – Зюганов", имея в виду опасность реставрации коммунистического режима (конечно же, мнимую, раскрученную ельцинским окружением не без помощи самой КПРФ). В чем, надо сказать, был не одинок. «Голосуй, или проиграешь!» – в ответ на этот слоган даже Сарра Израилевна в своей дежурке победно вздымала сухонький кулачок. Так мыслили не только на четвертом этаже, но и «простые» новомирцы. Думаю, окружение (родные, знакомые, соседи по Переделкину, сослуживцы – боявшиеся «потерять все») сильно влияло на Залыгина. Оказавшись в самый день выборов прикованным к постели, он панически боялся, что не сможет отдать свой голос за Ельцина (вел об этом нервные телефонные переговоры с секретаршей)... Но было в его настроении что-то и от всегдашнего крепкого залыгинского здравого смысла. Особенного, отдельного от «демократов».
"Свобода выбора в России – это свобода гибели? Но и без нее нельзя...
Обогащение возможно, если в государстве возрастает производство (ФРГ).
Обогащение возможно за счет финансовых операций, если имеет место долголетняя государственная стабильность (Швейцария).
Если же ни того, ни другого нет и в помине (Россия), за счет чего возникает класс немногочисленных богатых, очень богатых людей?
За счет обнищания другого класса. Снова империализм?
Или – феодализм?"
Это из сочинения Залыгина "Свобода выбора", вышедшего в шестом номере "Нового мира" за 1996 год, как раз к выборам президента. Можно сказать, косвенный ответ Роднянской с ее неудавшейся лептой.
Оттуда же:
"Президенты: подумать только – жить под постоянной охраной, каждый Божий день своего существования расписывать по часам-минутам – что, когда, о чем, зачем и почему; каждый день обязательно что-нибудь обещать; никогда не принадлежать самому себе; да мало ли еще какие муки, но ко всем этим мукам человек рвется, из кожи лезет, расходует себя на интриги, на хитрости, на подлости, и все потому, что власть – тоже потребность..."
Эта великая пошлость истории, Боже! Залыгин писал про нее в то самое лето, когда Чубайс раскрыл "заговор" Коржакова, Барсукова и "их духовного отца" Сосковца, когда проигрывающий Зюганову Ельцин перекупал голоса генерала Лебедя, назначив его секретарем Совета Безопасности и своим помощником, а затем с помощью того же Зюганова рушил опасно выросшую популярность Лебедя и, наконец, с подачи Чубайса объявлял народу о его отставке... По телевидению многократно показывали натужный синхрон: Ельцин в больнице подписывает Указ об освобождении Лебедя со всех постов и сам медленно читает то, что подписывает. В костюме и при галстуке, а не в кофте, каким привыкла видеть его страна во время болезни, когда он просто кого-нибудь невнятно "журил". Это могло значить только одно: всесильный Чубайс боится. Очень. "Ладно, увольняйте", – бросал, наверное, утомленный его приставаниями Ельцин. А Чубайс: "Нет уж, лучше это сделать вам самому, и приодеться, и прочесть вслух, а не то подумают, что народу показали старую запись, где вы подписывали совсем другую бумагу!"
– Лежачего не бьют! – скажет после этого про Ельцина уязвленный Лебедь... Как я их всех тогда понимал! Как чувствовал позже тоску и безысходность немощ-ного президента, подыскавшего себе новую опору в лице разумного, преданного, дисциплинированного Бордюжи – еще одного генерала – и попытавшегося взвалить на него свое жуткое хозяйство, чтоб разобрался и навел порядок... Но бравые молодые генералы хороши в честном бою, а не там, где "дерьмо летает".
Говорю это вовсе не в оправдание Ельцина и его режима. Но после того, как я ближе познакомился с Залыгиным и какое-то время с ним поработал, для меня Ельцин точно раздвоился: одна его часть – властолюбивый самодур, правление которого можно сравнить разве что с опустошительным смерчем, разрушивший ради честолюбивых прихотей огромную страну, отдавший ее на поругание мародерам и поставивший народы на грань вырождения; и другая, как раз и сближавшая его с Залыгиным, особенно в последние годы президентства, – старый человек, привыкший отвечать за свое истомленное чадо (страну ли, журнал) и не видящий лучшего выхода, кроме как до конца удерживать его под своей опекой...
Однажды бывший пресс-секретарь президента В. Костиков заявил: "Я считаю, что даже не совсем здоровый президент... Ослабленный физически президент... Если он обеспечит минимальное, чисто символическое присутствие в Кремле – это будет лучше, чем те баталии, которые развернутся", – и т. д. (цитирую устное высказывание). Не хочу фантазировать насчет ситуации во властных верхах и рассуждать, прав был Костиков в отношении Ельцина или не прав. Ему виднее. Что касается меня – я точно так же думал в ту пору об обстановке в журнале и о Залыгине.
Мысли о тщете истории и безнадежности демократии в России преследовали Залыгина все последние годы. Уже после расставания с "Новым миром" он напечатает в этом журнале загадочный рассказ, в котором назовет "паскудной" – то ли историю своих мытарств в редакции, то ли саму историю Государства Российского...
Не было ли все это старческим брюзжанием "литературного генерала", потерявшего былую известность, миллионные тиражи и теплые места при власти, как хотелось в тогдашнем "демократическом" окружении Залыгина думать многим? Была ли у него вообще к тому времени какая-то позитивная идея в голове, пусть хоть заведомо нереализуемый, пессимистично окрашенный, но образ того, каким современное российское общество должно быть? Или моя вера в Залыгина десятилетней давности вообще ничего не стоила?
Лучший ответ на это Залыгин дал в статье "Моя демократия", напечатанной в последнем номере "Нового мира" за 1996 год.
"Если демократизма нет в обществе, откуда ему взяться как системе государственной? Демократизм – это прежде всего образ жизни, это отношение людей друг к другу, умение личности быть демократичной. Это, соответственно, исторический опыт общества и личности, опыт, который и приводит людей к демократии государственной. Опыт общения, опыт умения отличать умение от неумения, слово – от пустословия, доверие – от недоверия...
Самая демократическая страна, которую я видел на своем веку (лет двадцать пять тому назад), – это Исландия...
Однажды я ехал в посольской машине по разбитой проселочной дороге, и мы нагнали крестьянку, очень похожую на наших крестьянок: резиновые сапоги, стежонка, платочек на голове.
Хоть наша машина и была с посольским флажком, это ничуть не смутило женщину: она подняла руку – подвезите!
Наш посол сказал:
– Обязательно остановимся и возьмем человека, иначе на всю страну будет если уж не скандал, так нечто подобное.
Остановились. Посадили пассажирку, и разговор тотчас зашел о литературе. Сколько эта крестьянка читала – уму непостижимо! А жила она рядом с писателем, нобелевским лауреатом, и отзывалась о нем более чем прохладно...
Еще всплывает в памяти, что в нескольких километрах от Рейкьявика мы не раз проезжали мимо довольно старинного дома – на самом берегу океана: не помню сейчас, двух– или трехэтажным был этот дом, белый, но не безупречной белизны, он был совершенно одинок – кругом открытая каменистая равнина, забора вокруг нет никакого, зелени нет, тихо, шум прибоя и гул ветра.
Я спросил – что за странный дом?
Оказалось, это загородная резиденция президента.
Другой раз был я на пепелище – сгоревшая почти дотла деревянная постройка. Это тоже был загородный дом сравнительно недавнего исландского президента: президент, ложась спать, забыл погасить огонь в печке, и ночью дом сгорел, президент тоже.
В Исландии так: как живут все люди, так живет и президент".
В России если и будет такое, то разве что через столетия, и Залыгин это, конечно, хорошо понимал. Хотя, казалось бы, как близко, как подходит, как манит...
Но это напишется Сергеем Павловичем чуть позже, на больничной койке. Пока же шла борьба – и там, где-то на самом верху, и в редакции. Как скоро увидит читатель, борьба буквально не на жизнь, а на смерть.
Как-то на редколлегии (кажется, в связи с хорошим очерком Бориса Екимова, описавшим нашу жизнь довольно-таки безрадостно) я заговорил о вырождении народа, о том, что страна превращается в табор дикарей и жутче всего это отражается на детях, которые в большинстве своем брошены на произвол судьбы, без образования, полуголодными, в грязи, видят только бесчестье и кровь, учатся уважать только силу и ценить только деньги. Через каких-нибудь десять лет, когда эти дети. подрастут, мы все очнемся в незнакомом мире, полном зверств и разрушений...
– Как можно говорить такое? – возмутился при общем гуле Костырко. – Растет первое отвязанное поколение, свободное от коммунистических заморочек!
Но Залыгин, взявший слово после меня, сказал, что – да, народ вырождается на глазах, и в чем-то мои выводы даже усилил.
Ему возразить не отважились...
Александр Архангельский написал в рубрику "По ходу дела" заметку "Кто там шагает правой?..". Со свойственной ему горячностью предлагал подумать о том, "как вписать себя (и страну!) в правый поворот". Сознание русской интеллигенции, по Архангельскому, с незапамятных времен несет в себе глубинный порок, проявляющийся в искажении "соприродных" (будто бы) всякой национальной интеллигенции правых, консервативных взглядов и даже в отречении от них.
"С одной стороны, несть числа "правым" политическим трактатам, запискам, рассуждениям и памфлетам, какие оставлены в наследство современной эпохе классическим периодом русской культуры... С другой стороны... разве тотальное отрицание (а не просто жесткая критика) буржуазности у славянофилов – не признак их внутренней, сокровенной левизны?"
"Как могло такое случиться? Каким образом носители правых взглядов (как Валентин Распутин или Басилий Белов) очутились в стане левых? .."
Заметка была написана живо и ставила очень важные вопросы, но требовала, на мой взгляд, большей корректности, о чем я и сказал Роднянской. Взять хотя бы сомнительный тезис об исконной "правизне" интеллигенции, опровергаемый отечественным и зарубежным опытом, да и рассуждениями самого Архангельского. Затем, я не видел никакого надлома в мировоззренческих путях Распутина и Белова. Эти раскритикованные "демократической общественностью" будто бы за отступничество писатели держались последовательнее многих "демократов", поскольку во все времена были на стороне крестьянской, мелкобуржуазной России...
– Мелкобуржуазной? Я такого слова не знаю, – надменно изрекла Роднянская.
– Что делать. Каюсь, я когда-то изучал курс марксистско-ленинской философии.
– Мы все его проходили... Вы правда не одобряете буржуазию, буржуазность?
В тоне подчеркнуто звучал зоологический интерес ко мне как к совершенно особому, никогда ей ранее не встречавшемуся виду.
– Давайте ближе к тексту, – попросил я. – Архангельского заботит, "как помочь буржуазии обрести национальное лицо". Это не первое, о чем сегодня хочется думать. Гораздо бы важнее озаботиться спасением гибнущих на глазах десятков миллионов людей, как раз и составляющих нацию.
– Да, но это позиция газеты "Сегодня"!
– Мне эта позиция не близка.
– Я знаю. Но Архангельский сейчас за границей, связь с ним затруднена. Мы не можем править статью без автора.
Сошлись на том, что я напишу от своего имени послесловие к статье Архангельского.
Вот оно:
" ...Как же все-таки "удержаться от очередного срыва в русскую ересь всеобщего равенства” – в пору наглого, воинственного, сводящего с ума неравенства?
Как ”обойти сегодняшний мир с правого фланга”, а при том соблюсти ”всемирное равенство (?! – С. Я.) демократии”?
Автор не знает ответов. Не помогает их отыскать, как явствует из статьи Архангельского, и история русской мысли от Карамзина до наших дней – она лишь запутывает дело.
Может быть, причина в том, что сами вопросы сформулированы некорректно и, главное, не вовремя, по какой-то инерции?
Стоило ли начинать с обобщения, что интеллигенцию по природе тянет вправо, если его опровергают уже родоначальники правого крыла современной русской интеллигенции – и Карамзин, и Ю. Самарин, и даже К. Леонтьев, а в конце концов и оставшиеся в одиночестве "Пушкин вкупе с Достоевским”, эти "классические русские консерваторы”? Стоило ли распределять по флангам ныне здравствующих писателей, если давно потерян счет фронтам и все боевые порядки смешались? Стоило ли (стоит ли!) так настырно вписываться в этот никак не дающийся нам "правый поворот”, если за ним вполне реальна смертельно опасная осыпь слева?”
”...здесь, почти повсеместно, мы обнаруживаем тщательно скрываемый логический порок. Сквозь гул охранительных формул явственно слышна щемящая мелодия тоски по иному общественному идеалу”.
Истинно так!
Добавлю еще: мне – впервые, может быть, у Архангельского – отчетливо слышен в этой его статье призыв к культурному миру (на уровне качественно отличном от простого «замирения», от политических компромиссов), пусть иронично окрашенный. Кажется, автора самого более не устраивает воинственная игра со словами. А если что и вырывается невпопад, наперекор соединяющей мысли, – так наработанную инерцию невозможно же погасить сразу!
”Пойдешь направо – придешь налево...”
В самом деле, хочется остановить кружение и подумать. Особенно после напоминания о том, какой властью обладает в России слово".
Получив мою заметку, Роднянская какое-то время думала и взвешивала, а затем пришла уговаривать меня ее не печатать. Теперь она была согласна на все: закавычить "правых" и "левых", изъять родовую правизну интеллигенции и вычеркнуть прочие задиристые формулировки (и для этого ей почему-то совсем не требовалось присутствие и согласие автора!). Что тут возразишь? Она хозяйка отдела, ей и решать. Хоть и жаль было, конечно, утраченной свежести статьи Архангельского и собственного труда...
В конце года Саша Архангельский за эту и другие статьи получил премию “Нового мира" – вполне заслуженно.
Лауреатом журнальной премии стал в конце концов и Михаил Кураев, с заметками которого "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург" связана еще более скандальная история. Я первым в журнале познакомился с рукописью, принесенной автором поздней весной, и тогда же в разговоре с ним посетовал:
– Эх, если бы пораньше! Если бы успеть напечатать такое до выборов!..
– Ничего, сгодится и потом, – резонно возразил тот.
"И почему это правители так любят Петра Первого, почему так тянутся к нему и всячески стараются подчеркнуть малейшее, даже отсутствующее, с ним сходство?
Может быть, это актерская зависть? Роль кажется уж очень выигрышной – царь-реформатор по наитию, царь-преобразователь по произволу, он как бы и всем последователям выдает скрепленный своим авторитетом исторический вексель на достижение цели – ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ! Вот чем эта роль приманчива. И тем, кто строил социализм любой ценой, и тем, кто возрождает капитализм, и снова любой ценой, Петр Первый нужен как пример и как оправдание".
"Конечно, Чубайс и Ельцин – величайшие приватизаторы в истории России, но знали ли они, что шли по пути Великого Петра?..
О мошеннических приемах "приватизации" писал Петру Первому с Урала удивительнейший человек, гордость отечества, Василий Никитич Татищев: он видел перед собой кристальный пример – обласканного царем и уверовавшего в свою неуязвимость Демидова...
Почему взяточничество, подкуп, коррупция стали неизбежны?..
Промышленник, по сути, завладел государственным предприятием, а чиновник, по сути, завладел государственной властью и лишь делал вид, что власть государева. И понимали они друг друга так же хорошо, как и в наши чудесные времена. На радость царям-реформаторам, секретарям-реформаторам, исполняется многоактный балет "РЕФОРМА", представление, замечательное тем, что самые главные события в нем происходят за кулисами".
"Сегодня, когда завтрашнего дня для России нет, когда завтрашним днем объявлен день позавчерашний, надобности в Петербурге больше нет. Есть ли он вообще, нет ли его вообще – вопрос исторической географии.
Сегодня этот город смотрит на меня глазами голодных старух, уже есть знакомые.
...Мальчишке лет двенадцать. Родился при Горбачеве. В школу пошел при Ельцине. По лицу видно, что голодает...
Сегодня интеллигенция живет, нравственно пригнувшись, почти так же смущаясь своего немодного обличья, как в иные времена "шляпы" и "очков". Сегодняшние победители смеются над врачом, учителем, инженером, ученым, преподавателем вуза, над библиотекарем, над всеми, кому не близка психология лавочника, кто живет на зарплату, кто ждет, когда заработанные деньги ему выдадут".
Мне бы не хотелось продолжать вытаскивать цитаты из сочинения объемом в целую книгу (и действительно вышедшего вскоре книгой), с блистательным сарказмом повествующего в образах, метафорах и иносказаниях о тысячелетней истории России от князя Владимира до недавних ельцинских деньков – "смешной по форме и трагической по содержанию". Эта книга остается и еще долго будет, видимо, актуальной, она требует неспешного чтения.
Киреев сразу отказался от рукописи – "это не проза". Кублановского она тоже почему-то не обрадовала. Видимо, сказывалось успевшее нарасти напряжение (редакция уже полнилась слухами о "ретроградном" труде Кураева), и Кублановский предпочел "умыть руки", перепоручив дело помогавшей ему в те дни Лене Смирновой (Ларин на много месяцев слег в больницу с пневмонией).
Роза Всеволодовна взволнованно суетилась, пытаясь постичь и взять под контроль все перипетии новой игры. Она благоволила к Кураеву, как, впрочем, ко всякому именитому и желанному автору, искренне желала ему успеха и столь же искренне переживала неудачи. Что делать – даже гении ошибаются! В "Новом мире" на случай беды всегда были, к счастью, верные стражи, надежные хранители вкуса: Андрюша Василевский, Сережа Костырко, Ира Роднянская... А тут еще предвыборный политический мандраж.
Сама, конечно, поинтересовалась рукописью в числе первых, с неуверенным смешком зачитывала мне вслух из приемной:
"...Есть у меня большие суспиции относительно того, что многие конвуиты Петра Великого нерезонабельны, да вот только мы и по нынешний час находимся от них в депенденции".
Так все сходилось, что бедный Кураев где-то в чем-то немножко свихнулся, пошел не туда...
Куда именно, на этот вопрос на удивление резко ответил обычно уклончивый Чухонцев:
– Кураев идет вперед с повернутой назад головой!
Он повторял это, когда "Путешествие..." Кураева уже было напечатано и я предложил включить его в список претендентов на журнальные премии.
– У Миши Кураева блестящая, но совершенно ретроградная статья, противоположная направлению "Нового мира". Что будет значить премия: что мы разделяем его позицию? Или награждаем как человека, у которого голова повернута на 180 градусов?
И еще раз на редколлегии, когда обсуждался вышедший номер:
– Он идет с повернутой на 180 градусов головой! В подходе к нашей истории истинному консерватору пора обрести скорбный, но уверенный и достойный тон римлян или англичан. Я с Мишей честно об этом поговорю при встрече.
Поговорил ли – не знаю. А тогда заодно с ним, и куда более злобно, набрасывался на кураевскую вещь Костырко: "интеллигентское нытье", "обиженный", "потерявший свое положение барин". Были даже слова насчет чьей-то "мельницы", на которую Кураев "льет воду"...
Но это уже по выходе журнала. При подготовке же публикации открещивались, шептались по углам, а дать открытый бой – не решились. Конечно, действовало имя, когда-то (и десяти лет не прошло!) "Новым миром" же сделанное.
По сути, Кураев со своим объемным и ярким историософским видением явился тем самым давно жданным "автором на ситуацию демократической трагедии". Но человека, который такого автора призывал, который лучше меня мог бы его защитить, в эти дни в редакции, на беду, не было.
«ИЗБЫТОК ДОСТОВЕРНОСТИ»
Эти слова на одной из редколлегий Залыгин произнес, насколько я помню, по поводу семейной хроники Улицкой «Медея и ее дети». Очень много действующих лиц.
Все мельтешат, говорят о мелочах и делают что-то пустяковое и не всегда приличное. "И она сама (Улицкая) под конец запуталась, не знала, как кончить, когда их много. Очередь устанавливать? Затруднительно".
Зачем, спрашивается (это уже я от себя), подробно описывать сослуживцев, у кого какой нос да голос, да кто кому что сказал и над кем посмеялся, или показывать, к примеру, как человек за обедом подавился и откашливается, как ковыряет в зубах? Как врет, притворяется, трусит? Что это добавляет к характеру? Нужно ли для развития сюжета?. .
"Избыток достоверности".
К сожалению, он случается не только в романах, но и в жизни. Внезапно обрушивается, как стихия, накрывает мутной волной. И мое повествование подходит к той точке, когда избыток достоверности оказывается неизбежным.
Не буду и пытаться устанавливать очередь. Боюсь, тут главного от второстепенного не отличить, а если начнешь выстраивать последовательность, то как раз и запутаешься. Слишком уж темная история. Набросаю без особого порядка все, что помнится.
Нельзя сказать, что несчастье свалилось как снег на голову. Чего-то похожего ждали в редакции давно – кто с тайными надеждами, кто со страхом. Раньше или позже это должно было случиться, таков был естественный ход жизни, противиться которому не в силах человек, и многое уже свидетельствовало, что развязка близка.
Залыгин был стар, по нынешним нашим срокам – даже очень. Для своего возраста он обладал необыкновенной работоспособностью и ясностью ума, но даже у крепких натур запас природных сил небезграничен. Тряслись руки. Подводила память. Иногда, особенно к концу рабочего дня, он становился раздражителен и неуступчив, как ребенок, его уже трудно было убедить в самых простых, казалось бы, вещах. К нему и относились порой как к малому ребенку – не противоречили, потакали капризам, развлекали, справлялись о здоровье да охали – прежде всего, конечно, Роза Всеволодовна, ближайший друг и помощник.
Выходя вместе с ней к обеду в буфет, слушая за столиком ее легкую болтовню или сам рассказывая какую-нибудь байку из своей богатой жизни, Залыгин позволял себе расслабиться, на глазах у доброй половины редакции поглаживал себя по животу и говорил что-то вроде:
– Теперь бы соснуть, хе-хе. ..
Так шутил. Роза Всеволодовна деликатно его одергивала, взбадривала ироничным укором, заставляла собраться. Но если рядом оказывались кто-то из любимых старых авторов, или Роднянская, или, не дай Бог, балагур Костырко – тотчас начинались разговоры про погоду, неблагоприятные дни, лекарства, целителей, предлагались рецепты и номера телефонов...
Об инфаркте я узнал утром 28 мая, придя на работу. Роза Всеволодовна в приемной с размаху швыряла об стол папки и с отчаянием повторяла:
– Да что же это?.. Да что же теперь будет?..
Все утро она пыталась связаться с реанимационным отделением Кунцевской больницы, куда ночью отвезли Залыгина. И через какое-то время в приемной раздался ее нервный хохот: из больницы передали, что Залыгин жив, находится в сознании и просит... задержать его статью в газете "Известия". Ему нужно внести туда кое-какие поправки.
Смех смехом, а ощущение катастрофы не проходило. В те дни мне на ум впервые пришло сравнение Залыгина с моим отцом, примерно его ровесником, тогда еще живым. На многое в жизни они реагировали одинаково. И, помимо беспокойства за судьбу журнала, терзала жалость к старику, ставшему за годы совместной работы близким и понятным, почти родным.
Завхоз Коробейников Павел Алексеевич, которого в свое время взял себе в помощники заместитель Залыгина по хозяйственной части Спасский, однажды заявил мне:
– Надо думать о смене руководства: Залыгин не жилец.
– Почему? – искренне удивился я. К тому времени Залыгин хотя и находился еще в больнице (его перевели в "Кремлевку", Центральную клиническую), но живо интересовался делами в журнале, со многими говорил по телефону, кажется, писал, как обычно, какую-то очередную вещь для "Нового мира" и даже собирался голосовать на президентских выборах (ох уж эти выборы!).
– Моя жена работает по медицинской части. Говорит, неделя-другая – и кранты.
Это сообщалось без печали, радости или, там, злорадства, вообще без эмоций. Тихим доверительным голосом. Жена Коробейникова, кажется, работала где-то то ли медсестрой, то ли в регистратуре.
Сам он считался спецом по "юридической части" и до "Нового мира" успел поработать в милиции.
– Я знаю, почему Пашу оттуда попросили, – говорил иногда загадочно его начальник, милейший Василий Васильевич. – Я все про него знаю...
Между начальником и подчиненным шло острое соперничество. Коробейников откровенно метил на место пожилого Спасского и на этой почве сдружился с бухгалтером Хреновой и особенно с кассиром Зюзиной, также не терпевшими последнего.
Роза Всеволодовна многим описывала виденную ею однажды сценку: седой солидный Василий Васильевич (всегда в строгом черном костюме и при галстуке) забирается по шаткой стремянке к потолку, чтобы сменить перегоревшую лампочку, а Коробейников вроде бы ему помогает, эту стремянку как бы придерживает...
– Василий Васильевич, ну что ж вы сами-то везде, у вас же помощник есть! – так со смехом завершала Роза Всеволодовна свой рассказ.
Я живо представлял себе эту сценку. Паша Коробейников не то держит стремянку, не то, отвернувшись будто в рассеянности, бочком подталкивает, раскачивает нарочно, вот-вот уронит... Без него Василию Васильевичу работалось бы куда спокойнее.
Прежде Спасский служил у Залыгина под началом в некоем экологическом учреждении. В "Новом мире" старался за всем уследить, во всем хозяйстве держать строгий порядок, что крайне раздражало бухгалтерию.
– Не знаю, что с ними делать, никак не могут работать вместе, – жаловался мне Залыгин как раз накануне своей болезни. – Или Спасского увольнять, или Хренову!
Меня такая постановка вопроса смущала. Я напоминал ему о бескорыстном усердии Спасского и некоторой, мягко говоря, запутанности с денежными делами в журнале. Залыгин в делопроизводстве разбирался слабо, да и вникать особо не желал. Кто-то должен был, в конце-то концов, управлять и командовать?
– Ну, знаете, Лиза оч-чень толковая, оч-чень. Крутит? И пускай крутит. А кто на этом месте, скажите, не будет крутить? У вас есть другой бухгалтер?
– У меня нет.
– Вот и у меня нет.
Тема эта, я знал по опыту, была щекотливая и даже взрывоопасная. Когда еще он только уполномочил меня подписывать банковские документы, я составил перечень вопросов по новомирской бухгалтерии, на которые попросил Хренову дать исчерпывающие ответы. Однако вместо ожидаемой деловой беседы услышал от нее нечто невнятное:
– Вообще-то, Сергей Павлович не хочет, чтобы вы слишком уж... Чтобы вы про все знали...