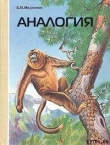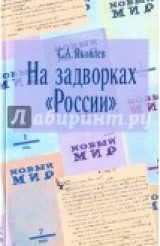
Текст книги "На задворках "России""
Автор книги: Сергей Яковлев
Жанры:
Прочая документальная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 14 страниц)
Набычившись, вычеркнул слова "известный писатель". На другой день самолюбивому Кирееву – видно по глазам – обо всем донесли...
Когда что-то не нравилось Василевскому из предложенного публицистами, а я это поддерживал, – взял моду обращаться к Кирееву как третейскому судье. Так было, например, с заметкой А. Комеча "Реконструкция Москвы продолжается". Чем эта заметка Василевского не устроила? Да хотя бы вот чем:
"Потерян вкус к подлинности – копии считаются подлинниками. Пример возводящегося по соседству храма Христа Спасителя внушает мысль, что все восстановимо. А раз восстановимо – то можно сносить и делать потом ”лучше прежнего”. Исторические свидетельства теряют аутентичность...
Материальные и художественные элементы прошлого фальсифицируются с легкостью мировоззренческих метаморфоз. Все проблемы разрешимы и заранее оправданы "подходящей” необходимостью...
По отношению к историческому наследию в Москве господствует все тот же коммунистический принцип – не содействие жизни, а ее волевая организация".
Выводы искусствоведа Комеча сами собой проецировались на все другие стороны жизни.
Киреев был осторожен и действовал опосредованно: он уговорил Кублановского показать рукопись Залыгину (тот в те дни болел, отлеживался дома) и посвятил в дело Розу Всеволодовну, которая, конечно, немедленно переговорила с главным по телефону. Во всяком случае, когда Залыгин позвонил мне, он был, еще не видя заметки, решительно настроен против нее и выставлял как раз те аргументы, что я уже слышал от других.
А вечером того же дня звонит мне домой Кублановский, сообщает торжествующе: Сергею Павловичу заметка Комеча понравилась, сам пишет к ней послесловие!
Наутро застаю Розу Всеволодовну с телефонной трубкой: Залыгин как раз диктует ей то самое послесловие. За обедом она нарочно громко, при всех, говорит Кирееву:
– Руслан, там Сергей Павлович написал свои соображения о заметке Комеча, прочитайте!
Кирееву неприятно (его тактика себя не оправдала). Мне неприятно (нарушена процедура – с какой стати Киреев будет контролировать то, что идет по отделу публицистики?). Василевский, тот вообще замкнулся и молчит. На этот раз не вышло. Придется набраться терпения. А Банновой – нечаянное развлечение, и на щеках у нее так хорошо мне знакомые признаки волнения от удачно разыгранной партии...
Я часто забывал, что говорит она одно, в уме держит другое, а на запас приберегает вообще третье. Вот на это-то третье у меня, как правило, уже не хватало фантазии, как у всякого посредственного шахматиста, этим-то она и сражала!
С Киреевым у нее с самого начала не заладилось. После огорчительной отставки Долотовой она продолжала дружить с ней по телефону, зазывала в редакцию на чай. Общалась и с авторами, за Долотову обидевшимися, в том числе с Петрушевской. Частенько намекала, что неплохо бы, мол, Наталью Михайловну вместе с ее авторами в журнал вернуть, о чем-то таком сказала Кирееву, тот ответил грубо... Вернулась от него внешне спокойная, но обиду затаила глубоко. Она, как и Василевский, умела ждать своего часа. Но, с другой стороны, Киреев был почти официальным преемником, а это означало, что ей нужно налаживать с ним стратегический союз (если она, конечно, собиралась остаться работать). Положение не из легких!
Зато одним из самых душевно близких Руслану Тимофеевичу стал в редакции Костырко. Сближали их, среди прочего, родственные вкусы, на мой взгляд, – отсутствие таковых.
Пускай это смешно, но я все-таки не могу удержаться от знаковой для меня иллюстрации. Однажды Костырко искренне восторгался фразой: "...синицы, цепляясь за вертикальность стволов, попискивают то там, то здесь..." При всем уважении к маститому очеркисту, которому эта фраза принадлежала (к счастью, она не характерна для его стиля), по мне, «цепляться за вертикальность» – верх бесчувствия или пренебрежения к языку. Такие «красоты» в огромном количестве встречаются в рукописях, присылаемых начинающими авторами из провинции.
(Допускаю, что кто-то может по этому поводу вести речь не о культуре и бескультурье письма, а о двух разных культурах, «уходящей» и «новой», «реалистичной» и «виртуальной» или как-то еще. Допускаю даже, что в моей иллюстрации будут искать ключ к уже описанным мной человеческим коллизиям и тем, которые еще предстоит описать. Что сказать? Наверное, в чем-то я старомоден. Но и подобные «новинки» стары как мир; целые стада графоманов из века в век пасутся на этих давно выщипанных и вытоптанных лугах. Цирковые фокусы в литературе остаются фокусами, они нисколько не приближают нас к тайне совершающегося за пределами слов и мыслей. Равно как ни одна эпоха не испытывала недостатка в проходимцах и негодяях. Так что «век негодяев», надеюсь, все-таки никогда не наступит.)
Несмотря на идейные разногласия с Роднянской, я почти всегда совпадал с ней в художественно-критической оценке прозы, публикуемой "Новым миром", а вот с Костырко – почти никогда. Многое из того, что особенно ему нравилось, вызывало у меня, если угодно, почти биологическое отторжение.
Несколько иное, но столь же разительное несовпадение возникло у меня с Киреевым. Он гордился, например, напечатанными при нем романами Ирины Полянской "Прохождение тени" и Антона Уткина "Хоровод", настойчиво их пропагандировал и выставлял на премии. Я же, признаюсь, даже по долгу службы не нашел в себе сил дочитать эти романы до конца. Наверное, они (как любил выражаться Василевский) "имели место быть" в журнале, но уж никак не в качестве главных, определяющих лицо новомирской (а значит, современной русской) прозы. Для оценки подобных вещей подошло бы остроумное высказывание Олега Чухонцева на одной из редколлегий (впрочем, по другом поводу):
– Это написано словами. А слов бывает всегда много.
Своеобразие киреевского вкуса-безвкусия заключалось, по-моему, как раз в пристрастии к "написанному словами", ловко скроенному, внешне гладкому, но пустому по сути. И еще один, с позволения сказать, критерий непрестанно слетал у него с языка: "Хорошая проза добра" (что всегда напоминало мне Феодосия Видрашку с его «писатель должен быть добрым!»). Кирееву не глянулась серьезная, хотя и тяжеловатая, верно, повесть Николая Кононова. Олег Чухонцев как-то жаловался мне, что не смог привлечь внимание Киреева к великолепному эссе Саши Соколова. Я уже упоминал о романе Азольского, примерно такая же неуверенность проявлялась Киреевым в отношении нашумевшего впоследствии романа Анатолия Наймана «Б. Б. и др.». Галина Щербакова – из лучших, одновременно тонких, глубоких и завораживающих новомирских авторов той поры, много печатавшаяся еще при Марченко, – демонстративно отодвигалась им на какое-то третьестепенное место: мол, знаю ей цену, но что делать, у нее тоже есть читатель. А в то же время предлагал иногда к печати такое, что я не решился бы поместить даже в заводской многотиражной газете, об этом приходилось говорить Кирееву прямо в лицо. Чтобы воспрепятствовать публикации вещей, не отвечающих элементарным литературным требованиям, я вынужден был привлекать иногда к чтению прозы других членов редколлегии – и получал, как ни забавно, поддержку от Роднянской. Она же неожиданно подтверждала мои ощущения, говоря на редколлегиях по поводу тех или иных публикаций в прозе:
– Меня от этого – тошнит.
Хотя тут же добавляла, что "печатать это, наверное, было надо". Такие уж политесные отношения сложились у нее с Киреевым – в немалой степени, думаю, в виду меня как "большего зла".
Залыгину тоже многое в прозе не нравилось. Да и ворчание Чухонцева, Роднянской и других до него доносилось. Даже у Розы Всеволодовны чуть не в поговорку вошло: "Мы же знаем, что у Руслана со вкусом не все в порядке!.." По большому счету ожидания мои и Сергея Павловича от новомирской прозы совпадали, мы с ним часто сходились во взглядах, так что могу представить, как он переживал. Иногда по нескольку дней подряд обменивался со мной мнениями насчет какого-нибудь предложенного отделом сочинения – втайне от Киреева, не решаясь, видимо, его тревожить. Но вмешивался крайне редко, только в исключительных случаях: выбор был сделан, да еще со столь дальним прицелом, приходилось исходить из новой реальности.
Как-то после очередного явного "прокола" с прозой я сказал Залыгину:
– Жалею, что не принял в свое время вашего предложения возглавить отдел. Теперь я вижу, что у меня это получилось бы лучше.
Он ответил с подкупающей прямотой:
– Да. Но теперь уже поздно?..
«САМАЯ БЕЗЗАЩИТНАЯ МАФИЯ»
С обновлением отдела прозы усилилась одна прискорбная тенденция, всегда «Новому миру» на моей памяти в той или иной мере свойственная. Та самая, которой не желал и от которой неоднократно предостерегал Залыгин.
– У нас развилось высокомерие. Мы – "Новый мир", особенные!.. А вот эстонцев всего-то меньше миллиона, а хор у них – 30 тысяч. Вот какой должна быть культура. Побаиваюсь я этой нашей салонности, – говорил он на одной из редколлегий.
И позже, перед самым уходом из журнала:
– Мои опасения оправдываются. “Новый мир" может стать журналом для какой-нибудь тысячи человек. Этого нельзя допустить.
Существование в узком круге "избранных", оборона этого круга от вторжений извне, высокомерное отношение ко всем прочим – таким духом сверху донизу был пропитан старый, еще дозалыгинский "Новый мир", как и вся, надо сказать, прежняя литературная, да и вообще культурная среда. Трогательное, ласкательное, всегда готовое на поощрения и восторги отношение к "своим" (а также к их женам и мужьям, детям, внукам, своякам) и холодно-безразличное, раздраженное – к прибывшим "с улицы". Кто захаживал в столичные журналы в 70 – начале 80-х, тот меня поймет; остальные также поймут, потому что наблюдали все это в издательствах, за кулисами театров, в выставочных залах, на эстраде, в научных и учебных заведениях, в любых сколько-нибудь престижных, а также и непрестижных конторах, да просто на экране телевизора. Дети знаменитых артистов становились почти столь же знаменитыми артистами; дети посредственных писателей – чуть более посредственными писателями; иных "человеческих ресурсов" в природе будто не существовало. Это был тлетворный дух "заката империи" или, если угодно, "позднего застоя".
Не успев выветриться, он с еще большей силой повеял в новые времена. Кланово-приятельская "элитарность" нашла себе твердую идеологическую, а подчас и материальную опору. Паутинки стыдливо прячущихся связей обрели жирные контуры публичных "тусовок". Зое Богуславской, публиковавшей в "Новом мире" сочинения, с которыми другого автора не пустили бы и на порог, теперь ни от кого не нужно было скрывать, что она жена Андрея Вознесенского, поскольку оба они красовались в жюри самой престижной премии "Триумф", щедро финансируемой Борисом Березовским. Юлия Латынина отважно вправляла мозги ученым мужам и всей озабоченной реформами публике со страниц "Нового мира" и других респектабельных изданий – паблисити, несоразмерное дарованию юной экономистки-новеллистки, обеспечивалось влиятельной мамой-критиком. И т. д., и т. п. Подобным примерам нет числа.
Уже не было в редакции Долотовой, многих других старых новомирцев, так уютно чувствовавших себя среди одних только друзей и знакомых, а традиция жила.
– Леночка Смирнова? Ах, это дочка Олега Павловича!..
Вот на таком градусе родственной теплоты строились все отношения.
Даже Залыгин, хоть и выглядел своевольным мужичком, этой теплоты не чуждался. У него за плечами были все-таки годы номенклатурной выучки, он хорошо понимал, что "свои" иногда помогают и им надо платить тем же. Новомирские многоопытные дамы с первого дня взяли шефа под опеку и поправляли, где надо.
В этой сердечной компании я слыл не просто "одиноким стрелком". Я не скрывал своего намерения разбить круговую оборону "самой беззащитной мафии" и влить в уставший, склонный к вырождению журнал свежей крови. Позволю себе привести цитату из опубликованной "Новым миром" еще в 1988 году моей статьи "Право отречения":
"Самое убийственное из всех неравенств – культурное. "Я никогда не мог понять мысли, – писал Достоевский, – что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских (или сколько их тогда народится) будут все когда-нибудь образованны, очеловечены и счастливы". И как раз с этим неравенством мы, демократы по происхождению, почему-то особенно легко миримся".
Тогда речь шла о глубинных антидемократических тенденциях в культуре советской поры. Дальнейшее развитие событий показало, что это были еще цветочки.
Однако теперь мои попытки изменить отношение к авторам, прекратить взаимное литературное обслуживание и обхаживание в своем кругу (все то, что Немзер с откровенным цинизмом выразил в словах "Чем меньше нас, тем мы внимательнее друг к другу") встречали, как и следовало ожидать, яростное сопротивление. И даже демократический настрой Залыгина не всегда помогал делу.
Много лет назад, будучи нештатным рецензентом в "Знамени", я познакомился с рукописью талантливого молодого прозаика Алексея Михеева. Отыскал его по адресу, настоял на встрече (он жил в ту пору в Новосибирске), в дальнейшем пытался помочь напечататься и опубликовал наконец одну из лучших его повестей в "Страннике". Книги у Михеева выходили, а вот с журналами ему (отчасти по причине независимого и упрямого характера) как-то не везло.
Еще до прихода нового заведующего отделом я выпросил у Михеева для "Нового мира" несколько рассказов и передал Долотовой. Наталья Михайловна, как обычно, долго пересказывала мне их содержание и рассыпалась в похвалах, однако подготовить к печати не удосужилась. Кирееву я в первые же дни сообщил о залежавшейся рукописи и попросил ее прочесть. Особенно не торопил, понимая, что на новом месте у человека много разных дел. Напомнил примерно через полгода.
– Михеев? – оживился Руслан Тимофеевич. – Это тот, который в "Иностранке" работает?
Узнав, что не тот, поскучнел и тотчас сменил тему разговора.
Спустя неделю-другую протягивает мне конверт:
– У меня остался после Натальи Михайловны неразобранный архив, здесь ее рукой написано: "От Яковлева". Заберете?
В конверте – рассказы Михеева, в которые он, видимо, так и не заглянул.
Тем временем Михеев принес очерк, его напечатал отдел публицистики. Очерк сильно понравился Залыгину, да и другие нахваливали: побольше бы нам таких материалов... Я прямо на заседании редколлегии прокомментировал:
– Речь идет не просто об очерке, не о случайной удаче, а о хорошем писателе, почти никем в нынешней литературной свалке не замеченном. Хочу еще раз обратить на него внимание отдела прозы: хотя там не слишком учтиво обошлись с рукописью Михеева, он готов к дальнейшему сотрудничеству...
– Это какой Михеев? – вновь интересуется Киреев. – Который в "Иностранке"?..
– Да нет же, нет, – шепчут ему его помощницы.
– А-а...
Михеев приходит с новой вещью, я представляю его Кирееву и Новиковой. Те почему-то оказывают ему более чем холодный прием, как говорится, в упор не видят.
Проходит еще время. Справляюсь у Киреева о результате.
– Это тот Михеев, который... Ах, да. Я знаю, о ком вы говорите.
Больше Алексей Михеев, замечательный прозаик и очеркист, в "Новом мире" не печатался.
Между прочим, я показывал Кирееву журнал "Странник" с повестью Михеева, где от себя предпосылал ей такие слова: "...едва ли кто из наших читателей знает хорошего прозаика Алексея Михеева, в то время как у каждого в памяти засел десяток– другой имен прозаиков плохих и очень плохих, но почему-то известных". Тоже, наверное, задело...
Апеллировать к Залыгину в подобных ситуациях не имело смысла. Бывали случаи, когда он оказывался заинтересован в той или иной публикации не менее меня и даже сам ее инициировал, но под напором уверенного, демонстративного невнимания к ней отдела сникал и в конце концов отступался. Так из раза в раз повторялось с заявками блестящей переводчицы со шведского и с французского языков Юлианы Яхни– ной. Причина была в том, что она просто не входила в привычный круг "Нового мира" и, в частности, сотрудников отдела прозы. И еще в том, возможно, что подавала свои рукописи и предложения через меня как единственного знакомого ей в редакции (помимо Залыгина) человека...
Наступит время, когда я вынужден буду говорить авторам, желающим показать свои вещи в "Новом мире":
– Поверьте, без моего участия вам будет легче напечататься. Постарайтесь не показывать даже вида, что вы со мной знакомы!..
А вот другая история.
Когда я только пришел в журнал, критик Павел Басинский через номер публиковал свои оперативные и острые заметки в рубрике "По ходу дела" (попеременно с Аллой Марченко, для контраста). Как и о чем пишет бессменный сотрудник "Литературки", известно многим; если бы писал плохо, то А. И. Солженицын не включил бы его, полагаю, в число немногих членов жюри своей литературной премии. Могу добавить, что я был первым редактором Басинского в "Новом мире", именно по моему разделу он дебютировал в журнале в 80-х.
Немзер Басинского, мягко говоря, недолюбливал. И в газете "Сегодня", в общем-то "Новому миру" и лично Василевскому с Костырко дружественной, систематически появлялись неприязненные отклики штатного обозревателя на новомирские выступления Басинского:
"...призывы Басинского к журналам (вероятно, к "Новому миру" в первую очередь) печатать плохую или даже "очень плохую" традиционную прозу, ожидаючи, пока не придет "юноша с хорошей русской прозой и в редакции будет праздник", дышат благородной свежестью, но, кажется, трудно воплотимы, покуда не заведет критик собственного журнала"."...Павел Басинский объясняет, что писать писателям (а также и критикам) надобно "Не для эстетов, не для быдла..." , и, по своему обыкновению, сулит нам некоторое количество ужасов".
""По ходу дела" пишет Павел Басинский сочинение "Памяти Ваньки Жукова" ... Комментировать эту и все предстоящие "шуточки" (журнал, гордящийся своей культурой, печатает их через номер) я не намерен... Любите острые ощущения – читайте сами. А я на бескультурье надорвался".
Все подобные отзывы Василевский немедленно размножал на ксероксе и копии вручал сотрудникам, в том числе мне (что стало для меня хорошим подспорьем при написании этой книги) и, конечно, Залыгину. Сергей Павлович жаловался:
– Ведь никогда не принесет, где нас хвалят, всегда покажет какую-нибудь пакость! Ну что за человек!..
Со следующего года Басинского от рубрики отставили, не спросив совета ни у Залыгина, ни у меня. Но Немзер, как мы уже знаем, бывал недоволен не только им. Какой бы невразумительной и самоупоенной ни была эта скорострельная газетная пальба, у Залыгина она вызывала беспокойство, и он на редколлегиях не раз призывал объяснить всем "обосревателям" (как он выражался), что их исконное дело все-таки не глумиться, не изничтожать авторов журнала, а пытаться понять и объяснить читателям произведения.
Роднянская вняла пожеланиям главного и заказала статью о газетных критиках Наталье Ивановой.
В статье "Между. О месте критики в прессе и литературе", вышедшей в первой книжке "Нового мира" за 1996 год, Иванова, между прочим, писала:
"Мало кто из обозревателей "текущей" словесности может сравниться по количеству написанных текстов с неутомимым комментатором литературных новинок Андреем Немзером. Практически ни одну из сколько-нибудь заметных публикаций не минует его вольный пересказ, переходящий порой в заметку по поводу, снабженную множеством отсылок к "себе предыдущему"... Заказ внешний (имеется в виду прежняя практика комплиментарной или разносной критики советской поры. – С. Я.) сменился внутренним – самозаказом по обслуживанию своей референтной группы. Например, ничего, кроме хорошего или очень хорошего, мы никогда не прочтем в газете "Сегодня" о прозе Андрея Дмитриева... Или – Алексея Слаповского. Непременного искреннего комплимента всегда будет удостоен Петр Алешковский... Творческая солидарность прежде всего. К "чужакам" же применимо любое оружие – вплоть до тяжелой артиллерии..."
В "Сегодня" тотчас появился развязно-агрессивный ответ. Немзер не нашел ничего более умного, как указать (по принципу "сам дурак!") на аналогичные пристрастия оппонента:
"Не упомню я что-то пейоративных суждений Ивановой о Татьяне Бек, Михаиле Кураеве или Фазиле Искандере. Как не упомню, чтобы Ирина Роднянская критиковала Ренату Галь– цеву или Олега Чухонцева. Это тоже "референтные группы"? Чушь. Интеллектуально-эстетическое сочувствие естественно переходит в товарищество ..."
В статье Ивановой по понятным причинам не были названы имена Киреева (которого Немзер считал "давно признанным мастером"), а также столь любезных обозревателю "Сегодня" Василевского и Костырко. А вот Немзер в своем ответе на последнего сошлется – как на большой авторитет. Лишний раз подтверждая "интеллектуально-эстетическое сочувствие", перешедшее в "товарищество".
И Костырко в долгу не останется. Ропот, шушуканье, суетливое шуршание и туманные намеки, доносившиеся в течение последующих нескольких недель с четвертого этажа, завершатся появлением на моем столе рукописи – статьи Костырко о Немзере!
Начав с вопроса: "Какие из представленных в современной критике эстетические принципы и модели профессионального поведения критиков наиболее соответствуют нынешней литературной ситуации?" (это ж какую голову надо иметь, чтобы только вопрос сформулировать!), Костырко переходит к главному: "Я не собираюсь писать портрет критика Немзера – мы говорим здесь о критике, а не о критиках. Мне бы хотелось обратиться к нему как к некой знаковой фигуре". И в заключение – о "недостатке" Немзера: "Недостаток этот в том, что Немзер, увы, один".
Как сказано: "Чем меньше нас..."
Сей душевный труд предназначался для "Нового мира" – в пику ранее напечатанной статье Натальи Ивановой и столь раздражавшим Немзера суждениям Басинского.
Я никогда не считал возможным отвергать рукописи собственных сотрудников (если это, конечно, были не программные манифесты без подписи, о чем шла речь выше), тем менее желал этого в данном случае, когда мой отказ вполне мог быть воспринят как личное неравнодушие к Немзеру после известных событий. Но статья Костырко была откровенно плоха. Он не слишком постарался для своего друга.
Как можно деликатнее переговорив с Костырко, я написал ему свои соображения и рекомендации:
"Мне понравилась первая половина статьи: постановка вопроса, выдержанный тон. И хотя не со всем я могу согласиться, это дела не меняет. Но примерно в середине начинаются противоречия и неувязки, а дальше повествование вовсе уходит во что-то личное, мелкое, «домашнее». Апология Немзера, разборки с Басинским. В тоне появляются суетливость, наивное желание кого-то чем-то разубедить и т. д.
Вторая часть статьи, мне кажется, пока не выстроена – ни по смыслу, ни композиционно. Может быть, поработать еще?
И относительно предмета.
Так много "критики о критике", "критики по материалам критики": Костырко пишет после Н. Ивановой, анализировавшей в "Новом мире" критику Немзера, который, в свою очередь, успел ответить ей в газете "Сегодня", и т. д. и т. п. Нет ли во всем этом заведомого тупика, неизбежного пустословия, вызванного ложной задачей? Самообслуживание, да еще в высокой степени. Боюсь, эта тема (если ее развивать дальше) будет все более уходить в себя. Что уж мы так уперлись в газету "Сегодня" и лично в Немзера? В конце концов, это непристойно для журнала.
Хочется вернуться к неким простым началам. Например: критика – это оценка меры красоты и правды в произведении. И дальше договариваться, что есть красота и правда. Это действительно серьезно. А не хлопотать о том, что "должна" делать критика: учить, вести, разъяснять, обслуживать, хвалить, ругать?.. Каждый критик все равно будет делать, что захочет (и что ему по силам).
Читатели же поймут эти хлопоты и так: критики занимаются саморазогревом. Не имея что сказать о литературе, расписывают самих себя и свои дела".
Прочитав мой отзыв, Роднянская высокомерно бросила:
– У вас устаревшие представления. Современная критика не занимается "красотой" и "правдой".
Чем же эта критика занимается – не уточнила.
(Бедная Ирина Бенционовна! В угаре борьбы, только чтобы меня окоротить, ей приходилось идти против самой себя. Ведь то, что пытался защитить я, относилось и к ее базисным эстетическим принципам. Не о том ли – зачем далеко ходить – написала она в послесловии-комментарии к вышедшей таки в "Новом мире" статье Костырко, испытывая явную неловкость за автора и поправляя его?)
Чтобы меня нейтрализовать, устроили внезапное совещание у главного: Василевский, Роднянская, Костырко, позвали и меня. Вот-де Сережа Костырко написал хорошую статью, но мнения могут быть разные, надо нам ее обсудить и утвердить окончательно.
А Залыгин относился к Костырко хорошо, почему-то считал его молодым. (хотя дело шло к полувековому юбилею!) и часто говорил мне, что тот пишет раз от разу грамотнее, развивается. Вот и на этом обсуждении сидел размягченный, радуясь, что все идет гладко, статью только нахваливают.
Когда дошло до меня, я сказал, что у меня есть замечания, я изложил их автору письменно и надеюсь, что они будут учтены. (Костырко недовольно потупился.)
– Ну, и все дела! – облегченно подвел итог Залыгин.
После поинтересовался все-таки, какие у меня претензии. Я показал ему процитированный выше свой отзыв. Всполошился: скажите им, что я вас полностью поддерживаю, пусть переделывает, и пора с этим безобразием кончать!..
Что там пошло в журнал, я даже не стал смотреть. Не сомневаюсь, что статья появилась в том самом виде, в каком была изначально.
Апофеозом этого междусобойчика стала "раскрутка" ОНЭКСИМбанка на литературную премию и заявление о создании вокруг этой премии – не жюри, нет! – "Академии русской современной словесности" (сокращенно АРС'С). По образцу Французской академии. Одними из первых в число "бессмертных" вошли, как легко догадаться, все те же Немзер, Костырко и Василевский. Последний обзавелся по такому случаю визиткой, в которой именовал себя "действительным членом академии", и самым серьезным образом на страницах "Нового мира" комментировал:
"Действительный член АРС’С Алла Латынина считает, что премия, возможно, займет место главной литературной награды страны, которое до сих пор оставалось вакантным. А действительный член АРС’С Вячеслав Курицын считает, что решение жюри знаменует перспективный поворот в поэтической моде... О премированной книге Ивана Жданова см. также статью действительного члена АРС’С Натальи Ивановой..."
Странная, вообще-то, затея – учреждать академию (академию!) по поводу некоторой где-то выпрошенной суммы денег. Искренне сожалею о нескольких достойных литераторах, соблаговоливших украсить ее своими именами. В этом суть произведенного в умах части "обуржуазившейся" интеллигенции переворота: деньги могут все!
Конечно, говорить о клановой чистоте, о единой линии поведения истерзанного интригами журнала не приходилось. Тут-то и пригодилось оппонентам Залыгина старое, еще стреляновское обвинение:
– Для чего выходит "Новый мир" в 1996 году? – вопрошал Василевский на заседании редколлегии, чувствуя теперь за плечами дыхание Киреева. – Для какого читателя? Каким должен быть образ журнала? У каждого из нас он свой. Если консенсус и достигается, то лишь случайно. У "Нового мира" отсутствует выработанная концепция!
(Наедине со мной он находил совсем другие слова: "Мы ведь все тут разные? Поэтому и журнал выходит интересный, разнообразный. Вот и ладно. Вот и хорошо", – с отчетливой интонацией Иудушки Головлева...
Человек, который столь простодушно дурачит окружающих, рассчитывает, вероятно, на их слабоумие. Вынужден согласиться с Василевским: я иногда оказывался настоящим идиотом. Когда Залыгин, уставший от разрушительной работы Василевского, твердо решил его уволить и уже подыскивал замену, когда ко мне прибежала перепуганная Роза Всеволодовна:
– Скажите Сергею Павловичу, что этого не следует делать, Андрюша так привязан к журналу!.. – я пошел и сказал. Я действительно все эти годы верил, что с ним, несмотря ни на что, можно иметь дело.)
Между тем (возвращаясь к журналу) именно в 96 году “Новый мир" предлагал читателю роскошество, какого тот не знал много лет до и не увидит после. Без ложной скромности могу признать, что на нежданном этом расцвете сказались и мои полуторагодовые усилия. Тут и дневники Игоря Дедкова, начавшие публиковаться по моей инициативе и на несколько лет вперед обеспечившие журналу читательское внимание, а самим читателям – подзабытое ими наслаждение беседы с умным и благородным человеком. Тут и блистательная сатира Михаила Кураева, за которую я боролся чуть ли не один против всех (об этом речь впереди). Тут (если обратиться к прозе) и уже упомянутый мной "букеровский" роман Азольского, и впервые так ярко раскрывшийся в рассказах Борис Екимов, и произительные этюды покойного ныне Яна Гольцмана, и открытый журналом Дмитрий Липскеров, и основательно (что там ни говори) дебютировавший молодой Антон Уткин, а из "классиков" – Астафьев, Залыгин, Искандер, Битов...
Битов, которого высокоморальные "консерваторы" (исключая, пожалуй, Роднянскую) жутко не любили (как же, в "Плейбое" напечатался!), в дни подготовки своей рукописи бывал в редакции, мы с ним беседовали о неопределенном и безрадостном будущем "Нового мира". Зачем "ушли" Инну Борисову? Зачем не дали работать Анатолию Киму, который вполне мог стать преемником Залыгина? На эти его вопросы у меня ответов не было, я мог лишь сожалеть о случившемся вместе с ним.
– А у вас не было желания сюда прийти? Сергей Павлович на такое не намекал?..
– Он, наверное, хотел бы этого. Но я не могу приходить на готовое. Мне надо сделать что-нибудь свое, да?
Раз появился в конце дня пьяный и, сидя со мной и Киреевым в буфете за поднесенной ему стопкой, заговорил о том самом – о "происхождении", о том, что "одно к другому тянется и сцепляется по принципу родства". Сослался при этом на судьбу Залыгина и почему-то – мою. Я сказал, что в моем роду, не считая меня самого и отца, было пять поколений читающих крестьян-старообрядцев. Ему слова про "пять поколений читающих" страшно понравились, но и против кучкования нынешних "графьев" он ничего не имел против: пускай.
Вдруг:
– Меня зачислят в антисемиты!
И – пошел поливать евреев, что лечили его на "одре" (незадолго до того ему вырезали опухоль мозга). Один из врачей поставил диагноз: "Писатель".