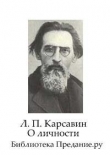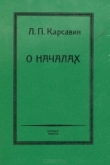Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 20 страниц)
Как известно, культ – важнейшая тема и мысли, и жизни Флоренского. По его глубочайшему убеждению, вся высшая суть человека связана с этой его возможностью – и, стало быть, долгом – видеть иной мир, входить в него с помощью культа. Как всякий символизм, философия Флоренского чуждается антропологии и желала бы, елико возможно, растворить ее в философии природы; но если бы надо было дать в ее рамках определение человека, таким определением было бы; человек есть существо, отправляющее культ. Миссия культа многогранна, она отнюдь не сводится к созданию предпосылок символического зрения. Напротив, за этой, так сказать, познавательно-философской функцией скрывается более глубокий аспект. В библейско-христианской онтологии здешний мир рассматривается как мир падший, т. е. пораженный фундаментальным несовершенством, которое выражается в его подчиненности началам греха и смерти. Действие этих начал и есть то, что повреждает связь двух миров и вносит порчу в явления, создавая преграду, несоответствие между явлением и его смыслом и превращая явления в ущербные, несовершенные символы. Культ же оказывается тою уникальной активностью, которая одна способна преодолеть, снять это онтологическое повреждение или, говоря точней, не устранить его целиком, но дать залог, создать необходимые онтологические предпосылки восстановления цельности бытия. В культе осуществляется снятие порчи, заслона между феноменом и ноуменом, онтологическое исцеление реальности, так что он не просто отладка, но прежде всего починка связи миров. Вслед за церковной традицией Флоренский именует эту отладку-починку освящением реальности и признает в ней суть, бытийную миссию культа.
Итак, во всем устройстве символической реальности ключевой момент, наиболее тонкий и таинственный, – это отношение ее двух миров, подлежащее особому ведению и попечению культа. Поэтому особый характер, тесно связанный с культом, приобретает и всякая активность, прямо зависящая от этого отношения, затрагивающая границу миров. Каждая из сфер такой «пограничной активности» подробно обследуется в конкретной метафизике. К числу их относится прежде всего сама сфера культа, обследованию которой Флоренский посвятил одну из самых крупных своих работ («Философия культа», 1918–1922). Затем сюда причисляются также смерть, сновидения, мистический экстаз, духовное зрение (если под символическим зрением понимается различение ноуменов в феноменах, то духовное зрение, проявляющееся в иконописи, есть непосредственное созерцание ноуменов, скрытых от зрения чувственного). Наконец, в более расширительном понимании пограничной активностью следует полагать и всякое творчество, поскольку оно, будь то в искусстве, науке или философии, также направляется к раскрытию смысловой, ноуменальной стороны явлений. При такой трактовке творчество также оказывается под эгидой культа и требует культовой предпосылки. Флоренский охотно принимает эту трактовку, в особенности в отношении онтологии, за которой он утверждает сущностное тождество с иконописью: обе области, одна в слове, а другая в изображении, дают выявление незримых духовных сущностей, так что «икона – наглядная онтология» [19]
[Закрыть] и «иконопись есть конкретная метафизика бытия» [20]
[Закрыть]. Именно эта связь с культом составляет специфику и новизну его известной интерпретации платонизма, согласно которой платоновские идеи суть не что иное как «лики или зраки божеств или демонов, являвшихся в мистериях посвященным» [21]
[Закрыть], и даже вся в целом «мысль Платона… в сущности, не более как философское описание и философское осознание мистерий» [22]
[Закрыть].
Для каждого рода встреч с иным миром культ доставляет человеку особое наученье и приготовленье, для каждого есть своя практическая наука или искусство, свой обиход и чин. Из них, помимо иконописи, о. Павел разбирает с наибольшим вниманием чин или же искусство смерти. Как всякое искусство, оно имеет, по Флоренскому, разные уровни развитости и высоты. В сочинении «О надгробном слове отца Алексея Мечева» (1923) им выделяются, по меньшей мере, три таких уровня:
– низкий, грубый, животный – «поверхностная физиологическая смерть, нередко мало сознаваемая»;
– обычная смерть, сопровождаемая «узрением смерти», явлением Ангела смерти;
– высший, духовный уровень – успение. Это – «смерть для мира» прежде физической кончины и последующий плавный переход, «переставление» в духовный мир без узрения смерти, по слову Спасителя: «Верующий в Мя не узрит смерти во веки» (Ин 8, 51). Очевидным образом, эта танатология Флоренского целиком соответствует античной мистике смерти, какою она существовала в дионисийстве, в его развитой, интеллектуально проработанной орфической рецепции. Здесь налицо весь идейный каркас орфической доктрины смерти: двуединый космос, объемлющий здешний и иной мир, область жизни и область смерти; смерть как переход из одного мира в другой, сопряженный для человека с таинственным превращением; возможность и необходимость искусства смерти; культ как посредничество между мирами и необходимая предпосылка искусства смерти. Нетрудно подметить и много других совпадений, вплоть до малых деталей. Так, естественно и необходимо у Флоренского появляется знаменитый орфический тезис о тождестве рожденья и смерти: здесь он – прямое следствие утверждаемого философом подобия, симметричного устройства здешнего и иного миров. Загробный мир описывается у Флоренского как орфический Тартар: в нем, как говорит он в этюде «На Маковце» (1913), собраны все концы и начала Вселенной. И самое примечательное, наконец: у Флоренского присутствует и сам Орфей. В небольшой мистико-экзегетической работе «Не восхищением непщева» (1915) он представляет собственную его трактовку, изображая его как родоначальника посредников и посредника par excellence, наделенного наибольшей способностью достигать иных планов бытия. Это – ортодоксальная орфическая трактовка; Орфей Флоренского, Орфей как архетип посредника, и есть Орфей орфиков. И мы видим, что о мистике смерти Флоренского было бы даже мало говорить, что она «представляет параллели» или «обнаруживает сходство» с орфизмом: она есть орфизм.
Обращает внимание радикальность и широта, с какою о. Павел вбирает к себе элементы античной мистериальной религии. Мы видим, что космос Флоренского – античный космос; его мистика смерти – ортодоксальный орфизм; и, уже не удивляясь, обнаруживаем дальнейшие совпадения. Характерно и его обоснование этих совпадений: принимаемые им черты античной религии он объявляет обычно присущими не только эллинскому язычеству или язычеству вообще, но всякой религии как таковой, тем самым утверждая универсальность античного религиозного типа и не признавая принципиальной новизны и инаковости христианства (черта, прямо связанная с жизненным мифом, как нам уяснится ниже). Исконной и непременной стороной языческой религиозности является магия; и Флоренский в «Водоразделах мысли» решительно утверждает, что магизм – «всенародная», «общечеловеческая» и непреходящая особенность, присущая, в частности, и христианской религии. Наряду с магией, им аналогично отстаивается и оккультизм; оба феномена он стремится трактовать по-своему, шире обычного – и совместить с христианством.
Эта апология магизма и оккультизма в позднем творчестве о. Павла опирается на новые важные идеи, вошедшие в его метафизику на ее последнем этапе. Суть в том, что одним из главных понятий сейчас делается для Флоренского понятие энергии, прежде мало встречаемое у него. С его помощью существенно углубляется понимание символа: удается проникнуть в саму таинственную механику, что производит соединение феномена и ноумена. Выдвигается тезис: это соединение – не что иное как соединение энергий того и другого. Символ живет энергиями, слиянием энергий своих сторон: это – давняя интуиция о. Павла, которую он высказывает уже в «Общечеловеческих корнях идеализма» (1908). Но сейчас интуиция вызрела в дефиницию, и с нею рождается новое понятие – энергийный символ: «такая сущность, энергия которой, сращенная или, точнее, срастворенная с энергией некоторой другой, более ценной… несет таким образом в себе эту последнюю» [23]
[Закрыть]. Концепция энергийного символа открывала богатые перспективы. Явилась возможность глубже или совсем по-новому увидеть всякий предмет, где есть и чувственная, и духовная сторона, по существу – развить новую картину мира, стоящую по-прежнему на символах, но более конструктивную, раскрывающую внутреннюю динамику явлений. К созданию такой «энергийной» картины и движется мысль философа в его последних разработках, оборванных преследованиями и гибелью. Отдельные темы – из области богословия, из лингвистики – Флоренский успел развить основательно, но многие смелые мысли и обобщения остались только намечены. Скупые наброски дают понять, что у философа складывался новый образ космоса, в основе которого – вводимое им понятие пневматосферы: это – одухотворенная вселенная, которая во всех своих сферах, и связанных и не связанных с человеком, от микромира и до мегамира, строится на энергийных символах и несет духовное содержание, слитое энергийно с материальным. При всей дискуссионности, такая концепция таит ценные выходы для мысли. Укажем всего один. Все мировые процессы связаны с передачей энергии. Но в пневматосфере физические энергии организованы в дискретные цельности, где «срастворены» с энергиями духовными – и, стало быть, все процессы здесь суть процессы передачи смысла (смыслов) или, в современных терминах, процессы передачи информации. Отсюда делается ясен генезис поистине блестящего научного прозрения о. Павла: утверждаемой им и детально прослеживаемой в «Магичности слова» структурной параллели, «гомотипии» слова и семени, речи и спермы. Очевидно, что эта параллель возможна лишь на одной основе: если и за тем, и за другим видят информационный код и информационный поток. Итак, о. Павел подходит вплотную к предсказанию генетического кода и отчетливо предвосхищает тот круг идей, который сегодня ассоциируется с понятием информационной картины мира. В религиозном же аспекте, «энергийный» этап мысли Флоренского послужил, как уже сказано, усилению и закреплению черт архаической религиозности. (Заметим это сочетание ультрасовременных научных идей с глубокой архаикой. Оно характерно для о. Павла как типологически – показывая самостоятельность, нетипичность его воззрений, так и по существу – выражая его антиисторизм, о котором мы еще скажем ниже.) Энергетизм Флоренского позволяет ему подвести теоретическую базу под магический обряд и культ: как мыслится им, в связанных с ними действиях и вещах живут и действуют особые энергийные символы, которые он называет «оккультными энергиями»; и этот механизм он относит к самой сути культа как такового, неизменной от первобытного ритуала до христианских таинств. В свою очередь, под теорию подводится база Предания и догмата: по утверждениям о. Павла, его концепция точно следует богословию энергий св. Григория Паламы, выразившему вековой опыт православных аскетов и введенному в догматику соборами XIV века. Но тут нам приходится решительно возразить ему.
Дело в том, что сама идея «оккультных энергий» Флоренского как неких дискретных цельностей, отделяющихся от человека и наделенных Богопричастностью, несущих в себе Божественные энергии, – эта идея есть вопиющее искажение православного богословия энергий. Углубляя вышеописанные позиции философского символизма, она в то же время сохраняет их онтологическую основу: онтологию сущностного соединения феномена и ноумена, здешнего и божественного бытия. Но знаменитый паламитский догмат о божественных энергиях утверждает, что для здешнего бытия доступно соединение с бытием божественным исключительно по энергии, и недоступно соединение ни по сущности, ни по ипостаси. И вот эта-то последняя, негативная часть догмата целиком игнорируется Флоренским. Вследствие этого, паламизм, миросозерцание православной мистики и аскетики, в своей философской сути был истолкован им как своего рода дополнение Платона Аристотелем: добавление энергийных концепций к базису платонической онтологии – сочетание, весьма близкое неоплатонизму. Отсюда уже закономерно вытекало, что в сфере религии паламитский догмат был понят как подкрепление и обоснование магизма, магической струи в православии. (Неоплатонизм теснейше связан с магическою религиозностью и дает ей философскую базу; особенно же эта связь выражена у Ямвлиха, которым Флоренский усиленно занимался.) Однако в действительности – и именно за счет своей важнейшей негативной части! – православный догмат значил прямо противоположное: решительный переход из стихии природного магизма в стихию личного Богообщения, свободы, нравственно-волевых начал. Ибо только в этой стихии, в элементе новозаветного персонализма, мыслимо энергийное соединение Божественного и человеческого, не являющееся в то же время и сущностным соединением. Это специфическое соединение энергий, воль Бога и человека может совершаться исключительно в сфере личного, а не природного бытия; оно дается лишь цельной человеческой личности и достигается всем существом человека, всем собранием его энергий. [24]
[Закрыть]
Итак, (нео)платонизированная трактовка православного энергетизма влекла за собой подмену, сдвиг от христианства как религии Личности в дохристианскую сферу природной, магической религиозности. Стоит, впрочем, заметить, что такая трактовка была свойственна не только Флоренскому. К наследию православного энергетизма обратились также Булгаков и Лосев – и оба они также относили его к руслу христианского платонизма. За этим стояла общая слабость всех трех наших философов к имяславию. Паламизм, понятый в русле платонизма, позволял дать обманчиво простое и неотразимое оправдание имяславия. «В Имени Божием присутствует Божественная энергия», – говорили все трое, не замечая, что этот тезис никак не следует из паламитского догмата и возникает только тогда, когда православное «не по сущности, а по энергии», заменяют языческим «и по сущности, и по энергии».
Без сомнения, именно у Флоренского сдвиг к (нео)платони-зированному «магическому православию» был наиболее решителен, глубок и осознан, Но следует сказать, что при всем тяготении о. Павла к стихии эллинства, этот сдвиг нельзя считать только погружением в нее. Правильней говорить о некой синкретической архаизации, вобравшей в себя элементы и эллинского язычества, и первобытного магизма, и древнего иудейства. Причем в поздний период как раз последнее выходит на первый план. Сейчас для Флоренского христианство – прежде всего, религия Имени Божия. В «Водоразделах мысли» находим весьма четкие формулы: «Христианство есть проповедь Имени Иисуса Христа и Евангелия, призыв исповедать Имя Христа. А мы подменяем это исповедание Имени исповеданием Самого Иисуса Христа» [25]
[Закрыть]. Но культ Священного Имени, отрываемый от веры в событие Христа, историческое событие пришествия в мир Самого Носителя Имени, – не что иное как иудейство [26]
[Закрыть]. Идя куда далее самих имяславцев, о. Павел не только призывает здесь «исповедать Имя Христа», но и заявляет, что исповедать Самого Христа совершенно не следует, что это – подмена христианства!! Да, смелости мысли не занимать было этому человеку… Здесь у архаизации Флоренского обнаруживается еще одна нить родства – и, в полном согласии с его метафизикой рода, это родство также и родовое, генетическое. По мере появления его поздних трудов, становится ясно, что частый упрек ему в отсутствии христологии не вполне справедлив. Его ультра-имяславие несет в себе и определенную христологию, но это – христология, почти или совершенно умалчивающая о человечестве Христа: дохалкидонская и монофизитская христология. Вполне в духе Флоренского будет вспомнить здесь его род и, высказав предположение, что род материнский сказался в его мысли сильней отцовского, признать, что о. Павел – великий армянский богослов. Таков один из многих контрастов его жизнетворчества: архаист в религии и новатор в философии, если использовать популярную оппозицию двадцатых годов.
Так в конце творческого пути Флоренского снова, и еще резче, повторяется то, что было прежде с его учением о Софии. Свои крайне индивидуальные взгляды, коренящиеся в жизненном мифе, он стремится – ибо этого тоже требует миф! – опереть на церковную традицию, представить ее выражением; и при этом, с железною последовательностью, он приспосабливает не их к традиции, а традицию к ним. Все это тоже – неотъемлемые черты его жизнетворчества.
Существует еще немало особенностей конкретной метафизики, имеющих своим истоком жизненный миф. Возвращаясь к философии культа и символическому Космосу – Пан-Символу, заметим, что за счет «пограничной активности», разнообразных сообщений и встреч между двумя мирами, слои символической реальности пронизаны связующими путями – и точным отражением этого служит мотив «пронизанности корнями» в геологической бытийной парадигме. Культ, делающий все эти сообщения возможными и регулирующий их, выступает, тем самым, как своего рода Ведомство Путей Сообщения. Философия же культа Флоренского обнаруживает еще одно совпадение с античной мистериальной религией, где миссия культа твердо понималась как наведение и блюдение путей либо мостов меж здешним и иным миром. Как подчеркивал в этой связи Вл. Соловьев, то же слово potifex по-латыни есть и священник, и строитель моста. И отец Павел Флоренский как священник оказывается продолжателем дела своего отца, бывшего инженером-путейцем. Для иной биографии было бы лишь абсурдным находить смысл в таком соответствии, но в случае Флоренского оно, право же, заслуживает внимания, равно как и аналогичное соответствие в следующих коленах рода. Мы видели выше, что бытийные интуиции Флоренского восходят к геологическому образу-архетипу, и его центральную онтологическую парадигму назвали геологической парадигмой. Вспомним теперь, что уже два поколения после отца Павла старший в его роду – геолог. Преемство сути соблюдено в роду, хотя в разных коленах реализация этой сути смещается из более феноменального в более ноуменальный план, и обратно. Все это в точности соответствует метафизике рода Флоренского (о которой мы скажем ниже), и потому перед нами снова единство жизни и мысли, жизнетворчество, которое уже выходит и за пределы эмпирической биографии.
Таким складывается у Флоренского обследование Пан-Символа, символической реальности в целом. Очень близко к этой заглавной реализации онтологической парадигмы примыкает та, которую Флоренский обнаруживает в строении христианского храма. Анализируя в «Иконостасе» это строение, он вновь приходит к схеме бытийных оболочек разной ноуменальной насыщенности: «Организация храма направляется от поверхностных оболочек к средоточному ядру… Пространственное ядро храма намечается оболочками: двор, притвор, самый храм, алтарь, престол, антиминс, чаша, Св. Тайны, Христос, Отец» [27]
[Закрыть]. Как видим, отсюда, принципу пространственности и парадигме структурированного всеединства Флоренский подчиняет даже внутреннее устроение Абсолютного, Пресв. Троицы, ипостаси Которой также помещаются им в ряд «пространственных оболочек». Из прочих реализаций этой парадигмы характерна для интересов Флоренского лингвистическая реализация. Области слова, языка отводится важное место в конкретной метафизике, и существенно, что эта область также описывается на все той же универсальной основе. Из концентрических смысловых оболочек строится, по Флоренскому, основная лингвистическая единица, слово, а в качестве оболочек выступают структурные элементы: фонема, морфема и семема. «Слово может быть представлено как последовательно обхватывающие один другой круги, причем, ради наглядности графической схемы слова, полезно фонему его представить себе как основное ядро или косточку, обернутую в морфему, на которой в свой черед держится семема… Фонема слова есть… символ морфемы, как морфема – символ семемы» [28]
[Закрыть]. Наконец, и сфера социального бытия, не столь занимавшая Флоренского, также имеет в основе устройства структурированное всеединство. Она рисуется Флоренским как ряд опять-таки концентрических сфер, обитатели которых связаны узами родства и любви. Сферы отличаются друг от друга крепостью этих уз, причем последняя убывает от сферы центральной (семья, дружеская чета), где люди связаны тесней и ближе всего, к периферийным сферам, которые отвечают широким социальным образованиям. Силу или активность, объединяющую социум, Флоренский называет соборованием. «Живя, мы соборуемся сами с собой – в пространстве и во времени, как целостный организм, собираемся воедино из отдельных взаимоисключающих элементов, частиц, клеток, душевных состояний и пр. и пр. Подобно мы собираемся в семью, в род, в народ и т. д., соборуясь до человечества и включая в единство человечности весь мир» [29]
[Закрыть]. В целом этот круг мыслей был мало развит Флоренским, который не раз констатировал, что люди, сравнительно с природой, гораздо менее интересовали его. Однако можно отметить два исключения: его всегда близко занимали феномен дружбы и феномен рода (родовой общности, родового преемства). И как обычно, важность этих тем равно прослеживается и в мысли его, и в жизни.
***
Пора заметить теперь, что все эти реализации онтологической парадигмы, как и вообще вся картина символической реальности, представленная до сих пор, существенно неподвижны, статичны. Иначе и не могло быть. Символам, как это всегда отмечается о них, присущи статуарность, недвижность. Категории движения, изменения пока отсутствуют, а с ними отсутствуют и все те явления, которые суть в действительности процессы, т. е. явления истории и жизни. Каким же образом философский символизм включает подобные категории и явления в свою орбиту? Античное бытие-космос знает единственный род ноуменально-значимых движений: вращение небесных сфер, и этого рода достаточно для античного миросозерцания, чтобы понять все происходящее. Сферы, в согласии с парадигмой неоднородного всеединства, вращаются неравномерно друг относительно друга, и пребывающие на них небесные вещи постоянно меняют свое взаимное положение, в каждый миг образуя разную картину. В символической модели реальности эта картина небесных вещей точным, хотя и сокровенным образом соответствует картине вещей земных, так что и ход истории, и течение человеческой судьбы равно подчинены небесной механике и ей таинственно изомофорны. В библейско-христианской онтологии представления о бытийных движениях радикально иные. Не входя в них детально, скажем лишь, что главнейшим отличием здесь можно, вероятно, считать постулат онтологической свободы: положение о возможности для человека свободных, принципиально неподзаконных, непредсказуемых бытийно значимых актов, актов бытийного падения и восстания, утрат и новых обретений – паки-обретений, говоря по-старинному, – неущербной полноты бытия. Подобные онтологические акты падения-восстания передаются категориями греха и покаяния, а их парадигмой или же архетипическим прообразом служит библейская мифологема Эдема, утрачиваемого и вновь обретаемого Рая.
Тема бытийных изменений имеет не только теоретический, но и экзистенциальный аспект, и характер ее решения сказывается на жизненных установках. Неудивительно поэтому, что в ее решении у Флоренского особенно проявилась одна из главных антиномий его философского и личного стиля: крайняя тяга к особенному, своеобычному, даже своевольному и одновременно – к стоянию во всеобщем, в традиции, под ее защитой. Решая данную тему, он полагает в основу мифологему Эдема, и тем как будто бы следует христианскому видению; но в то же время, как выясняется, он трактует эту мифологему с позиций античной картины бытия, включает ее в античный космос. В важном письме-этюде «На Маковце», открывающем собою трактат «У водоразделов мысли», утрата и паки-обретение Эдема, с одной стороны, признаются сутью и схемой всей истории творения («Космическая история… Эдемом начинается… Эдемом же и кончается»), с другой же стороны, они там представлены как небесный геоцентрический цикл: вечер – ночь – утро, очевидно, полностью независимый от хода земных событий и человеческих дел. В итоге история бытия решительно переводится из ключа экзистенциального в космический и вместо драмы человеческой свободы перед нами снова – круговращение небесных сфер.
Так понятая мифологема Эдема остается в метафизике Флоренского практически единственной парадигмой бытийного изменения. Вследствие этого она уже с неизбежностью оказывается и той парадигмой, которой должен подчиняться ход жизненной драмы человека, рисунок его судьбы. Арсенал персональных мифологем сводится к единственному образцу, и мы строго дедуктивно заключаем, что персональной мифологемой, воплощавшейся в жизнетворчестве Флоренского, должна была стать мифологема Эдема. Однако, быть может, еще легче прийти к этому же заключению индуктивным путем, а попросту говоря – наглядно, отправляясь прямо от жизненного материала и той интерпретации, какую давал ему сам Флоренский. Все его «Воспоминания детства», по сути, одно яркое свидетельство о том, что его детский мир был истинно – Первозданный Эдем, непорочное райское бытие, предстающее как прекрасный сад и не ведающее ничего о стихиях греха и смерти. Этот мир, как утверждает Флоренский, навсегда сложил его личность и восприятие, привил твердую веру в наполненность каждого явления смыслом, в символическую природу реальности. В дальнейшем, однако, когда стихии греха и смерти с неизбежностью вторглись в его жизнь, не могло не произойти крушения этого райского видения мира. Эдем был утрачен – но остался образ его, осталась тяга к нему как к истинному, должному устроению бытия. Он стал из наличного искомым, и в центре работы разума и стремлений души вырастала задача его возврата. Решение этой задачи и составляет суть следующего жизненного этапа.
Знаменитая книга «Столп и утверждение Истины» принадлежит именно этому этапу. Это его летопись и итог, скрупулезный отчет о достигнутом решении жизненной задачи. В главных чертах решение традиционно и просто – ибо, разумеется, сама поставленная задача была по существу своему универсальной. Требовалось прежде всего найти, какие начала способны действенно противостоять тем силам, что разрушили Первозданный Эдем, силам греха и смерти. И вслед за тем требовалось обеспечить собственную причастность этим началам, войти в сферу их исцеляющего действия. Общеизвестен традиционный путь к достижению как той, так и другой цели: спасительные начала усматриваются в сфере культа, причастность же им обеспечивается практическим присоединением к культу, вхождением в его сакраментальную жизнь. Именно этот путь заново открывает для себя и проходит Флоренский. Решением его жизненной задачи оказывается Столп и утверждение Истины – Церковь. Вместе с тем, рядом со всеобщим у него снова, как и всегда, соседствует особенное, даже резко индивидуальное. Источником особенных черт в очередной раз становится его стойкая приверженность принципам конкретности и пространственности. В силу этих принципов Новый, Возвращенный Эдем не мог для него остаться – как оставался для многих – простой метафорой или аллегорией, обозначающей жизнь в вере и Церкви. Он должен был непременно облечься в такую же вещественную реальность, какой был первый Эдем, вполне земная батумская жизнь одаренного, редкостно восприимчивого мальчика в слиянии с колхидской природой. Поэтому его поиски не чисто духовны, но и пространственны, как, скажем, поиски Святого Грааля или Шамбалы. Новый Эдем – это нечто, воплощенное наглядно, явленное как определенное место, и Флоренский это место находит. То была Троице-Сергиева Лавра. Утверждение Лавры как Нового Эдема влекло за собою важные и разнообразные следствия. Прежде всего оно означало, что Лавра утверждается как истинный символ, т. е. данный наглядно ноумен, чистое и незамутненное явление смысла. Похвала Лавре – видная тема позднего творчества Флоренского, и она неизбежно покажется у него неумеренной, странно гиперболизированной, если только мы не увидим ее жизненный подтекст и исток. Далее, что еще важней, оно означало, что Лавра как ноумен тождественна Первозданному Эдему, ибо в эдемской мифологеме начало и конец суть одно, и Новый Эдем есть вновь обретенный изначальный. Отсюда у Флоренского настойчивый мотив: приход в Лавру – это возвращение на родину, к своему истинному существу, ибо Лавра – «это мы более, чем мы сами» [30]
[Закрыть]. Ноуменальное содержание Лавры есть, очевидно, русское православие, и притом определенного, так сказать, извода: такое, каким его видел и созидал основатель Лавры Св. Преподобный Сергий, православие Московской Руси XIV–XV вв. Что же до Первозданного Эдема, то онв своем ноуменальном содержании прочно отождествлялся у Флоренского с миром эллинской античности. Флоренский неустанно подчеркивал эллинскую суть своего детского мира и опыта, их бесчисленные, как ему представлялось, эллинские связи и нити, начиная опять-таки с конкретно-пространственных: его детство, как пишет он, протекало «в краю Медеи и золотого руна», где сама «земля была насквозь пропитана испарениями античности» [31]
[Закрыть]. Таким образом, он с необходимостью заключает о духовном тождестве, сущностном родстве Эллады и Лавры, античной духовности и московско-русского православия XIV–XV вв. Утверждение этого тождества (разумеется, никак не бесспорного [32]
[Закрыть]) можно рассматривать как финальный штрих, которым одновременно завершается и рисунок его судьбы, и круг его религиозно-философских воззрений. С ним доводилось до конца жизненное воплощение мифологемы Эдема, его персональной мифологемы. И с ним же доводилось до конца и то предельное сближение христианства и платонизма, русского православия и эллинской мистериальной религии, которое составляет фундамент его духовного мира.
Итак, опыт жизнетворчества Флоренского получил цельность и завершенность; и это должно поражать, если мы заметим всю трудность, даже проблематичность достижения такого итога. Чтобы достичь строгого единства идей и полного согласия с жизненным мифом во всем широчайшем диапазоне своего творчества, он должен был" ломать привычные представления, развивать новые методы и подходы сразу во многих областях, улавливать общее в предельно удаленных явлениях и, может быть, самое трудное – нередко защищать спорные, даже сомнительные решения, которые надо было провести и утвердить, ибо того требовал миф его жизни. Нелегко даже оценить, какая воля и сила понадобились для его жизненного труда. Недаром одно из самых глубоких суждений о нем, принадлежащее о. Сергию Булгакову, говорит: «Самое основное впечатление от отца Павла было впечатление силы, себя знающей и собою владеющей» [33]
[Закрыть].