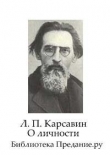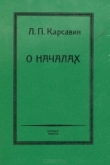Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
Экономисты, агрономы, кооператоры – 23
Философы, социологи, правоведы —13
Профессора естественных и технических наук —13
Журналисты и литераторы – 11
Историки – 6
Религиозные деятели – 6
Медики – 5
Перечислим входящих в этот список, следуя данному разбиению.
Б.Д. Бруцкус, Л.М. Пумпянский, А.И. Угримов, А.С. Каган, Н.П. Ромодановский, В.С. Озерецковский, В.М. Кудрявцев, В.В. Зворыкин, Н.Н. Бакал, А.А. Булатов, И.И. Любимов, И.И. Матвеев, А.В. Пешехонов, С.Е. Трубецкой, В.Д. Головачев, М.Д. Шишкин, А.Ф. Изюмов, К.Е. Храневич, Ф.Л. Пясецкий, Б.Н. Одинцов, И.И. Лодыженский, П.А. Велихов, С.Н. Постников.
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, Н.О. Лосский, С.Л. Франк, Л.П. Карсавин, И.А. Ильин, Ф.А. Степун, И.И. Лапшин, П.А. Сорокин, А.А. Боголепов, А.С. Мумокин, П.А. Михайлов, М.С. Фельд.
М.М. Новиков, Е.Л. Зубашев, В.И. Ясинский, Д.Ф. Селиванов, С.И. Полнер, В.В. Стратонов, Н.П. Козлов, И.М. Юштим, Б.П. Бабкин, Г.А. Секачев, Н.П. Кастерин, С.Л. Соболь, И.В. Малолетенков.
А.С. Изгоев, Ю.И. Айхенвальд, М.А. Осоргин, В.А. Розенберг, Н.М. Волковыский, Б.О. Харитон, В.Я. Ирецкий, Д.А. Лутохин, В.Ф. Булгаков, А.Б. Петрищев, И.М. Матусевич.
А.А. Кизеветтер, С.П. Мельгунов, В.А. Мякотин, А.В. Флоровский, Ф.Г. Александров, Е. П. Трефильев.
В.В. Абрикосов, Д.В. Кузьмин-Караваев, А.Д. Арбузов, А.А. Овчинников, И.А. Цветков, В.Ф. Марцинковский.
Г.Я. Трошин, Г.Л. Добровольский, А. ф. Дуван-Хаджи, А.П. Самарин, Д.Д. Крылов.
Наибольший культурный вес и значимость представляет, безусловно, группа философов. Это – основа русской мысли нашего века, включающая фигуры мирового масштаба. Немало славных имен примыкает к ним. П. Сорокин стал за рубежом знаменитейшим социологом, основателем своей школы; В.Н. Лосский, выехавший с отцом, сделался выдающимся православным богословом, книги которого считаются на Западе классикой – у нас же, увы, почти неизвестны. Крупными историками были высланные А.А. Кизеветтер, С.П. Мельгунов, А.В. Флоровский. Известностью и авторитетом пользовались А.С. Изгоев – крупный публицист, один из авторов «Вех» (среди высланных, кстати, 4 из 7 авторов этого сборника!) и литературный критик Юлий Айхенвальд; с успехом входил в литературу М. Осоргин, прежде – известней журналист, а потом ставший и отличным прозаиком.
Свыше половины высланных (члены первой, третьей и последней группы) работали в областях, связанных с хозяйственной и практической жизнью, и в послевоенном восстановлении страны их деятельность была особенно нужной. Как и предполагалось замыслом высылки, в большинстве это были видные члены профессуры, и многие из них играли важную роль в научной среде. В.И. Ясинский был весьма известным путейцем, председателем Дома Ученых в Москве. М.М. Новиков, крупный, широко мыслящий биолог (его философские труды упоминаются в «Истории русской философии» Н.О. Лосского), был последним выборным ректором Московского университета. Правовед А.А. Боголепов и почвовед Б.Н. Одинцов были проректорами Петербургского университета, Е.Л. Зубашев – директором Томского Технологического института, А.И. Угримов был председателем Общества сельского хозяйства, активным деятелем Помгола. С Помголом был связан и ряд других изгнанников – председатель его студенческой секции Д.В. Головачев, уже упоминавшиеся М.А. Осоргин и В.Ф. Булгаков; руководители же его, Е.Д. Кускова и С.О. Прокопович, были высланы еще раньше, в июне. Конечно, выслан был и «почти весь» круг журнала «Экономист»: к нему, помимо упоминавшихся П.А. Сорокина, Д.А. Лутохина и Е.Л. Зубашева принадлежали также Б.Д. Бруцкус, Л.М. Пумпянский, А.С. Каган. Весьма тяжелый удар был нанесен по кооперативному движению: в числе высланных – не менее 10 его руководителей. Напрашивающееся сопоставление этого факта с ленинским восхвалением «строя цивилизованных кооператоров» было сделано немедленно – высланным историком В.А. Мякотиным в берлинском «Руле».
***
Такова беглая панорама высылки в сухих социологических данных. Нам остается рассказать, как это выглядело в жизни, и какие события развертывались вслед за арестом будущих изгнанников. Судьба нам оставила ценную возможность; сегодня мы еще можем услышать об этом живое изустное свидетельство.
«Это все-таки был сюрприз. За зиму отвыкли от обысков, от ночных стуков. Что-то как будто изменилось. Вы не забудьте, что Николай Александрович Бердяев читал тогда свои лекции, и Флоренский читал свои лекции… Казалось, что начинается нормальная жизнь. И почему вдруг в эту нормальную жизнь нас должны высылать? Это был нонсенс, это был вопрос.
– И как же Александр Иванович объяснял себе причины высылки?
– А вы думаете, он объяснял? Это было необъяснимо. Мы думали, это недоразумение…»
Так вспоминает, беседуя с нами у себя дома в Москве, Вера Александровна Рещикова, дочь Александра Ивановича Угримова и пассажирка первого философского парохода. Угримовы – из коренных насельников арбатской профессорской Москвы. Жили они в те годы в одном из особнячков на Сивцевом Вражке, и мне не раз думалось – не вспоминал ли о них соратник профессора Угримова по Помголу, собрат по испытаниям высылки Михаил Осоргин, когда он писал свой «Сивцев Вражек», рисуя любовно особнячок, старого профессора и его Танюшу, ровесницу Веры Александровны? (Думать – думал, – а выяснять не пытался – надо ли?) [2]
[Закрыть] Как осоргинские герои, они – в стороне от политики, хоть вовсе не в стороне от жизни и службы родине. Взгляд политика мог бы уловить ход событий тогда, когда он наметился – едва ли не за год до высылки. Весною различил этот ход философ Бердяев. Угримовы – с доверием надеялись на «нормальную жизнь» до последнего дня. Да что! и по сей день высылка и Помгол не соединяются в сознании нашей хозяйки и, вопреки моим доводам, не входит в это сознание идея власти, для которой помощь умирающим – преступление. Сколь возросли в широте понятий следующие поколения россиян!
Как положено, за арестом у каждого из высылаемых следовали допрос и предъявление обвинения. Допрос, стандартный для всех, заключался лишь в ряде общих вопросов: отношение к советской власти, к эмиграции, взгляд на задачи интеллигенции, и т. п. (впрочем, разные авторы из высланных приводят не совсем одинаковый список вопросов). Затем предъявлялось обвинение по статье 57 уголовного кодекса: контрреволюционная деятельность в период особо тяжелого положения страны. После этого объявлялось решение участи: обвиняемый подписывал бумагу об административной высылке за границу по постановлению коллегии ГПУ. Срок в ней не был указан, но устно сообщалось тут же, что высылка – пожизненна. И наконец, давали на подпись уведомление о том, что возвращение в страну без разрешения будет караться расстрелом. Понятно, что в этой юридической процедуре концы вовсе не сходились с концами. Обвинение по статье предполагало приговор суда, а не административную высылку; основанием же для высылки служил не уголовный кодекс, а декрет ВЦИК, принятый «в последнюю минуту», 10 августа 1922 г., и предусматривавший срок лишь до трех лет. Понятно, однако, и то, что эти неувязки ни в чьих глазах не имели даже тени значения. О них не пишет почти никто из изгнанников, но зато все очень запомнили бумагу о расстреле. Эта впечатляющая деталь – прямое указание Ленина: «расстрел за неразрешенное возвращение из-за границы» – одно из сформулированных им в мае добавлений к уголовному кодексу.
По-разному, конечно, приняли изгоняемые свою судьбу. Недавно журнал «Слово» перепечатал у нас записи в стиле альбомных, которые сделали изгнанники-петербуржцы во время плавания на «Пруссии». Там, сразу по отъезде, почти у всех доминирует одно: тоска расставанья с родиной. Но это – особенный момент, да и не столь большая часть высланных там представлена. В целом же, спектр настроений очень широк. После бесед на эту тему со многими сотоварищами, Н. Волковыский писал: «Отношение к разлуке с родиной было различное. Кое-кто, и я сам в том числе, не хотел уезжать, нам казалось, что самые страшные годы уже пережиты… Отдельные среди нас высылке не радовались, другие – приняли ее с восторгом…». Так чувствовал и думал перед отъездом князь Сергей Евгеньевич Трубецкой – верно, единственный из всех, активно причастный к антибольшевистской борьбе: «Раз я ничего не могу здесь сделать, остается бежать отсюда, бежать, бежать скорее и не видеть… Вон, вон отсюда! – теперь это было мне ясно и я опасался только, что вдруг что-то помешает нам уехать». Не столь далек от него московский литератор Иосиф Матусевич: «Каждый почел бы для себя за спасение уход из советского Эдема. Нам откровенно завидовали». Но вот Бердяев, однако, пишет: «Когда мне сказали, что меня высылают, у меня сделалась тоска. Я не хотел эмигрировать». Философы, строившие самобытную русскую метафизику, связаны были с родиной не только жизнью, но и мыслью, самими истоками своего творчества. Сильнее всех эта глубинная, даже мистическая, если угодно, связь дает знать себя у отца Сергия Булгакова. Он плыл в изгнание на итальянском пароходе, шедшем из Севастополя в Константинополь, и в дневнике своем записал так: «От родины я не должен, не могу и не хочу никогда отказаться, и, значит, умираю всю оставшуюся жизнь». И в заключение этого ряда свидетельств, вернемся опять к Угримовым. Мы ведь догадываемся уже, как приняли весть на Сивцевом Вражке, не правда ли?
«– Я не знаю человека, который бы сказал: «Слава Богу! Мы рады!» Для нас это была катастрофа. Отъезд – горе. Но только мы были убеждены, что мы через год вернемся. У нас был дома молебен перед самым отъездом. И, когда молебен кончился, то папа, я помню как сейчас, встал и сказал, перекрестясь: «Ну, через год мы вернемся!». Он абсолютно был в этом уверен».
В Москве и в Питере с высылаемыми обращались различно. В северной столице, которую прозвали в ту пору «вотчиной Гришки Третьего» (Отрепьев – Распутин – Зиновьев), всех посадили в тюрьму и порядком там продержали: «от 40 до 68 дней», как потом педантично подсчитали сами изгнанники. В Москве в тюрьме почти не держали, обращались с чекистским политесом: стиль Дзержинского. Раньше были закончены и приготовления. Сначала ГПУ собиралось получить въездные документы в Германию по собственному запросу и разом для всех; но так, однако, не вышло. «Канцлер Вирт ответил, – пишет Н.О. Лосский, – что Германия не Сибирь и ссылать в нее русских граждан нельзя, но если русские ученые и писатели сами обратятся с просьбою дать им визу, Германия охотно окажет им гостеприимство». Итак, устройством виз занялись сами высылаемые, а точней, избранные от групп, которых в Москве назвали по-русски старостами, в революционном же городе Питере – делегатами. Старосты были А.И. Угримов и В.И. Ясинский, делегаты – Н.М. Волковыский и Н.О. Лосский. Их миссией было и устройство прочих отъездных дел, в основном, хлопоты о смягчениях более чем спартанских норм вывозимых пожитков: на человека дозволялась одна простыня, один костюм, две рубахи… по словам М. Осоргина, «не было разрешено вывезти ни одной писаной бумажки и ни одной книги».
Наступило отплытие. Последняя деталь, которая запомнилась Вере Александровне в Петрограде, – проходившая с песней по набережной рота солдат. «Мы с мамой заплакали: „Это русские солдаты – не те, что приходят с обыском!"». Н.О. Лосский выезжал вместе с тещей, директрисой известной в Петербурге женской гимназии; и отплытие «Пруссии» сделалось благодаря этому живописным: «Вьющейся разноцветной лентой потянулись через публику, точно гусиный выводок, сотни полторы молодых, возбужденных от холодка, от волнения женских лиц. Студентки, ученицы Стоюнинской гимназии, пришли проститься с Марией Николаевной». После стольких лет войны, голода, террора – полторы сотни бывших гимназисток на набережной. Какая деталь нам скажет больше о том, что было когда-то русское просвещение, русская гимназия?! В недавнем интервью академик Д.С. Лихачев рассказал, что и его гимназический учитель привел на пристань большую группу учеников, справедливо решив, что событие будет для них поучительно и памятно. В Москве студенты университета поднесли С.Л. Франку прощальный адрес, где говорилось: «Ваше философствование, ваш идеал… будут всегда светить нам… Будем верить, что придет время, когда снова сможем мы работать с Вами, дорогой Семен Людвигович…». Когда пароход с москвичами проходил Кронштадт, к нему – вспоминает вновь Вера Александровна – приблизилось несколько шлюпок с матросами. Дивились, жалели: вы ж все тут русские, куда же вы это, как же? И долго махали вслед бескозырками…
Три дня плаванья прошли на обоих судах без происшествий. На «Обербургомистре Хакене» Н.А. Бердяев «в широкополой шляпе на черных кудрях, с толстой палкой в руке и в сверкающих калошах прогуливался с С.Л. Франком». Отмечали в море именины, Вера – Надежда – Любовь – София, и по этому случаю М. Осоргин «говорил витиеватую заздравную речь в честь всех именинниц. – „С нами мудрость (София), Вера, Надежда, но нет – Любви, Любовь осталась там… в России!"». Читатели его знают: Михаил Андреевич грешил немного сентиментальностью… Подплывая, москвичи ожидали, что будут торжественно встречены представителями эмиграции. Рассказ В.А. Рещиковой: «С приближением высадки профессора устраивают собрание: как реагировать на ожидаемые восторги. Настроения патриотические: будем сдержанны. Подплываем к Штеттину… Николай Александрович выходит на палубу и говорит: „Что-то никого там не видно". Никого нет. Ни души». С.Е. Трубецкой хладнокровно уточняет: «На пристани стояло несколько упитанных немцев с толстыми, налитыми пивом животами». Никто не встречал прибывших и в Берлине, один только представитель немецкого Красного Креста. Разместили по небольшим гостиницам, пансиончикам. «Был запах газа и запах Sauerkraut (кислой капусты – С.X.). И тут я легла в постель и очень плакала».
Первые впечатления не всегда правильны. Эмиграция, конечно же, отнеслась к высылке со вниманием. Беспрецедентное событие слегка застало ее врасплох – но уже к прибытию «Пруссии» были и встречи, и речи, а собрания и приемы в честь высланных, по нынешнему выраженью, шли косяком. При всем том, отношение к группе крайне разнилось в разных эмигрантских слоях. Читатель главных эмигрантских газет того времени, кадетского «Руля» и эсеровских «Дней», находит картину полной солидарности и симпатии к прибывшим; «Руль» называет передовицу о высылке «Щедрый дар» и о значении события говорит: «не было бы счастья, да несчастье помогло». Иное было в эмигрантской массе, где многие отвергли с большевиками и Россию, поставили на ней крест и часто имели дичайшие понятия о том, что там происходит. Как вспоминает Вера Александровна, приехавшие лишь диву давались, слыша походя и от столичной аристократии, и от «армейской гущи» высказывания в духе: «Но там ведь у вас все пьяные?» Среди молодежи прибывшие сверстники встретили единственный узкий слой с живым отношением и интересом к России: ранних евразийцев (которые были не те же, что евразийцы позднейшие, занимавшиеся пробельшевистской деятельностью). Близкие впечатления были и у Бердяева: «Большая часть эмиграции встретила группу высланных подозрительно и недоброжелательно. Были даже такие, которые позволяли себе говорить, что это не высланные, а подосланные для разложения эмиграции».
Версия о подосланности, упоминаемая тут Бердяевым, имела и в самом деле хождение. Родилась же она в итоге оригинального симбиоза, соединения усилий пробольшевистской прессы и ультраправых кругов, занятых тогда, как и ныне, разоблачением мирового жидомасонства. В известной берлинской газете «Накануне», контролировавшейся из Москвы, вскоре после высылки пущена была утка о «прогонных деньгах», суммах, якобы полученных высланными от советского правительства. Ложь была тут же опровергнута в других газетах, с точным изложением всех финансовых обстоятельств высылки; но, невзирая на опровержение, она готовно была подхвачена ультраправыми эмигрантами, которые дополнили и обогатили ее. Писатель М. Арцыбашев, известный поборник эротизма и патриотизма, называет прибывших «полусосланными, полувысланными, полупосланными». А немного поздней В.Ф. Иванову в сочинении «Православный мир и масонство» (Харбин, 1935) удается уже и полностью докопаться до правды. Как мы узнаем отсюда, существуют «неопровержимые доказательства» того, что высланные вовсе не полупосланы, а «просто – посланы (курсив автора – С.X.) из СССР со специальной целью внести раскол в русскую православную церковь за границей и погасить среди эмиграции сильный подъем религиозного чувства, а вместе с тем погасить и национально-патриотическое настроение. Оказывается, инициатором высылки был не кто иной как брат Герш Апфельбаум (Зиновьев), связанный с „высылаемыми" общностью интересов и целей ввиду совместной с ними принадлежности к всемирному франкмасонству». Комментарии излишни.
Однако в ту пору творческие силы и эмиграции, и прибывшей группы еще были слишком велики, чтобы черносотенная тупость и чекистская провокация, даже соединившись, могли бы их подорвать. В считанные дни и недели в русском Берлине с размахом развернулась религиозно-философская и научная работа. Петербуржцы прибывают сюда в воскресенье 19 ноября; а уже в следующее воскресенье, 26-го, происходит торжественное открытие Религиозно-Философской Академии с речами Бердяева, Карсавина, Франка. В феврале 1923 г. начинает работу Русский Научный Институт в Берлине, крупное учебное заведение с рядом отделений. Вокруг философов собирается мыслящая, религиозно настроенная молодежь, образуются кружки, и, по русской традиции, наши мыслители выступают не просто носителями школьной науки, но и духовными наставниками. А с переходом центра эмигрантской деятельности в Париж высланные становятся во главе двух, может быть, самых важных духовных начинаний эмиграции: Н.А. Бердяев руководит философским журналом «Путь», выходящим в течение 15 лет, с 1925 по 1940 год, С.Н. Булгаков с 1925 г. и до своей кончины в 1944 г. – бессменный декан Православного Богословского Института имени преподобного Сергия. Не перечесть всего сделанного изгнанниками, да и нет сейчас в том нужды, ибо и так нельзя усомниться: высылка ученых поистине щедрый дар русскому зарубежью.
К сожалению, однако, щедрые дарители распорядились тем, что не принадлежало им; и широкий дар их остался невосполнимой утратой для отечественной культуры. С высылкой кончилась философия в России; и то, что с тех пор у нас называлось этим именем – в действительности, лишь одна из служб тоталитарной машины. Отдельные представители русской мысли, оставленные на родине – Флоренский, Шпет, Лосев, Бахтин – были уничтожены или преследовались, всю жизнь прожив под свинцовым прессом. О более широких социальных последствиях мы уже говорили. Высылка ученых – нагляднейший образец пресловутой негативной селекции, о которой много размышляют сейчас, пытаясь постичь истоки и механизм сегодняшней угрожающей деградации общества и человека. Отобрав не преступников, не врагов, а мыслителей собственного народа, властители сажают их на корабль – корабль мудрецов, классический сюжет навыворот! – и посылают в чужую землю. А обратно из той земли приплыл чуть позднее другой корабль. 1 августа 1923 г. с парохода «Силезия» в Петрограде высадились «сменившие вехи» – А.В. Бобрищев-Пушкин, И.М. Василевский, немедля выпустивший двухтомник «Романовы» с грязнейшими сплетнями о русских царях, и А.Н. Толстой, в ком писательский дар соединялся с абсолютною гражданской циничностью. Чего всем этим могли достичь? Лишь того, чего и достигли: падения нравственного и духовного уровня общества. Обрыва соборной работы национального самоосмысления. И когда сегодня мы с трудом пробуем вернуться к этой работе, мы сразу видим, как важно нам для нее возвращение на родину пассажиров философского парохода.
Арьергардный бой
1.
Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?
Одно из ценных приобретений нашего времени в том, что многие сказки – правда, из самых страшных – сделались былью, а многие аллегории и метафоры оказались почти буквальностью. Вот и эти стихи: сегодня мы в них почти не слышим никакой поэтической условности, все – обыденная реальность нашего века, и зверства его, и кровь, и даже склеиванье позвонков, после разных великих переломов. Поэтом задан ясный вопрос; а век идет уж к концу, и надобно отвечать. Так что же – кто сумел? кому выпало склеить? Среди немногих имен и судеб, которые можно назвать в ответ, имя Алексея Федоровича Лосева – из самых бесспорных. Да, ему довелось.
Лишь тот может склеить позвонки двух столетий, кто кровно связан с обоими. Об отношениях Лосева с новою эпохой разговор будет дальше. Начинать же, конечно, надо с корней. Личность и творчество Лосева, умственные и нравственные его устои – все это прочно коренится в традициях русской культуры, просвещенной православною верой. Как вспоминал он уже на закате дней, те глубинные интуиции, что потом питали его взгляды и убеждения, его научное творчество, сложились у него еще на школьной скамье. При новочеркасской гимназии, где он учился, был храм, посвященный равноапостольным Кириллу и Мефодию. Эти святые – просветители славянства, создатели славянской письменности, а потому и особые покровители трудов на ниве слова и мысли, покровители филологии и философии. Со временем образы их, вместе с памятью о школьном храме, приобрели для Лосева символическое значение. Ибо вся деятельность его протекала под знаком теснейшего соединения, истинного двуединства этих ветвей культуры, философии и филологии – прежде всего, классической филологии, науки об античности. «В момент окончания мною гимназии в 1911 году я был уже готовый философ и филолог-классик одновременно. Так оно и осталось на всю жизнь» [1]
[Закрыть] .
Соединение классической филологии с философией охватывает, вбирает в себя и целый ряд промежуточных, пограничных дисциплин: античную мифологию и античную эстетику, теорию и морфологию античной культуры, философскую теорию мифа и символа… И с первых же этапов творчества Лосева вся эта обширнейшая область рассматривалась им и реально для него выступала как поле его прямой деятельности. Задачи, которые он ставил и разрешал, затрагивали едва ли не все ее главные разделы и темы. Подобный универсализм творчества, разумеется, всегда поразителен; но стоит заметить, что он отнюдь не был уникальным для той культурной среды и эпохи, которыми Лосев был сформирован. Выше мы обозначили его духовные истоки предельно широко, и уже время уточнить: ближайшим и непосредственным образом миросозерцание Лосева вырастало на почве русской религиозно-философской традиции, идущей от славянофилов и Владимира Соловьева. Прочная связь с этою традицией установилась опять-таки еще в гимназии. С Владимира Соловьева началась для него философия вообще, овладение «азбукой всякого философствования», по его выражению. «В свои семнадцать лет я подробнейшим образом штудировал этого не очень легкого философа», [2]
[Закрыть] – вспоминает он. Любовь к первому учителю, интерес к его мысли и высокое мнение о ней тоже остались на всю жизнь. Уже на склоне лет он называл «везеньем» свое раннее знакомство с философией Соловьева, и последней написанной им книгой стало капитальное сочинение «Владимир Соловьев и его время».
Период философского формирования Лосева совпадает с расцветом той не столь долгой эпохи русской мысли, которую часто называют религиозно-философским Ренессансом. Это было нечто невиданное для России по интенсивности и разнообразию философской жизни. Однако в разнообразии философского спектра, среди всевозможных философских начинаний и направлений отчетливо выделялось главное русло: развитие вышеназванной самобытной традиции, опиравшейся на широкие пласты русской православной духовности, а ближайшим образом – на старших славянофилов и Соловьева. В этом центральном, соловьевском русле российской философии за краткое время выдвинулся целый ряд мыслителей первой величины: упомянем хотя бы Сергея и Евгения Трубецких, Бердяева, Булгакова, Лосского, Флоренского. Здесь, в этом кругу, не был особою редкостью и тот универсализм творчества, широкий размах талантов, который мы отмечали у Лосева. Вячеслав Иванов – поэт, теоретик символизма, философ, исследователь античности. Флоренский – философ и богослов, искусствовед, филолог, физик и математик. Карсавин – историк, философ и богослов… Широта даров и занятий шла уже от самих родоначальников традиции: Хомяков был прославлен ею, Соловьев был не только философом, но и крупным поэтом, ярким публицистом и критиком, мастером литературного стиля. И мы можем сказать, что эта лосевская черта – из числа родовых, характерных для русской мысли. Стоит еще отметить, что в рамках философии русского Ренессанса плодотворно разрабатывалась и античная тема. Получив свое начало у Сергея Трубецкого (а отчасти уже и у Соловьева, с его работой «Жизненная драма Платона»), русские античные штудии в творчестве Вячеслава Иванова и, в особенности, Флоренского успели заметно продвинуться к созданию собственной оригинальной трактовки античности – античного мифа, религии, философии. И если в целом мировоззрение Лосева – в связи, преемственности и родстве с соловьевскою традицией в целом, то с этой «античной» линией в русской философии он связан уже конкретно, в определенных идеях и темах своего творчества. Как сам он впоследствии указывал, «свои первые обобщения из области платоноведения я делал под влиянием воззрений на Платона Вл. Соловьева» [3]
[Закрыть]. Особенно же близко мысль Лосева перекликается с Флоренским, и мы об этом не раз будем говорить ниже,
Уже в свои университетские годы Лосев – активный участник философской жизни Москвы, постоянный посетитель заседаний Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева и Психологического общества при Московском университете. В те годы Москва – пожалуй, больший центр для русской религиозной мысли, нежели Петербург-Петроград, и именно здесь, а не там – главный очаг соловьевской традиции, русской метафизики всеединства: книгоиздательство «Путь» М.К. Морозовой и связанный с ним круг философов. И Лосев еще на студенческой скамье осваивается и обживается в этой традиции, воспринимает ее строй мысли и проблематику. Философская Москва и русская религиозная метафизика конца Серебряного Века – вот отчий дом, ойкос его философской мысли. Но творчество всегда– странствие духа, а не домоседство…
В 1915 году Лосев заканчивает Московский университет, одновременно по отделениям философии и классической филологии, и в 1916 году публикует свою первую работу, «Эрос у Платона». В последующие годы он продолжает деятельное участие в философской жизни, теперь уж-е часто выступая с чтением собственных докладов. Вот темы основных из них, прочитанных уже в послереволюционный период: «Термины „эйдос" и „идея" у Платона», «Вопрос о принципиальном единстве диалогов Платона „Парменид" и „Тимей"», «Учение Аристотеля о трагическом мифе», «Греческая языческая онтология у Платона». О чем говорит этот перечень, каким представляется из него направление лосевской работы? Ответ ясен и однозначен: Лосев занимается историей античной философии, а точней – отдельными специальными вопросами творчества Платона и Аристотеля. Ничто здесь не заставляет думать, что начинающий «философ и филолог-классик одновременно» покушается на какие-либо масштабные, глобальные задачи, будь то в изучении античности или в чисто философской проблематике. А между тем, и в той и в другой области дело уже тогда обстояло именно так. С 1916 по 1927 год никакие работы Лосева не появлялись в печати, однако из «Философии имени», вышедшей в свет в 1927 году, мы узнаем, что уже летом 1923 г. им было закончено это головоломное философское сочинение – «резюме долгих размышлений», закладывающее основу некоего нового философского метода и философского учения. Книга «Античный космос и современная наука», выпущенная тогда же, осуществляет реконструкцию античного космоса через реконструкцию античного логоса, образа мышления, а в предисловии, где стоит дата 14 августа 1925 г., сообщает, что этот капитальный труд – лишь «соединение ряда отрывков» из обширного материала долголетних изысканий. И нам становится ясно, что те доклады Лосева – только верхушка айсберга, малые знаки огромной и напряженной работы, которая шла непрерывно, однако оставалась под спудом, причем не по воле автора, как вскользь дают понять названные книги.
Плоды этой работы наконец появились на свет в течение трех лет, с 1927 по 1930 год, в виде серии монографий:
«Античный космос и современная наука»,
«Философия имени»,
«Диалектика художественной формы»,
«Музыка как предмет логики»,
«Диалектика числа у Плотина»,
«Критика платонизма у Аристотеля»,
«Очерки античного символизма и мифологии»,
«Диалектика мифа».
Знаменитое Восьмикнижие. Философская жизнь России первых десятилетий века небывало богата и достижениями, и событиями; но даже на этом фоне Восьмикнижие – уникальный факт, и уникальный во многих отношениях сразу. Фундаментальный цикл книг демонстрировал несомненное появление нового оригинального мыслителя с собственной проблематикой и собственным философским арсеналом, в сущности – основателя собственного направления. Это появление нового имени сразу с целою серией новых теорий и капитальных работ можно было бы назвать ярким и эффектным; но в обстановке времени оно скорей было странным и вызывающим тревогу за автора. Уже ряд лет, начиная с высылки философов осенью 1922 г., свободные философские исследования в России были пресечены, и на место всей области философского знания насильственно утвержден казенный марксизм, принимавший все более огрубленную и агрессивную форму. Поэтому книги Лосева уже не по существу идей, а по самому роду творчества, как плоды свободного любомудрия вне казенно предписанного русла, не имели почти ничего подобного себе и не имеют до сего дня. То были последние плоды свободной философской мысли в России.
Многообразные задачи, которые ставит перед собою лосевский цикл, можно, обобщая, свести к двум крупнейшим: реконструкция античного мышления и миросозерцания и создание оригинальной системы диалектико-феноменологической философии, имеющей в своей основе новые концепции имени, символа и мифа. Обе глобальные задачи предстают у Лосева внутренне связанными: новое понимание античного космоса и античного мышления достигается на базе новой философской методологии, а выработка новых философских концепций осуществляется в значительной мере на материале античности. При этом, как выясняется, и вышеупомянутые доклады с их конкретной тематикой тоже участвуют в реализации глобальных задач. Такова особенность исследовательского метода Лосева, его искусство детали: разработка общих, принципиальных проблем, как правило, включает в себя и скрупулезнейший анализ каких-то узких, даже технических пунктов, которые на поверку оказываются важными подкреплениями общей концепции. Особенность эта родственна методике «экскурсов», которую широко применяет Флоренский в «Столпе и утверждении Истины». Возможно, она и развилась не без влияния «Столпа», хотя все же, пожалуй, лосевские экскурсы обычно не так далеко уводят от главной нити и теснее с ней связаны…