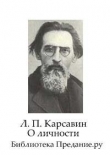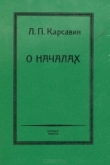Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 20 страниц)
На следующем этапе книга продвигается к постижению мифа уже по «катафатическому» пути. Автор выдвигает и анализирует важнейшую позитивную характеристику мифа: «Миф есть личностная форма» (479). Связь с личностью бегло уже была намечена выше, в эйдетике мифа. Но, чтобы утверждение этой связи давало бы о мифе содержательную информацию, нужно, прежде всего, зафиксировать определенную трактовку личности. Не стремясь тут к исчерпывающей полноте, Лосев лишь выделяет в концепции личности два-три опорных положения. Первое из них сразу указывает нам, на чем базируется сближение личности и мифа: подобно последнему, «личность предполагает самосознание, интеллигенцию» (459). Кроме того – и это уже тоже отмечалось как черта мифа – личность «есть всегда вещественная осуществленность интеллигенции» (460). Эта вещественная сторона интеллигенции есть ее телесность: личность немыслима без тела, причем последнее усиленно утверждается у Лосева как начало выразительное, как «форма актуального проявления духа», а не «тупая материальная масса». Далее, личность, коль скоро она существует во времени, характеризуется временностью; время же, ставшее ареною существования личности, есть история. «Личность… существует в истории. Она живет, борется, порождается, расцветает и умирает» (там же). Это – ее историчность. Будучи «личностной формой», историчность усваивает себе и миф. «Миф… текуч, подвижен; он трактует… о событиях, которые нарождаются, развиваются и умирают» (492). «Миф есть история» (там же), – хотя, разумеется, нельзя утверждать, «что миф есть всегда только одна история, исторический рассказ» (493). Как указывает Лосев, историчность мифа лишь означает, «что мифический предмет принципиально историчен, оценивается с точки зрения истории, историчен в возможности» (там же). Затем следует уточнить, какую же именно «личностную форму» являет собою миф. Наряду с личностью, Лосев вводит особую категорию лика. Лик – это выражение личности, ее «образ, картина, смысловое явление, а не ее субстанция» (484). Необходимое же уточнение таково: «миф не есть сама личность, но – лик ее» (там же). И требуется, наконец, еще одно уточнение – об обратной связи: пусть миф личностен; но значит ли это, что и всякая личность, и личность как таковая – мифичны? Ответ утвердителен, однако с существенным общим замечанием: «нужно иметь в виду, что всякая вещь мифична не в силу своей чистой вещественной качественности, но в силу своей отнесенности в мифическую сферу, в силу мифической оформленности и осмысленности. Поэтому, личность есть миф не потому, что она – личность, но потому, что она осмыслена и оформлена с точки зрения мифического сознания» (461).
Установление связи мифа и личности открывает путь к дальнейшему углублению понимания мифа. У личности есть особая способность: создавать себе среду; определенным образом собою окрашивать, окачествлять окружающее; делать вещи «живыми вещами не физического, но социального и исторического бытия» (464). Вещи, входящие в круг ее деятельности, приобретают ее отпечаток – личностность; а, следовательно, они приобретают и мифичность. Так мы приходим к выводу о том, что в сферу мифа можно, собственно, отнести всю область эмпирической активности человека. Лосев решительно утверждает: «предметы живого человеческого опыта обязательно суть мифы. Все вещи нашего обыденного опыта – мифичны» (там же).
Подобную трактовку мифа автор согласен считать весьма расширительной и сам указывает, что именем мифа тут наделяется нечто отличное «от того, что обычно называют мифом» (там же). Здесь на поверхность выходит ощущавшаяся местами и раньше известная двойственность исходных интуиций, направляющих рассуждения автора. В этих интуициях явно присутствуют зерна двух разных пониманий мифа: «узкого», соответствующего «тому, что обычно называют мифом» (это, кратко говоря, архаическое повествование, выражающее пред-логическую форму сознания) и «широкого», согласно которому миф – всепроникающая стихия, сущая всюду в человеке и вокруг человека; прирожденный человеку и социуму (хотя и не единственный для них) способ видения и толкования себя и мира. При этом сам автор более тяготеет к широкой трактовке. Именно с нею связан его личный, оригинальный взгляд на природу мифа. Ее развитию и подтверждению очень часто служат обсуждавшиеся выше отступления, «взрывчатые гнезда»: немалая часть из них носит характер практических примеров и иллюстраций на тему «миф вокруг нас». Здесь автор вскрывает мифологизм обыденной жизни (отступления о галстуке одного философа, о походке автора, о лечении, об умирании…), политических учений (филиппики о пролетарском мифе), доктрин позитивизма и материализма и многого другого. Подобранные неожиданно и затейливо, написанные свежо, энергично, эти примеры зачастую – маленькие этюды в прозе, которые читатель, можно ручаться, не забудет. И художественная, и занимательная сторона книги необычайно выигрывают от всей этой темы. Однако сторона теоретическая еще вызывает немало вопросов, касающихся обоснования широкой трактовки мифа, ее соотношения с обычной узкой трактовкой, с конкретным мифологическим материалом, и др. К этим вопросам мы обратимся ниже, когда строимая в книге концепция будет, обрисована до конца.
Незатронутых пунктов этой концепции остается уже немного: миф и религия (в частности, миф и догмат), миф и история, миф и чудо. Проблема соотношения мифа и религии в общих чертах решается у Лосева очень просто; миф – более широкая категория; «религия не может быть без мифа… не может не зацвести мифом» (488–489), но миф вполне возможен и вне религии, безотносительно к ней. Это – достаточно общепринятое решение (разве что в современном протестантизме помышляют о демифологизированной религии), которое не связано специфически с широкой трактовкой мифа: конечно, в рамках последней оно особенно очевидно, однако и в узкой трактовке оно сохраняется таким же, ввиду неоспоримого наличия несакральных мифов. Не углубляемая теоретически, тема «миф и религия» становится, однако, почвой для новой серии отступлений, активно отстаивающих мифологический элемент в религии. Тенденция к расширению сферы мифа тут сказывается по-новому: в мифологию православия автор включает попросту весь православный быт и обиход – не только, скажем, колокольный звон, но и строго определенный род освещения в храмах, горючего в лампадах, одежд у женщин… И при малейшем изменении этого обихода он решительно не признает религиозной подлинности и полноценности молитвы ли, службы ли.
Что на это сказать? Роль обряда – тема классическая, и уж давно горы доводов лежат на обеих чашах весов – и за существенность обряда, и за его несущественность. Не мысля их повторять, я ограничусь двумя вещами. Во-первых, надо уточнить позицию автора, коль скоро он сам, выбрав остро полемический стиль, делать этого не намерен. Лосев отстаивает цельность мифа как живого единства и невозможность по произволу изменять его облик. Однако его концепция не предполагает единственности религиозного мифа; просто по избираемой им обычно в отступлениях методологической позиции – внутри определенного мифического сознания – такой вопрос вообще не может ставиться: разные мифы суть разные и несообщающиеся миры. Поэтому на поверку утверждается здесь отнюдь не утрата Богообщения при малейшем отклонении от обряда, а только утрата определенного мифа и выпадение из него в какой-то другой. Такая позиция цельна в себе, и возражать против нее незачем. Однако – это наше во-вторых – Лосев тут же утверждает и еще одно: что миф православный в его подлинности и чистоте дан исключительно Московским Царством XV–XVII вв. (сходясь в этом, как и во многом другом, с Флоренским). И, стало быть, приверженность Православию невозможна без сохранения до последней йоты именно тогдашнего обряда. На эту крайность, я думаю, ответила сама жизнь. Как раз когда все это писалось, неимущие русские эмигранты в Европе служили православную литургию в сараях и гаражах; а уж где и как приводилось молиться и литургисать в России гонимому православному народу – и справедливо ли объявлять неправославными те молитвы и службы! – об этом, без сомнения, Лосев много узнал и думал впоследствии. Едва ли его прежний взгляд мог сохраниться без перемены…
Соотношение мифа и догмата, одна из частных сторон соотношения мифа и религии, описывается тоже достаточно традиционно. Прежде всего, миф – дело дорефлективного сознания, догмат же – рефлектирующего. Поэтому они – следующие друг за другом стадии развития, оформления религиозного опыта: «первые христиане… жили не догматами, но мифами… Догмат… принцип разумного осмысления мифа» (495). Речь тут, понятно, о мифах, лежащих в сфере религии. Другое существенное различие в том, что миф, как мы помним, историчен, но догмат – вне истории, как утверждение определенных истин в качестве абсолютных и вечных.
Однако концепция историчности мифа, о которой мы говорили выше, в заключительной части книги подвергается значительному развитию. Эта историчность не означает, что миф принадлежит эмпирической истории и есть непосредственно некое событие или цепь событий. В своей окончательной форме трактовка историчности мифа определяется у Лосева его оригинальной трактовкой истории. Для категории истории он устанавливает три разных взаимодополняющих понимания, которые соответствуют «трем слоям исторического процесса». Первый слой – «природно-вещественный», сами события и факты. Для типичного историка, стоящего на позициях эмпиризма или позитивизма, история ими и исчерпывается. Для Лосева же это – только сырой материал, еще не имеющий права называться историей. Тут проявляется одна твердая черта не только его философии, но и всего жизнеотношения: действительность, не просвещенная и не проработанная разумом – причем изнутри, собственным ее разумом! иначе говоря, действительность, не вобранная в интеллигенцию, – для него еще не действительность. Этот коренной его постулат вновь повторен им и в том последнем, что он написал в жизни, в «Слове о Кирилле и Мефодии»: «Я слишком часто убеждался, что все так называемые факты всегда случайны и ненадежны», тогда как истинная действительность есть та «реальная общность, без которой нельзя понять и самих фактов» [48]
[Закрыть]. Понятно, что ближайшим образом этот постулат отвечает позициям символизма, как раз и утверждающим наличие «реальных общностей», внутренних смыслов за эмпирическими явлениями. Однако отчасти он и выходит за их рамки, как мы сейчас увидим.
Второй слой исторического процесса составляют, по Лосеву, обобщения фактов – общие структуры исторического, концепции и схемы истории. В этом своем слое «история есть… тот или иной модус сознания» (530). Но тут она как бы рассмотрена и осмыслена извне. Третий же и последний слой – это история как сознающее самое себя. В этом слое «история есть самосознание», «история самосознающих фактов». Здесь она выступает как интеллигенция, как личностная форма и как собственный лик; и, в соответствии с этим, здесь она выражает себя. Способ же собственного выражения истории есть – речь, слово. Такое представление истории, действительно, уже не есть ортодоксальный символизм, ибо самосознание, интеллигенция, личность – не из разряда принятых символистских категорий. И, включая их в свою философию, Лосев вполне сознает, что этим совершается ее сдвиг в сторону от символизма к персонализму (или, если угодно, – важны не названия, а суть – в сторону переосмысления символизма как персонализма). Об этой важной тенденции в его мысли мы еще скажем ниже. С другой стороны, мы явно тут подходим еще к примечательному заключению: в данном слое своего смысла и своего бытия история есть «история», уже в литературном значении термина – словесное повествование, рассказ. Возвращаясь теперь к мифу, замечаем немедленно, что область его общности с историей – это именно третий слой последней. Тут история становится ликом личности, то есть мифом. Миф же предстает не только как история, но и как «история», как рассказ. В итоге, «миф не есть историческое событие как таковое, но всегда есть слово… миф есть в словах данная личностная история» (535).
Мы заметно приблизились к традиционному, каноническому пониманию мифа, рассматривающему последний именно как род «истории». На следующем, уже последнем этапе своего анализа, Лосев и полностью вбирает это понимание к себе. На данном этапе сопоставляются миф и чудо. Характеристики мифа как личности, как истории и как «истории» все оставляли в стороне отмеченную еще в начале анализа мифическую отрешенность. Но это – важнейшая черта, и на данном этапе она наконец займет подобающее ей место – в самом ядре концепции. Ясно, что чудо и есть адекватное понятие для передачи свойства отрешенности. Вместе с тем, изначально оно вовсе не есть философское понятие, а только слово из обыденной речи; его еще нужно философски препарировать, сделать понятием. И эта операция выполняется образцово (вопреки – или благодаря! – тому, что лепка понятия тут вовсе не следует универсальным правилам диалектико-феноменологического метода, и ее итог не выражается типовой формулой эйдетики). Автор анализирует известные точки зрения – и все отвергает: ни одна не рассматривает чудо под нужным ему углом – с позиций мифического сознания, в его собственном восприятии. Соответственно, он формирует новую концепцию, выделяя в исходном массиве сырых представлений о чуде значащие элементы, узлы и постепенно вскрывая за этими представлениями смысловую структуру. Ключевыми элементами можно считать три: в структуре чуда необходимо наличие и соприкосновение, даже совмещение, двух разных планов реальности; оба эти плана должны быть личностными и могут принадлежать бытию одной и той же личности; один из этих планов – эмпирическое бытие личности, другой – ее «идеальное задание или состояние», предносящийся ей ее первообраз – архетип, ее «исконная и первичная светлая предназначенность» (561). Отсюда уже понятна одна из основных формул: «совпадение… эмпирической истории личности с ее идеальным заданием и есть чудо» (555).
Не будем, однако, повторять рассуждений автора. Его ясное изложение, вслед за самим анализом, дает и общую картину философской структуры чуда, и побочные, но глубокие его особенности (как то: момент знамения, манифестации и момент удивления: «слово «чудо» во всех языках указывает именно на этот момент удивления явившемуся и происшедшему» (551», и убедительный пример с исцелениями в святилище Асклепия. Особо же подчеркивается главное: чудо – не какое-то необычайное событие, это – «определенный метод интерпретации исторических событий» (552). Весь этот раздел о чуде – из лучших философских страниц Лосева. Чувствуешь, что тут для автора – личная, ему дорогая тема, и весь опыт – свой, не заемный. Как тесная школьная форма, тут отбрасывается диалектико-феноменологическое конструирование; и мы догадываемся, какою могла бы стать истинная религиозная философия Лосева.
Кабы на цветы да не морозы. Вернемся к мифу. Понятие чуда появилось – и с ним все уже готово для итоговых выводов. Как и следует быть, через категорию отрешенности миф отождествляется с чудом. «Миф есть чудо» (537) – и это не просто очередная его черта, но «окончательная формула, синтетически охватывающая все рассмотренные антиномии и антитезы» (там же). В наглядное подтверждение этого, Лосев в специальном разделе (§ 12) заново обозревает отграничения и отождествления предыдущих разделов, демонстрируя, что все они, действительно, выводимы из окончательной формулы и в свете нее дополнительно детализируются, проясняются и объединяются. Не будем и тут следовать за ним, а только обратим внимание на (беглое, увы) появление весьма важных для мифа понятий магии и имени («Миф есть развернутое магическое имя» (579)). И, кроме того, рассмотрим, как же разрешается в свете окончательной формулы давно нас занимавшая проблема соотношения «широкой» и «узкой» трактовки мифа.
Как нетрудно увидеть, у нас и в этом вопросе появилась теперь новая и более универсальная позиция, синтетически охватывающая прежние. Из данной выше характеристики чуда как «метода интерпретации» уже ясно, что «понятие о чуде есть понятие относительное» (563) и, в частности, «все на свете может быть интерпретировано как самое настоящее чудо» (566). (Хотя, добавим, такое видение достигается нелегко, и оно присуще, по Лосеву, вовсе не примитивному, а очищенному и просветленному сознанию.) Возможна, иными словами, широкая – и предельно широкая! – трактовка чуда; но наряду с нею возможны и разнообразные более узкие трактовки. Все это переносится на миф, и наша проблема решается бесконфликтно. Выражая более развернуто свою «окончательную формулу», Лосев приходит к следующему определению: «Миф есть в словах данная чудесная личностная история» (578). Очевидно полное совпадение этого определения с традиционной узкой трактовкой мифа, и сам Лосев его называет «банальным и общепризнанным». Но, разумеется, лишь на поверхности оно таково, внутри же в нем – вся суть оригинальной лосевской концепции мифа. И, в частности, – широкая трактовка последнего, для которой и всякий человек, и всякая вещь в кругу его опыта, и целый мир – мифы. При всем том, видимая легкость решения проблемы не должна от нас заслонять другое. Различные трактовки мифа – это не разные только теоретические, умозрительные варианты. Отнюдь нет, но каждой из них отвечает особый способ видения, более того, способ жизни, и принять ее – значит себя поместить в особый мир, цельный и замкнутый в себе, с другим типом личности и истории. Конечно, разные такие миры исключают друг друга. И вполне в духе лосевского диалектического мышления, мы заключаем, что разные трактовки мифа и совместимы, и несовместимы между собою. Перед нами своего рода теория множественных миров.
6.
О чем еще нам остается сказать? В первую очередь – о побочной линии книги. Образующие ее авторские отступления отнюдь не посторонние главной теме, однако они уже не носят теоретического характера, а скорей являются иллюстрациями разных сторон мифа и мифического сознания. Тут рассматривается целый ряд предметов. И, поскольку вся эта линия – сплошь вызов, полемика, то эти предметы в подавляющем большинстве разделяются у автора на защищаемые и атакуемые, белые и черные. Нейтральных мало. В своей главной части цепочка отступлений распадается на две цепочки, одна из которых рисует и славословит некоторый светлый миф, другая рисует и обличает некоторый темный миф. Оба эти мифа вполне конкретны и историчны: светлый миф – Православие и, в особенности, православное подвижничество, темный миф – новоевропейское мировоззрение, господствующее, начиная с Возрождения, и включающее, по Лосеву, следующие главные элементы: ньютонианскую картину физического мира, атеизм и материализм. Нет смысла пересказывать ярчайшие страницы книги с их яростною анафемой «вырожденскому нигилизму» и умиленной осанной подвигу, девству и посту. Однако небольшие пояснения все же небесполезны. Во-первых, отчего именно таков у Лосева негатив, темный миф? – Дело не только в религиозном протесте, тут и позиция философа. Рационализм Просвещения – антисимволизм, антипод мифического и символического сознания, категорически объявлявший его темным, отсталым, обскурантским. Тут символист Лосев просто платит взаимностью. И притом, в своем антивозрожденстве и антипросвещенстве он нисколько не одинок и в русской, и в европейской мысли. Совершенно напротив. Отвержение просвещенства (рационализма, теории прогресса, буржуазного мещанства…) и апология Средних веков – господствующее настроение, магистральное русло не только в философии, но и во всей культуре Европы после первой мировой войны, наметившееся еще и до нее. Трудно найти, в частности, у кого из русских философов не выражались бы подобные идеи, начиная не только с Леонтьева и Розанова, но даже с Герцена, Так что Лосев здесь – в общем русле европейской культуры, тогда как казенный диамат шел, наоборот, вспять ему и был, следовательно, в прямом смысле реакционным учением. Этот противоход победившей советской идеологии и творческой европейской мысли с четкостью выразил Бердяев: «Идеи, которые потерпели поражение в творческой мысли, в то же самое время побеждали – и победили – в массовом движении» [49]
[Закрыть].
Только здесь надо несколько уточнить. Пришедшее к господству в России марксистское мировоззрение Лосев не отождествляет с «вырожденским» новоевропейским мифом. Конечно, он его тоже полагает мифическим, расценивает его как миф – согласно своему коренному постулату о том, что определенный миф, мифический слой лежит в основе каждого и любого мировоззрения, каждой картины мира. Но этот коммунистический (пролетарский, классовый) миф должен отличаться от темного мифа Нового времени уже, скажем, потому, что тот прочно связан с принципами и ценностями буржуазного общества. И то, что он, этот пролетарский миф, усваивает себе едва ли не все лозунги темного мифа, автор относит за счет его непоследовательности. В этом молодом еще мифе он видит как бы некую отроческую незрелость и первобытную, невинность – и иногда доходчиво разъясняет ему его самого, демонстрируя ультрамифологический характер классовой и революционной фразеологии или, к примеру, указывая, что искоренение эксплуатации требует и искоренения искусства, а принятие атеизма – прямой подрыв пролетарской идеологии, ибо означает согласие с буржуазией в важнейшем пункте мировоззрения… Так что решительно можем понять товарищей Кагановича и Киршона! Далее. Отвергая мировоззрение Нового времени, автор с самой ядовитой издевкой отбрасывает и установленные им капитальные научные факты, как то: вращение Земли, волновую природу света, и прочее. Следует понимать, что, делая это, он не просто издевается над читателем (напомним – врагом!), но и совершенно корректно развивает избранную в книге методологическую позицию. Мы уже говорили о ней. Согласно этой позиции, ясно заявленной уже в Предисловии, автор себя помещает внутрь мифического сознания, на его точку зрения. И авторское Я, которое в философии всегда – определенное методологическое Я, в данном случае есть «Я мифическое». (По замыслу книги, оно в ней– основное, но не единственное. Лосев выделяет 4 базисные методологические позиции, или же уровня осмысления: миф, догмат, догматическое богословие, религиозная философия; и когда он покидает первую из них, его изложение вполне объективно и аналитично.) Однако миф – конкретен, и настоящее Я мифическое не вообще мифично, а всегда отвечает какому-то определенному мифу. Происхождение мифического Я, обличающего новоевропейскую бездуховность на страницах «Диалектики мифа», не вызывает и тени сомнения. Устами автора о темном мифе говорит – светлый миф. Это и есть арьергардный бой Алексея Лосева, его одинокая героическая контратака в пору, когда всюду вокруг него светлый миф был яростно преследуем темным мифом. И собственный его миф обретает определенность, опознаваясь как часть жизни светлого мифа Православия.
Что же еще? Только одно, пожалуй: как делают в эпилоге романа, скажем несколько слов о дальнейшей судьбе наших героев. Мифологические исследования со времен «Диалектики мифа» пережили бурную историю. Их опытная база неизмеримо расширилась, вобрав целые массивы нового фактического материала, относящегося и к древним, и, в особенности, к современным мифоносным этносам. Развиты принципиально новые методы анализа этого материала, установлены теснейшие связи со многими дисциплинами, которые прежде либо не связывались с мифом, либо вообще не существовали: лингвистикой, этнологией, семиотикой, теорией информации, социо-биологией. Но надо сразу сказать: «Диалектика мифа» имеет очень немного общего со всем этим развитием. Напомним и подчеркнем: эта книга избрала для себя один очень определенный ракурс мифологической проблематики: философский анализ понятия мифа. Характеризуя миф с помощью таких категорий как чудо, личность, история, определяя его положение в сфере религиозного сознания, этот анализ, конечно, не является отвлеченным метафизическим конструированием. И все-таки это еще слишком общо, чтобы всерьез соприкоснуться с сегодняшней теорией мифа: к примеру, тут даже не ставятся такие исходные для нее вопросы, как граница между мифом и эпосом, мифом и сказкой, мифом и поверьем.
Есть и другое обстоятельство, даже более важное. В течение последних десятилетий главное русло теоретического исследования мифа – структурный метод, за которым стоит и структурализм как общий взгляд и подход, как философское направление. И нисколько нельзя сомневаться в том, что это направление глубоко чуждо автору «Диалектики мифа». Оно прочно принадлежит новоевропейскому типу мировоззрения и во многих отношениях представляет собой не менее крайнюю и «нигилистичную» форму этого «темного мифа» Лосева, нежели неопозитивизм. Поэтому известные лосевские оценки последнего наверняка в немалой мере выражают и его отношение к структурализму: «аннулирование всех традиционных философских проблем… жонглирование формулами, враждебными всякой онтологии… философское самоубийство» [50]
[Закрыть]. Собственный подход Лосева принципиально отличен от структуралистского. В своем генезисе и общих чертах, этот подход – продолжение доброй старой шеллингианской линии, которая возводила концепцию мифа, как и вообще все философские концепции, к онтологии, онтологию же строила на фундаменте классического греко-германского идеализма. После Лосева и Кассирера эта линия, по существу, иссякла, оставив разве что косвенные отголоски в символических, прежде всего, юнгианских концепциях мифа. Однако едва ли это доказывает, что весь подход полностью себя исчерпал и не имеет никаких перспектив хотя бы частичного возрождения. В настоящий период уже утрачивает свое господство, проходит критическую переоценку и структурализм; и то, что формируется ему на смену, весьма возможно, отразит в себе и потребность в духовном углублении теоретического мышления, в «реальных общностях»; а отсюда, также возможно, воспримет и хотя бы некоторые элементы онтологического понимания мифа.
Существует, однако, одна тема в «Диалектике мифа», которая оказалась крайне созвучной современным представлениям, предвосхищающей их. О ней мы тоже уж говорили: это, конечно, тема о «мифах вокруг нас», мифах в обыденной жизни и в массовом сознании. У Лосева она разработана в обширной серии экскурсов самого разнообразного содержания: в экскурсах раскрывается мифология (мифологичность) костюма (400; 489), поведенческих стереотипов (жестов, манер, походки… – ср. напр., 465–466), пола (462–463), брака и девства (463–464; 478–479), деталей религиозного обряда (440; 452–453; 489), идеологических штампов (488), цветовых и звуковых восприятий (432–437; 456) и еще многого другого. Тут охватываются практически все аспекты и сферы человеческого существования. Сегодня подобная тематика имеет широкую популярность; уже давно мифы массового сознания стали модною темою для самого этого сознания. Что же касается теоретического осмысления, то его главным руслом, также уже давно, утвердилось русло семиотики. И в лосевских экскурсах без всякой натяжки можно увидеть немало общего с этим руслом. По сути, под «мифологией» он понимает здесь именно семиотику, и «мифологичность» разбираемых явлений означает их семиотическую нагруженность, означенность. Склонность же и способность автора «Диалектики мифа» обнаруживать везде и всюду «хотя бы слабые задатки мифологического отношения к вещи» (400) явно представляет собою зерно, основу семиотического подхода к реальности. С этой точки зрения, серию экскурсов о «мифах вокруг нас» можно было бы сопоставить со знаменитою серией этюдов Ролана Барта «Мифологии» (1957). Это – ранний этап семиотики: как и в «Диалектике мифа», здесь нет еще специальных семиотических понятий, элементы реальности, опознаваемые как знаки, не классифицируются и не сводятся в знаковые системы и главный акцент остается на самом открытии их знаковой природы, которую Барт, как и Лосев, еще именует «мифологичностью». Есть тут и родственность тем; скажем, Барт анатомирует буржуазный миф, Лосев – пролетарский, и оба автора проделывают вскрытие «классового мифа» с тою же установкой скептического развенчания, снятия покровов. Анализ Барта тщательней и многосторонней, однако ж он и проделан на четверть века поздней. И еще небольшая разница – не под топором ГПУ…
Однако близость Лосева к семиотике не следует и преувеличивать, памятуя то, что мы недавно сказали об его отношении к структурализму. В своих поздних работах по лингвистике он не раз касался семиотического подхода – и неизменно утверждал некоторую дистанцию, проводил грань между ним и собственными позициями [51]
[Закрыть]. Довольно сходным образом соотносится лосевская «мифология повседневности» и с другим широко признанным подходом, что развит был Юнгом и его школой. Здесь также присутствуют немалые черты общности. В юнгианском подходе также утверждается вездесущие символа и мифа и, пожалуй, здесь могли бы даже принять, пусть с оговорками, кардинальное лосевское положение: миф – не принадлежность некоего раннего этапа или примитивного уровня сознания, но непременный неточный слой любого миросозерцания и в любую эпоху. Однако за этими сближениями стоит коренное различие философских и, сказать шире, духовных основ. Подход Юнга психологичен, Лосева – последовательно онтологичен. Изобилующие и у юнгианцев, и в «Диалектике мифа» примеры мифологизмов повседневности иногда сходны между собой (скажем, при обсуждении мифологизмов в идеологии и политике), однако в их интерпретации – ничего общего. Лосев утверждает именно не привносимую человеческой психикой, но внутреннюю, имманентную мифичность человеческого опыта, начинающуюся с мифичности самих первоэлементов этого опыта, восприятий цветов и звуков. Он утверждает мифичность самой ситуации человека.
Смысл этой лосевской позиции и одновременно ее глубокую индивидуальность мы лучше сможем понять, если попробуем уловить внутренние тенденции «Диалектики мифа» и разглядеть, во что стремились вырасти, претвориться развиваемые тут взгляды. Материала для подобных догадок немного в книге, но он есть. В заключительном разделе автор представляет проект некоторого философского учения, названного им «абсолютной мифологией». На первый взгляд, проект очень легко принять за очередное проявление уже нами критиковавшейся черты: тяги к созданию Супер-метода и Пан-философии путем «диалектического синтеза» разнообразных принципов и учений. Отчасти это и так, но надо пристальнее взглянуть, к какому же типу должно принадлежать намечаемое учение. Нам откроется весьма интересное. Прежде всего, в соответствии с методом и проблематикой книги, абсолютная мифология мыслится как диалектическое учение о мифе, опыт диалектической мифологии. Но в то же время, во всех своих основаниях, идеях и темах, это должна быть система религиозной философии: среди ее центральных тем, обозначенных автором, диалектическая дедукция существования Бога, вера и пророчество, Рай и Ад… Более того, абсолютная мифология связывает себя не только с общими темами и постулатами религиозной мысли, но и прямо с христианской догматикой: она отвергает пантеизм, говорит о Боговоплощении, о бессмертии души и утверждает необходимость Церкви. («Абсолютная мифология… всегда есть религия в смысле церкви» (590)). Но и еще более. В числе положений абсолютной мифологии мы видим и такие, которые уже связаны специально с православием. Это – усматриваемая здесь «диалектическая необходимость иконы» (597), а также, что очень важно, глубинное ядро всей православной духовности, утверждаемый в исихазме и паламизме православный энергетизм – концепция назначения человека как «благодатного энергийного обожения» (там же), соединения с божественными, энергиями. Итак, намечаемое в финале «Диалектики мифа» учение есть церковная и православная философия, ставящая в центре своих заданий – осмысление истин веры.