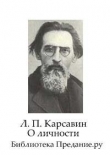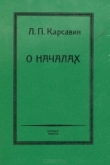Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
Само собой разумеется – и мы нимало в том не выражаем сомнений – что при нормальном развитии лосевской философии любая желательная степень конкретности вполне могла бы в ней быть достигнута. Но вот что важно учесть: совсем не исключено – а, наоборот, крайне вероятно – что в этом продвижении к конкретному претерпел бы изменения и сам метод; быть может, и существенные изменения. Известная эволюция метода улавливается уже и в самом Восьмикнижии. Половина из его книг – «Античный космос и современная наука», «Философия имени», «Диалектика художественной формы» и «Музыка как предмет логики» – выпущена в 1927 г. и, стало быть, написана ранее, отчасти и значительно ранее. И именно в них настойчиво отстаивается и жестко, догматично проводится диалектико-феноменологический метод, господствует неудержимое конструирование. В последующих же книгах этот пафос конструирования, строго подчиненного одной жесткой схеме, заметно идет на убыль. Зато не менее заметно усиливается дескриптивный элемент, внимательнее, богаче делается наблюдение предмета. Обнаруживается некая дополнительность, обратная пропорциональность: чем больше в лосевском тексте действительной «телесности», живой плоти предмета – тем меньше кубиков из диалектического «Конструктора», «подвижных покоев» и «алогичных становлений». Последние книги цикла посвящены преимущественно античности; и, задаваясь там целью восстановить до глубины и со всей подробностью структуры платоновской и неоплатонической мысли, автор, очевидно, убеждается, что одним догматическим следованием методике конструирования не достичь этой цели. В «Очерках античного символизма и мифологии» – капитальном сочинении, резюмирующем философские позиции Лосева и сводящем воедино его основные исследования платонизма, методологические установки становятся откровенно синтетичны, сборны. К диалектике и феноменологии тут еще добавляется, как выше говорилось, трансцендентализм неокантианской школы, и к анализу платоновых диалогов прилагаются все три метода. Но можно заметить, что сборный характер, недостаток внутреннего единства присущ уже и самой методике диалектико-феноменологического конструирования, описанной выше, и по форме, надо признать, весьма стройной. Вглядевшись, легко увидеть, что две составляющие этой методики все же не удается привести к полной слаженности, и Гегель с Гуссерлем фатально мешают друг другу. (Чему никак не удивляешься, памятуя, что феноменологическая концепция именно и создавалась в отталкивании от абсолютизированной диалектики, дабы утвердить смысл-эйдос как принципиально неразложимое, не подлежащее никакому выведению.) Метод, разумеется, не проводит до конца установок феноменологии, ибо открыто отбрасывает важнейшую их часть, установку чистой дескриптивности, и вводит то, что с позиций феноменологии является заведомым натурализмом, метафизическим примысливанием. Но он не проводит до конца и установок диалектики. Мы видели, что диалектический процесс принимает за исходную данность пять первокатегорий; однако с позиций последовательной диалектики каждая из них, в свою очередь, требует диалектической проработки – каковая неминуемо приведет к чистой логике Гегеля без всякой примеси Гуссерля. Что такое, в самом деле, у Лосева «движение» или «покой»? Они вводятся волевым актом: в канонической двоице сущее (одно) и иное сущему приписывается «покой» (хотя чем хуже – связать с покоем не-сущее, небытие, которое ведь и называют «вечным покоем»?); тогда иному, натурально, следует приписать «движение» [27]
[Закрыть]. Дальше уже работает диалектическая машина, которая известным порядком произведет «подвижный покой» и другие продукты; однако сами покой и движение – а, стало быть, и все восходящие к ним элементы конструируемых эйдосов! – остались, по сути, вещами неопределенными и непонятными. И отчего брать за исходное именно пять неопределенных вещей? не ясно ли, что с тем же успехом – и с тою же мерою обоснованности – можно бы их взять семь? или семнадцать? Так желаемое сложение методов оборачивается их вычитанием. Как и во многом другом, здесь обнаруживает себя мощный собирательный, интегрирующий импульс в творчестве Лосева: в любой теме его влечет собрать все сущие подходы и методы и, выявив односторонность каждого, затем свести их во всеохватный единый Супер-метод. Понятно, что синкретическое соединение разнородного – тут самая реальнейшая опасность.
Сходные мысли приходят и еще с одной стороны. Эта пятирица категорий заставляет заметить еще некую черту лосевского метода, которая может казаться мелочью, но тоже кое-что проясняет в характере его философского стиля. Взглянем на «арифметику» лосевских текстов: просто на то, какие цифры, числа у него возникают в его работе с понятиями. Согласимся, что онтология у редких философов приводит к конструкциям, основанным более чем на троице, триаде. Но в диалектической феноменологии – совсем другое: помимо «5 основных эйдосов», мы тут видим 6 логосов [28]
[Закрыть], 7 способов конструирования сущности [29]
[Закрыть], 8 антиномий художественной формы… тетрактиды начал… 14 основоположений античного космоса… и т. д. и т. п. Это какая-то явная арифметическая разгоряченность, неудержимая тяга к размножению схем, перечней, конструкций. И это – известная характерная черта определенного типа мышления и философствования. Как и тенденция к соединению разнородных начал, это указывает на синкретизм, эклектизм; а, проявляясь в онтологии и натурфилософии, это – в широком смысле гносис.
Обозревая все подмеченные черты, можем уже достичь и некоего резюме относительно лосевского метода. Прежде всего, уже стало ясно, что два слагаемых этого диалектико-феноменологического метода весьма неравноправны во всем: и по занимаемому ими месту, и по степени их принятия, и даже по личному отношению к ним автора. Последнее особенно наглядно: Лосев пишет ярко, с эмоцией, и множество раз, в разных книгах он с энтузиазмом воздает хвалу диалектике. Нигде мы не встретим у него ни сомнений, ни возражений, показывающих, что хоть что-нибудь в диалектике им не приемлется или подвергается ревизии. Его позиция – истинный пандиалектизм, ничуть не менее радикальный, чем у Гегеля [30]
[Закрыть]. Напротив, феноменология – в явных падчерицах: редко когда он упомянет ее без оговорок и отмежеваний, а однажды, например, скажет и так: «К Гуссерлю я никогда не был близок» [31]
[Закрыть]. Мы уже приводили его слова из «Философии имени»: «Я приемлю… всю феноменологию»; но очень стоит добавить к ним, что в свою-то философию Лосев переносит никак не всю феноменологию, и даже не какое-то главное, существенное ее ядро, а только немногочисленные частности, из коих является по-настоящему важной всего одна [32]
[Закрыть]: концепция философского предмета как смысла-эйдоса, смысловой картины.
Нетрудно разобраться, почему и чем привлек Лосева именно этот элемент феноменологии. Прежде всего – своим античным происхождением, платоническими корнями. Он и сам отмечает в «Очерках», что концепция эйдрса у Гуссерля дала новую пищу, новый плодотворный поворот его занятиям платонизмом и, в частности, тому капитальному исследованию учения об идеях, которое составляет основу этой книги. Но, помимо прочего, данная концепция играет в системе Лосева и еще одну роль, уже едва ли желанную: входя во взаимодействие с диалектикой, она изменяет ее характер. Дело в том, что категорию смысла, а, в частности, и понятие смысла-эйдоса, едва ли можно считать естественной, органичной в качестве центральной категории строго диалектического учения. Это не гегелевская категория. Лежащие в основе гегелевской диалектики понятие, идея, тем паче Абсолютная Идея суть нечто единое и единственное, и на их базе возникает строго монистическое философское построение, в котором – не множественность конструкций, но одна всеохватная, всёвбирающая Пан-конструкция. Напротив, с категорией смысла ассоциируется аспект множественности, плюралистичности: смысл множествен по своей природе, у каждого феномена – свой. Соответственно, мир смыслов плюралистичен, дробен. И если мы, сохраняя диалектический метод, в то же время вводим концепцию смысла-эйдоса и мыслим диалектическое порождение категорий как конструирование эйдосов, то первое, что утратит диалектика при подобной модификации, это именно – свой выдержанный монизм. И сразу сделаются возможны то размножение конструкций и схем, та арифметическая неумеренность, о которых мы говорили. Так что видим следующее: малая толика феноменологии, включаемая в метод Лосева, работает там как орудие измельчения, раздробления диалектики. Соединяясь с эйдетикою, диалектика теряет сдерживающие скрепы гегелева монизма и превращается в некую безбрежность, неограниченно разбухающую систематику, безудержный поток саморазмножающихся схем. Ярче всего эти черты обнаруживают себя в «Диалектике художественной формы».
Во всем этом, надо сказать, отразились также тенденции и объективные трудности философии символизма как таковой. Основательной, непротиворечивой чисто символистской онтологии до сего времени не существует – но существуют, напротив, стойкие сомнения в самой ее возможности, в возможности построить все учение о бытии на символическом принципе неразличимого тождества и совершенной взаимовоображенности идеального и реального. Шеллинг не притязал на такую онтологию, как не притязал на нее и Кассирер, связывавший задачи своей философии символических форм с гносеологией и, главным образом, с философией культуры. Однако русские мыслители радикальней немцев: и Флоренский, и Лосев определенно утверждают свои символистские учения как, в том числе, и опыты онтологии [33]
[Закрыть]. (В случае Лосева это ясно уже из его пандиалектизма, который естественно наследует от Гегеля отождествление диалектики с онтологией.) Бросая сей философский вызов, они, разумеется, были готовы отстаивать свои воззрения перед читателями-философами – но вместо таковых, как бывает в России, этими воззрениями занялись лишь карательные органы. Настоящего пониманья и отклика, настоящего разговора они оба не дождались при жизни – ни о. Павел, расстрелянный в 1937 году, ни Лосев, хотя ему и отпущен был долгий век. Сейчас появляются в печати большие записи его философских бесед – но странное впечатление они оставляют! Непонятные собеседники – прозаик порнографического направления… комсомольский работник… при всем почтении к сим славным разрядам граждан все-таки спросишь: им ли понять русского мыслителя, что весь свой долгий и тяжкий путь прошел христианином и аскетом? И не удивляешься, видя, как часто эти беседы напоминают общенье Миклухи-Маклая с папуасами, и только с трудом различаешь в них классические лосевские темы в переложении для там-тама. Длится советский морок, не отпускает.
А я за ними ахаю, стуча
В какой-то мерзлый деревянный короб:
Читателя! Советчика! Врача!
На лестнице колючей – разговора 6!
4.
Время переходить ко второй нашей главной теме, концепции мифа. Разговор о лосевской «Диалектике мифа» следует начинать не с теоретических предметов. Ибо эта книга – не просто факт философской мысли, она – событие. Истинная история советской России еще не написана; но, когда она будет создана, то по справедливости упомянет, что в 1930 году, в пору уже полной победы сталинщины, созревшего и крепчающего духовного террора, давно уж изгнанной и запрещенной свободной мысли, – появилась вдруг книга, которая не только трактовала важные философские проблемы не с казенных позиций, но бесстрашно и едко обличала мыслительное убожество этих позиций, нелепости воцарявшегося советского мифа. Отклик последовал скорый и на высшем уровне. На XVI съезде ВКП(б) летом 1930 г., в докладе Л.М. Кагановича и в выступлении драматурга В.М. Киршона книга и ее автор поливаются угрожающей бранью, причем Киршон, как представитель искусства, блеснул также и афоризмом, получившим широкую известность: «за такие оттенки ставить к стенке» (возмущаясь чьим-то суждением, что книга Лосева «выражает оттенки философской мысли»). Немедленно после этого Лосев был арестован. Более года его держали под следствием во внутренней тюрьме на Лубянке, потом, после вынесения приговора к десятилетнему заключению, он был переведен в Бутырскую тюрьму и наконец отправлен в лагерь на строительство Беломорско-Балтийского канала. Очень скоро организм Лосева не смог выдержать каторжных работ на лесоповале и сплаве леса, и начались тяжелые расстройства здоровья: ревматизм, цинга, дистрофия, кровоизлияние в зрительный нерв. Последнее оказалось роковым: через несколько лет оно привело к полной потере зрения. В лагере же его были вынуждены перевести на положение инвалида.
Между тем на воле он не был забыт. Травля его продолжалась, но шли также и хлопоты о его освобождении. И вот гримасы русского лихолетья! На новом этапе главный вклад в травлю Лосева внес Максим Горький, который опубликовал в «Правде» отменно мерзкую, образцово людоедскую статью, где искренне сожалел, что гниленький человечишко Лосев запоздал умереть и до сих пор еще заражает наш советский воздух. А главный вклад в дело освобождения Лосева внесла первая жена Горького, Е.П. Пешкова. Хлопоты руководимого ею Политического Красного Креста, как ни странно, увенчались успехом, и летом 1933 г. Лосев вернулся из заключения в Москву.
Его возвращение не было, однако, возвратом к прошлому. Прошлое с его свободным – вопреки всему! – философским творчеством не вернулось для него уже никогда. Развитие своей самостоятельной философии было им навсегда оставлено. Лосев остался специалистом по античности: из двух задач его творчества главная и объединяющая была отсечена. Больше того, когда в позднейших трудах ему все же приходилось затрагивать принципиальные философские вопросы, – решения этих вопросов аккуратно выписывались им по прописям официального советского марксизма. «Диалектика мифа», в духе эпохи, оказалась книгой великого перелома в жизни своего автора.
Переходя к непосредственному обсуждению этой особой книг»; мы прежде всего отметим в ней одну черту, которая прямо связана с разыгравшимися событиями. «Диалектика мифа» – не обычная научная монография. Она наделена специальною двойной композицией, двойным движением. С одной стороны, у нее есть четкая задача и тема – построить концепцию мифа, именно концепцию, а не целую теорию: речь идет лишь о том, чтобы выявить содержание и сформировать философскую дефиницию мифа, но не пытаться, скажем, развить классификацию мифов или проанализировать их строение; рассматривать же, как живет и работает миф в сознании и в обществ, предполагается лишь эпизодически, для иллюстраций. И тема решается самым последовательным образом: каждый раздел книги привносит очередной пункт в искомую дефиницию, в сводную философскую формулу мифа. Однако, наряду с этим образцово научным построением в книге идет и другая линия, а сказать вернее, пунктир, цепь вставок и отступлений совсем иного рода и содержания. В своей совокупности обе линии создают в точности ту композицию, которая замышлялась героем Пастернака: «Он мечтал о книге… куда бы он, в виде скрытых взрывчатых гнезд, мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать» [34]
[Закрыть]. Взрывчатые гнезда! Это наилучшая характеристика того, что представляют собой лосевские отступления в «Диалектике мифа». В них он отводит душу, говоря напрямик обо всем, что его волнует как «философа, строящего философию не абстрактных форм, а жизненных явлений бытия» [35]
[Закрыть], – то есть, в первую очередь, о своем времени и об окружающей действительности. Он обличает то, что ему чуждо и дико, защищает, что ему дорого, на чем он стоит. А так как самое дикое для него – догмы официального атеизма и коммунизма, а самое дорогое – православная вера и подвижничество, то, в пересчете на 1930 год, взрывчатой силы этих гнезд более чем хватало, чтобы разрушить судьбу философа.
Вместе с тем, само присутствие в философской книге разных тем и мотивов неакадемического свойства, выражающих личные убеждения, душевные переживания автора, совершенно традиционно для русской мысли. Философия Серебряного Века вырастала «в тени», под влиянием русской литературы, наследуя ее экзистенциальный, исповеднический характер, учась от нее художественному чутью, высокой культуре стиля и слога. «Столп и утверждение Истины» Флоренского, «Свет Невечерний» Булгакова, уже не говоря о книгах Розанова или Шестова, это, помимо всего, еще и хорошая литература; и это также личные документы, где читателю, не скрываясь, предстает сама личность автора. И Лосев – прямой продолжатель этой линии, он тоже отличный стилист и тоже не мыслит себе того, чтобы на западный манер стеной отделять философию от жизни. Но как преобразило привычную черту время! Раньше эмоциональный, экзистенциальный элемент привычно выражался в доверительности, в теплоте тона, в возникающем у автора образе друга-читателя, читателя-единомышленника… Но атмосфера лосевских книг – полнейшая противоположность, в ней поражает прежде всего – сгущение и напор отрицательных эмоций. Автор кипит, задыхается, он запальчив и агрессивен, и читатель явно рисуется ему не в образе друга, а в образе врага. Все его «взрывчатые гнезда» – это взрывы негодования, язвительности, безадресных яростных упреков в тупости и недомыслии… Сталкиваясь с подобным, сначала, конечно, спросишь: а надо ли винить время? Дело, может быть, в самом авторе, в его душевной стихии? Однако на этот вопрос Лосев недвусмысленно ответил сам: «В условиях нормальной общественности… не могло бы быть этого, часто нервного и резкого полемического тона, который я допускал» [36]
[Закрыть]. В том, стало быть, и корень взрывов и агрессивности, что кругом – ни намека на «нормальную общественность», на такую фигуру как старинный «читатель-друг». Кругом – невежество и враждебность. И автор ополчается на них как боец.
Написав последнее слово, вдруг понимаешь, что в нем – вся суть ситуации. Разрыв, расхождение с окружающим, ощутимые в позиции автора, нисколько не меньше, не менее остры, чем, скажем, у Кафки; но автор, в противоположность Кафке, себя утверждает не отщепенцем, не жертвой, а – бойцом в окружении. Вне этого стратегического или, что то же, историко-культурного плана не понять феномена Лосева. Его деятельность для него – арьергардный бой русской христианской культуры. Она ушла, отступила, но он волей судьбы остался, и он не складывает оружия. Арьергардный боец – вот образ автора в «Диалектике мифа». И это же – образ для фигуры Лосева вообще. До великого перелома. Образ для следующего периода тогда напрашивается уже сам: пленный боец. «Миф Лосева» начал вырисовываться.
Содержание побочной или «взрывной» линии в «Диалектике мифа» мы рассмотрим поздней; первым же долгом надлежит заняться главною или «научной» линией (впрочем, как выяснится, обе линии достаточно взаимосвязаны, и «взрывчатые гнезда» – вовсе не чужеродные вставки, безотносительные к основной теме). Итак, как же здесь проводится анализ мифа? В свете наших первых разделов следовало бы ожидать, что он проводится по методу диалектико-феноменологического конструирования. Однако это не так. В рамках этого метода миф Лосевым уже рассматривался раньше не раз (в «Философии имени», «Диалектике художественной формы», а особенно в «Очерках античного символизма»), и подобное рассмотрение не требует целой книги. Миф тут – одна из категорий общей эйдетики, обозначающая определенный момент или стадию диалектического конструирования эйдоса, пути его (само) созидания и (само) воплощения. Особенность этой стадии в том, что она – последняя, завершающая: предел воплощенности эйдоса. «Миф есть необходимое завершение диалектики» [37]
[Закрыть] . Исходя отсюда, нетрудно понять типовые диалектико-феноменологические формулы мифа. В этих формулах обычно участвует еще одна лосевская категория – интеллигенция или (само)сознание. Она определяется так: «сознание, интеллигенция есть соотнесенность смысла с самим собой» [38]
[Закрыть] и возводится Лосевым, в ближайшей степени, к Фихте [39]
[Закрыть]. Связь же ее с мифом утверждается у Лосева из того соображения, что завершение и предел воплощенности, выраженности, выражения есть вошющенность в живом и наделенном сознанием (интеллигенцией). После этого пояснения приведем одну-две типичные формулы: «Миф… это – эйдос данный как интеллигенция» [40]
[Закрыть]; или наоборот: «Миф есть… интеллигенция как эйдос» [41]
[Закрыть]; или несколько подробней: «Миф есть эйдос, интеллигентно соотнесенный с самим собою и осуществленный в виде вещи. Другими словами, это – вещественно данная эйдетическая интеллигенции, личное и живое существо или просто живое» [42]
[Закрыть] .
Итак, специфика мифа в том, что он – предельная воплощен-ность и выраженность, что он «осуществлен в виде вещи» и тем самым «есть непосредственно ощущаемая действительность» [43]
[Закрыть]. Он «уже не есть эйдос, он – и бытие» [44]
[Закрыть]. Однако все формулы, которые производит диалектико-феноменологическое конструирование, это принципиально «умные» формулы, рисующие смысловую картину той или иной сущности, в данном случае – сущности мифа; они – в рамках эйдетики, и раскрывается в них именно эйдетика мифа, только она. Но раз миф – не только эйдос, но и бытие, а точней – чувственная и эмпирическая реальность (лосевская формула не совсем аккуратна, нельзя противопоставлять эйдос бытию), то исследовать миф – это не только, и даже не столько описать эйдос мифа среди других эйдосов, но также и описать собственно сам миф как «вещь» среди других вещей. Этого уже не может сделать эйдетика; все «умные» формулы еще не дают возможности опознать, идентифицировать миф в здешней реальности, выделить и очертить в ней область мифа среди других явлений и областей. Они не вооружают средствами различить в окружающем: вот это – миф, а это – не миф: ведь даже когда они говорят «миф есть живое» или «миф есть личность» – все это об эйдосах, на уровне эйдосов; а как миф, который тут, связан с личностью, которая тут, с человеком (да и вообще, человека ли разумеет Лосев под личностью? есть ведь разные варианты), – увы, остается неизвестным.
Вывод же – самый простой: эйдетика мифа необходимо должна быть дополнена конкретикой мифа, рассмотрением его в эмпирической реальности. Уточним: речь не идет о «конкретике» в узком смысле эмпирического подхода к мифу, сбора материалов, анализа частных черт конкретных мифов и т. п. Отнюдь нет. Но, оставаясь (как и сказано выше) на уровне обсуждения принципиальных черт мифа, построения его дефиниции, мы, тем не менее, обнаруживаем, что помимо дефиниций эйдетических, изобилие которых без особенного труда строилось в предыдущих книгах, требуется и дефиниция иного рода, построенная непосредственно в терминах здешней реальности. Получению такой дефиниции и посвящена «Диалектика мифа». Но, прежде чем обсуждать решение этой задачи, нужно сделать еще одно общее замечание – о связи мифа и символа (эта связь отчасти затрагивается и в самой книге (§ 5), но, в соответствии с ее конкретными установками, совсем не в плане теоретического анализа).
Нетрудно видеть, что тут возникло если и не противоречие, то, во всяком случае, необходимость уточнения. Вспомним, что у нас говорилось о символе: по Лосеву, это – «эйдос, воспроизводимый на ином», «данный как своя собственная гипостазированная инаковость» и, тем самым, как чувственное содержание (наряду с умным), поскольку инаковость интеллигибельной реальности эйдоса есть чувственное. Синтез эйдоса и его инобытия в символе заключает диалектический процесс. И по всему сказанному, понятия символа и мифа оказываются как будто бы конкурирующими: оба они претендуют на то, чтобы быть пределом воплощенности, осуществленности эйдоса и «необходимым завершением диалектики». Вопрос разрешается у Лосева следующим образом: указанная роль безоговорочно закрепляется за мифом, символ же ее разделяет в некоем ограниченном смысле, постольку поскольку сам он тоже мифичен, совпадает с мифом. Это соотношение символа и мифа у Лосева не анализируется особенно подробно, но общий его характер вырисовывается с достаточной ясностью. Хотя символ и есть совершенное двуединство эйдоса и инобытия и, в этом смысле, предельная воплощенность (облеченность в иное), однако же он не есть, вообще говоря, предельная выраженность: ибо таковая требует не просто воплощенности, но – воплощенности в живом и личном, что в лосевской терминологии означает обладание интеллигенцией. Символ может как обладать, так и не обладать ею; но миф, согласно своим дефинициям, обладает ею всегда. «Символ, ставший интеллигенцией… превращает сущность уже в живое существо или миф» [45]
[Закрыть]. Таким образом, миф заведомо обладает не только полнотой воплощенности, но и полнотой выраженности и потому способен быть «сильней», напряженней символа по своей выразительности; он всегда личностен, тогда как символ может быть только лишь статуарен. Отсюда очевидна близость лосевского решения известной концепции Вячеслава Иванова, согласно которой миф – это, вольно выражаясь, оживший символ, а, выражаясь точней, это символ, «получивший глагольный предикат», сделавшийся действующим лицом, протагонистом некоторого действа, драмы, мистерии. Оба понятия, в итоге, связаны самым тесным образом, и миф выступает как символ некоего высшего градуса выразительности, который достигается в символе интеллигентном, т. е. в личности. «Тождество символа и мифа… есть личность» [46]
[Закрыть]. В силу этой связи наше «уравнение» диалектика + феноменология = символизм равносильно соотношению диалектика + феноменология = мифология, и выдвижение мифа на первый план не заставляет отказываться от характеристики философии Лосева как символизма.
5.
Построение «конкретной» дефиниции мифа по своей методике, естественно, весьма отличается от знакомого нам конструирования эйдосов. Требуется охарактеризовать, выделить миф среди явлений здешней реальности и видов деятельности человека; и к этому можно подходить стандартным (в частности, применявшимся и у Шеллинга) путем последовательных отграничений мифа от смежных, близких явлений. Именно так и развивается изложение, причем избранная методика естественно определяет и композицию книги: каждому из отграничений мифа автор посвящает особый раздел. Сама же серия смежных явлений, через противопоставление которым миф обретает свою определенность, у Лосева выбирается такою:
вымысел (§ 1),
идеальное бытие (§ 2),
наука (§ 3),
метафизика (§ 4),
схема, аллегория (§ 5),
поэзия (§ 6),
догмат (§ 9),
историческое событие (§ 10).
Методика «определения через отрицание» восходит к классической средневековой традиции апофатического (негативного, отрицательного) богословия: Бог постигается через предельное отрицание, констатирующее, что Он не есть никакая из вещей наличного бытия. Необходимым дополнением к апофатической традиции служит в христианском умозрении подход катафатического (положительного) богословия: Бог постигается через предельное утверждение, приписывающее Ему в превосходной степени совершенства вещей наличного бытия. Философская мысль Лосева неявно, но прочно несет в себе печать церковно-православного учения и стиля мысли; и наряду с «апофатическою» методикою в «Диалектике мифа» присутствует и «катафатическая». Миф характеризуется, наряду с отграничениями, также и серией отождествлений: миф есть
символ (§ 5),
личность (§ 7),
чудо (§ 11).
И, наконец, выделяется одна важная область, тесно прикосновенная к мифу, однако не допускающая занесения ни в отрицательный, ни в положительный ряд, имеющая с мифом и глубокое родство, и существенное различие:
религия (§ 8).
Такова панорама книги. Едва ли нам целесообразно прослеживать и разбирать ход рассуждений в каждом разделе. Это без труда проделает сам читатель, ибо тут все просто, тут почти вовсе нет искросыпительного аппарата диалектической эйдетики. Но надо отметить, что апофатический путь в данном случае приносит отнюдь не чисто негативные выводы: анализируя каждое из отграничений мифа, всякий раз для отграничиваемого явления как для некоего негатива обнаруживается и определенный позитив, и получаемые выводы имеют типовую форму «миф есть не это, а вот то-то». Для отграничений, разбираемых в разделах 1–6, подобные выводы сжато резюмированы в разделе 7, и мы сейчас приведем их (еще сократив немного и потому не ставя кавычек).
Миф – не вымысел, но логически необходимая категория сознания и бытия.
Миф – не идеальное бытие, но жизненно ощущаемая и творимая вещественная реальность.
Миф – не научное построение, но живое субъект-объектное взаимообщение.
Миф – не метафизика, но чувственная действительность, хотя и отрешенная от обычного хода явлений.
Миф – не схема и не аллегория, но символ (причем, в общем случае, сложный, многослойный символ, куда могут входить другие символы разного рода, а также схематические и аллегорические элементы).
Миф – не поэзия, но возведение изолированных и абстрактно выделенных вещей в интуитивно-инстинктивную и примитивно-биологически взаимоотносящуюся с человеком сферу, где они объединяются в органическое единство.
Данные тезисы, равно как и разбор их у Лосева, во многом восходят к начальным лекциям Шеллинга по философии мифологии. Легко согласиться, что это – только начало пути, и о мифе тут покамест открылось не слишком много. Часть утверждаемого – совсем или почти очевидные вещи (отличие мифа от чистой выдумки, от науки, от метафизики), часть уже отмечалась при обсуждении эйдетики мифа (миф есть символ и есть чувственная реальность). Но все же здесь появился, по меньшей мере, один важный новый момент, одна более глубокая черта мифа, которую Лосев выражает термином «отрешенность». Миф есть реальность чувственная, однако же неким образом изъятая из-под власти естественных законов, отрешенная от них и, в этом смысле, «странная и неожиданная». Суть и характер этой отрешенности отчасти проясняется в тезисе 6. Поэзия, поэтическое ведь тоже отрешено от эмпирической реальности, но это, по Лосеву, отрешенность иного, даже противоположного рода. Поэзия не предполагает иных свойств эмпирических вещей, иных ими управляющих законов; но она отрешается от самой эмпирической реальности, создавая собственную условную реальность искусства. Напротив, миф сохраняет в своей сфере тот же род реальности, однако утверждает для нее иные законы и связи, иной смысл. «Действительность остается в мифе тою же самой, что и в обычной жизни, и только меняется ее смысл и идея» (448) [47]
[Закрыть]. Именно это выражает несколько усложненная формулировка тезиса 6: реальность мифа – определенная перегруппировка, перестройка эмпирической реальности, производимая по принципам до-рефлективного, примитивно-интуитивного сознания.