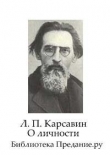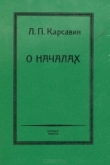Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 20 страниц)
***
Как и предполагалось исходною задачей, наш анализ до сих пор представлял собою взгляд изнутри, рассматривающий внутреннее строение, внутренние стимулы и пружины мысли Флоренского. В заключение, бросим и взгляд извне, рассмотрев эту мысль в общей картине философии нашего столетия. Такой взгляд, более школьный и стандартный, в случае Флоренского тоже небезынтересен, ибо его учение достаточно необычно. Хотя оно развито не обрывками, а довольно полно и цельно, оно – как уже отмечалось – совсем не походит на традиционную философскую систему. В то же время, это не есть и причудливое единичное явление, лишенное всяких связей с философским процессом. Выше мы отнесли его к «философскому символизму»; но эта формула, хотя и бесспорная, недостаточна. Она скорей характеризует тип онтологии учения, нежели его место в историко-философском контексте. Символизм как движение принадлежит области искусства, не составляя оформленного философского направления. Его богатое философское содержание оставалось отчасти имплицитным, а отчасти рассеянным, высказываясь попутно с литературной критикой, публицистикой, полемикой, в случайных статьях и письмах… Если угодно, конкретная метафизика Флоренского и есть единственная систематическая философия в составе русского символистского движения – и появилась она, по обычаю Минервиной совы, когда самого движения уже более не существовало.
Однако многие концепции и структуры философского символизма были усвоены и введены в философский процесс позднейшим структуралистским движением. Связь философии Флоренского с этим движением заслуживала бы отдельного разбора: тут есть и важные параллели, и принципиальные расхождения. Взгляд на структуру и метод научного знания, который выражает Флоренский в «Биографических сведениях» (1926), весьма созвучен позициям структурализма, задолго предвосхищая их: «В противоположность единой, замкнутой в себе системе знания… Флоренский считает всякую систему связною не логически, а лишь телеологически и видит в этой логической обрывочности (фрагментарности) неизбежное следствие самого процесса познавания как создающего… модели и схемы» [34]
[Закрыть]. Неудивительно, что в своем строении и составе конкретная метафизика обнаруживает известную близость к структурализму: тот также отбрасывает привычный стереотип философской системы и развивается как пучок ветвей, идущих в различные конкретные сферы знания; причем и самый набор этих ветвей, где на первых местах стоят структурная антропология, структурная лингвистика, семиотика, системный анализ, напоминает состав конкретной метафизики. Особое же сходство с последней имеет возникшая в те же годы философия символических форм Кассирера – учение, промежуточное между символизмом и структурализмом. Нетрудно указать и ряд других соответствий, из которых примечателен общий глубокий интерес к первобытному мышлению. Однако очевидно и то, что многие коренные черты структурализма, как, скажем, его позитивистская и агностическая окраска, его редукционистский уклон, заведомо чужды Флоренскому как религиозному и православному мыслителю.
Наибольшего сближения поздняя мысль Флоренского, несомненно, достигает с теорией знаковых систем, семиотикой. В конкретной метафизике продуманы многие ее центральные понятия и проблемы (знак и значение, конкретность, форма, организация, коммуникация…), разработан ряд аспектов общей теории знака – и, может быть, более всего те, что затрагивают роль «тела знака», его чувственной стороны, ибо к ней, мы помним, философ обладал особою чуткостью. Тема о «теле знака» и «прозрачности знака», полагаемая еще недавно «одной из самых актуальных проблем современной семиотики» [35]
[Закрыть], развита им едва ли не всесторонне, и в самой модели ступенчатого всеединства законно видеть модель обобщенного знака с дискретными градациями прозрачности. Философские корни этой темы возводят сегодня к Гуссерлю; с не меньшим правом их можно возводить и к Флоренскому. Из сказанного также ясно, что символизм Флоренского – совсем не то, что часто называют этим именем в семиотике: архаичный подход к знаку, придающий ценность лишь означаемому, занятый лишь отношением его к означающему и для всестороннего изучения знаковой системы требующий дополнения парадигматическим подходом (выделение и анализ знаковых классов и семейств) и синтагматическим подходом (формальный анализ знаковых конструкций). Означающее («феномен») никогда не принижается и не отодвигается у Флоренского, а в темах и методах его учения ясно видна активность и парадигматического, и синтагматического сознания: первое работает, например, в классификациях символов, второе же – в концепции науки как описания, а не объяснения, которую сам автор сближает с английским научным стилем, традиционно синтагматичным.
Но стоит заметить, что отношения Флоренского с семиотикой далеко не передаются шаблонными формулами об «отечественном мыслителе, предвосхитившем открытия мировой науки». Конкретная метафизика – не столько предвосхищение семиотики, сколько отдельный и самоценный путь, отчасти переплетающийся с путями современного семиотического подхода, но в целом проложенный по совсем иным вехам. Главный водораздел тут снова, разумеется, полагают религиозно-онтологические устои о. Павла. Хотя философские позиции семиотики так никогда и не обрели полной четкости, колеблясь в пространстве меж номинализмом и реализмом [36]
[Закрыть], в целом они заведомо отличны от радикального реализма Флоренского, Читателю уже ясно, что мысль о. Павла вообще слишком индивидуальна, слишком связана с личным мифом, чтобы вполне вмещаться в какой бы то ни было подход, кроме созданного им самим.
Черта эта ярко сказывается и на положении Флоренского в русской духовной традиции. Раннее творчество Флоренского – органическая часть русской метафизики всеединства. Его учение о Софии – в магистральном русле нашей тогдашней мысли, наследуя софиологии Соловьева (при всех радикальных несогласиях с ней) и предшествуя учениям Трубецкого и Булгакова. Но зрелая его мысль, сплавившая воедино православие, магию, новый тип философии и смелые научные предвидения, занимает место особое. Сейчас, когда ее главные плоды только появляются из-под спуда, это место еще нельзя окончательно определить; выскажем лишь беглое предварительное суждение.
Ясно, что связь с традицией не утрачивается и здесь. Построения позднего, «энергийного» этапа метафизики Флоренского отчетливо примыкают к тому руслу, которое Вл. Соловьев, а за ним о. Сергий Булгаков называли «религиозным материализмом». Мы уже бегло говорили о нем в предыдущих статьях: это – направление мысли, сочетающее христианскую онтологию с усиленною защитою ценности и осмысленности материального мира, некой Богопричастности материи. В различных вариациях, оно крайне типично для русской религиозной мысли: помимо Булгакова и Соловьева, к нему причастны и Федоров, и Евгений Трубецкой, и Карсавин, и Лосев… (Впрочем, родственная линия имеется и на Западе, в мистической натурфилософии Эригены, Парацельса, Баадера и др.) И легко согласиться, что «энергийный символ» Флоренского воплощает идею духоносной, Богопричастной материи наиболее прямо и выразительно.
Однако «особенное», индивидуальные отличия Флоренского, как всегда, не менее важны. Чтобы увидеть их, воспользуемся противопоставлением статической и динамической картин бытия. Не будем стараться точно определить эти картины, довольно указать только главный признак: онтологический статус здешнего бытия предполагается в них, соответственно, неизменным или же допускающим изменение. Иными словами, в динамической картине всевозможные изменения и процессы в здешнем бытии, в частности история, духовный путь личности и прочее, способны приносить актуальное изменение сущностной структуры реальности и, стало быть, обладают нетривиальным онтологическим содержанием, онтологической ценностью. Напротив, в статической картине они онтологически бессодержательны и бессильны. Это не значит, что реальность тут видится мертвою неподвижностью: статичность предполагает лишь завершенность, уравновешенность – и это вполне может быть живая уравновешенность, подвижный покой, наполненный пульсирующей энергией. Именно такова античная картина реальности.
Является несомненным, что философия Флоренского, подобно античной мысли, находится в рамках статической картины бытия. Сущностное строение реальности задано парадигмой структурированного всеединства, и любые действия, любые процессы, происходящие в мире, не изменяют этого строения, онтологическая значимость их равна нулю. Это же видно и из того, что бытийные изменения подчинены мифологеме Эдема, трактуемой космологически и тем лишенной всякой зависимости от земных дел, всякой связи с ними. Соответственно, нулевою является и онтологическая ценность истории, и онтологическая ценность духовного пути человека. Во «Вступительном слове перед защитою диссертации» Флоренский говорит: «Пройденный путь делается уже ненужным», – разумея здесь и собственный духовный путь, и путь вообще. Что же до истории, то в программном этюде «На Маковце» читаем: «Не есть ли история мира… одна лишь ночь, один лишь страшный сон, растягивающийся в века?». Зажатая между Эдемом Первозданным и Новым, онтологически совпадающими, неспособная ни приблизить, ни отдалить Новый Эдем, эта ночь здешнего бытия имеет лишь видимость бытия, и неизбежен вывод, приравнивающий ее чистому ничто: «Ночь Вселенной воспринимается как не сущее… Ночи будто и не бывало». Такая позиция стройна и закончена – но вдумаемся! Ведь в согласии с нею, и земная жизнь Господа, «событие Христа», тоже ничтожно, тоже «будто и не бывало» – по крайней мере, в том качестве, в каком его с силой утверждает Евангелие: как историческое событие, имевшее место при Ироде и Тиберии. Нельзя отрицать историю, не отрицая заодно с нею исторического Христа Евангелий. Поэтому истовый антиисторизм Флоренского – в теснейшем родстве с его крайним имяславием, призывом исповедать лишь Имя Христа, но не Самого живого Спасителя. Обе черты – из коренных и важнейших для о. Павла. И обе заставляют ставить вопрос о совместимости его воззрений с Благою Вестью о Христовом Пришествии.
Итак, приверженность статической онтологии у Флоренского принципиальна, последовательна, и мы нередко можем заметить, как за новым и необычным решением какой-либо темы кроется у него стремление развить эту тему в статическом ключе, ввести ее в рамки статической картины бытия, когда общепринятый взгляд толкает к картине динамической. И в философской, и в богословской проблематике он систематически устраняет все динамические представления, изобретательно заменяя их статическими, чему примером и служит «космологическая» версия мифологемы Эдема.
Используя собственный образ Флоренского, можно сказать, что эти его позиции отчетливо обнажают водораздел его мысли с магистральным руслом русской духовности. Ибо не менее несомненно, что во всей истории русской мысли, русской духовной культуры было неизменно преобладающим явное тяготение к динамической картине бытия. Глубинные религиозные истоки этого тяготения можно усматривать в православной концепции обожения, которая видит назначение человека именно в актуальном онтологическом возрастании, преображении, и достижение их ставит в прямую зависимость от свободного усилия человека, от проходимого им пути. Родовой чертой русской мысли всегда был персонализм, также предполагающий динамическую картину бытия и чуждый Флоренскому (как и вообще всему руслу символистского и структуралистского мышления); а для русской литературы во главе с Достоевским и Толстым в центре всегда стоят духовная драма человека, драма его падения и восстания, духовного воскресения и преображения, и высшая важность, бытийная значимость этой драмы ставится вне всяких сомнений. И самое слово «путь», которое для Флоренского онтологически пусто, для русской культуры давно уже сделалось словом-символом, обозначающим нечто, с чем связываются глубокий смысл, надежда и ценность.
Итак, приходится заключить, что в цельном контексте русской духовности идеи Флоренского и его философия являются скорее периферийными, маргинальными по отношению к некоему центральному руслу. Но, сделав подобный вывод, стоит тут же заметить, что философии, целиком отвечающей этому руслу, пожалуй, и не было еще создано в России. Есть все основания полагать, что коренные интуиции русской духовности, начала национального духовного склада еще не выразились сполна в формах философского разума, и нет покуда той философии, в которой Россия без колебаний узнала бы свой духовный облик. Создание ее, как должно надеяться, – дело нашего будущего.
Жизнь и учение Льва Карсавина
1. О личности и о началах философа.
2. Зачатие метафизики в лоне медиевистики.
3. Система Карсавина: основные принципы и структуры.
4. Евразийская страница.
5. Тема любви, смерти и жертвы.
6. Историко-философская панорама.
7 Лагерь. Жизнь чрез смерть.
1.
Серебряный Век. Недолгая, но блестящая – как и требует имя! – эпоха русской культуры. Из ее богатейшего наследства, из необозримой литературы о ней явственно выступает, заставляя задуматься, одна важная черта: некий новый уровень и новый облик, который приобретает здесь извечный конфликт российского культурного развития – конфликт Востока и Запада, славянофильской и западнической установок. Живой материал культуры, равно как и выводы культурологов согласно нам говорят, что культура Серебряного Века в немалой мере сумела осуществить сочетание и сотрудничество, «синергию» соперничавших установок и благодаря этому явила собою новый культурный феномен, даже культурный тип – некий духовный Востоко-Запад или «Восток и Запад одновременно», по слову Д.С. Лихачева. Здесь в общеевропейских формах, в культурных явлениях мировой значимости находили свое воплощение самобытные начала русского духовного мира, И сами формы культуры, и ее темы при этом обретали новые измерения, расширяясь иным опытом и подходя ближе к завещанному Достоевским идеалу всечеловечности. Перефразируя Мандельштама, можно сказать, что российская культура, до поры сопредельная европейской и лишь как бы наплывавшая на нее, в Серебряный Век на добрую долго слилась с ней, изменив многое в ее строении и составе. Что, скажем, такое «Русские сезоны» Дягилева, в которых первой звездой блистала Тамара Карсавина, родная сестра нашего героя? Бесспорно, это – явление национального искусства, рожденное энергией человека, который «обожал Россию и все русское до какого-то фанатизма» (слова А. Бенуа), черпавшее из родников русской истории и фольклора и русской славе служившее. Но столь же бесспорно, это – явление европейского искусства, важнейшая страница развития европейской оперы и балета, живописи и музыки… Не следует, однако, думать, что сами славянофильство и западничество тогда исчезли, растворились в чем-то «средне-арифметическом»; напротив, обе тенденции продолжали свое существование, и весьма активно. Так, деятельность обширной группы философов, примыкавших к московскому книгоиздательству «Путь», не без оснований относят к (нео)славянофильскому руслу, а группы, примыкавшей к издательству «Мусагет» и журналу «Логос» – к руслу (нео)западничества. Но они испытали трансформацию, импульс и направленье которой были заданы самим ходом русской истории, а также еще влиянием Достоевского и Владимира Соловьева. Западничество сходило на нет как утверждение нашей вторичности, однако продолжало жить как отрицание изоляционизма; славянофильство превращалось в неоспоримость как утверждение нашей самобытности, однако изживалось как утверждение наших превосходств. И с этою трансформацией, это уже были не столько антагонистические идейные лагери, сколько дополняющие друг друга подходы, которые все яснее сознавали себя как выражение разных – но равно реальных, невыдуманных и даже взаимно необходимых – сторон «русской идеи», порожденных самим положением России в космосе наций и культур. Конечно, подобный момент гармонии, хотя бы и относительной, не мог длиться долго – в особенности, в двадцатом веке; и уже «август четырнадцатого» его безвозвратно смял и смел, сменив «методологических оппонентов», а по сути – соратников в культурном деле (какими, без сомнения, были друг для друга «западник» Федор Степун и «славянофил» князь Евгений Трубецкой) – опять представителями враждебных идеологий. Но все же момент – был.
Лишь в перспективе этого хрупкого момента, в его особой культурной атмосфере, и может стать понятной для нас фигура Карсавина. В ней не только соединились, но выразились с резкостью, заостренно сразу оба полярные устремления русской культуры, и «западное» и «восточное» (и купно с этой полярностью, еще немало других). Он был одним из крупнейших русских ученых своего времени в области истории и религии Западной Европы, прежде всего – католического средневековья. Склад его мысли, его философский стиль и сами его идеи многое восприняли от католической традиции. Но он же – один из вдохновителей евразийцев, которые выдвинули лозунг «Исход к Востоку» и, по словам современных исследователей, «возродили… идеологию российского изоляционизма, вражды к Европе и католицизму» [1]
[Закрыть].И это разительное «единство противоположностей» – отнюдь не единственное у него. Его творчество зачастую вызывало диаметрально противоположные оценки: незадолго до его высылки из России марксист Григорий Баммель пишет, что его сочинения – «сладкоречивая проповедь поповщины»; вскоре же после высылки, в Берлине, кадет Иосиф Гессен заявляет, что его взгляды – «издевательство над всем святым». Опять – ощущение обоюдоострого. Не столько многоликого, протеичного, в духе Вас. Вас. Розанова, сколько начиненного противоположными крайностями; ощущение некой, так сказать, лейденской банки, заряженной сильными зарядами противоположных знаков. Но ведь при этом наш герой – философ, и к тому же, известный особой строгостью мысли, выстроивший свои воззрения в цельную метафизическую систему? Как же сие сопрячь с прихотливыми крайностями? М-да. Герой не желает помещаться ни в какую схему – и тем утверждается в своей человеческой значительности. «Если человека не подо что подвести, если он не показателен, половина требующегося от него налицо. Он свободен от себя, крупица бессмертия достигнута им» [2]
[Закрыть].
Сказанные слова принадлежат Юрию Андреевичу Живаго, который, бесспорно, и сам стяжал крупицу бессмертия своею отменной непоказательностью. Но общность его с нашим героем не только в этом, она гораздо существенней. Мне хочется приблизить Карсавина к миру пастернакова романа: в этом зеркале («роман – зеркало…») мы, думается, сможем неплохо рассмотреть очертания его фигуры. Ибо «Доктор Живаго» – не только произведение изящной словесности, но и незаменимый культурный документ: это и сага Серебряного Века, и его реквием, и в этом качестве он покуда один в русской культуре.
Ясно, прежде всего, что представлять занимающую нас эпоху как нечто единое, сплошное – неверно и недостаточно. Следует различать, по меньшей мере, два поколенья среди ее действующих лиц: тех, кто ее создавал (в философии это, в первую очередь, те, что проделали сакраментальный путь «от марксизма к идеализму»: Бердяев, Булгаков, Франк…) и тех, кто уже застал ее существующей. И Юрий Живаго, и Лев Карсавин принадлежат младшему поколению, и для их биографий это немаловажно. Живаго – ровесник своего автора, и с тем – заметно моложе Карсавина годами; однако Карсавин-философ родился заметно позднее Карсавина-историка, так что в итоге становление мысли Юрия Андреевича и Льва Платоновича падает на одну и ту же пору – на первые послереволюционные годы. И самый характер карсавинского философского творчества в этот его начальный период точно таков же, как и у героя романа: «Доктор писал маленькие книжки в один лист по самым различным вопросам… Работы изложены были доступно, в разговорной форме, далекой, однако, от целей, которые ставят себе популяризаторы, потому что заключали в себе мнения спорные, произвольные, недостаточно проверенные, но всегда живые и оригинальные. Книжечки расходились. Любители их ценили» [3]
[Закрыть]. Целый ряд маленьких книжек Карсавина со спорными, но живыми и оригинальными идеями выходят в свет в 1919—22 годах: «Saligia», рассуждение о смертных грехах, уже намечающее контуры его будущей метафизики всеединства; «Введение в историю», где автор, постепенно меняя амплуа историка на таковое философа, задержался посередине, на проблемах методологии истории; «Восток, Запад и русская идея», где он говорит о типах культур, связывая их различия с различиями религиозной догматики, а отсюда подходит и к «русской идее», к судьбам России и православия.
Ситуацию нарождавшейся философии Карсавина, ее положение в панораме современной ей русской мысли мы также можем понять по «Доктору Живаго». Вводя в роман его главного философа, слегка загадочного Николая Николаевича Веденяпина, Пастернак так определяет его положение «среди представителей тогдашней литературы, профессоров университета и философов революции»: то был «человек, который думал на все их темы и у которого, кроме терминологии, не было с ними ничего общего» [4]
[Закрыть]. Эта формула емко выражает ситуацию и самоощущение младшего поколения Серебряного Века (именно младшего: у старшего со своими предшественниками ни темы, ни терминология нисколько не были общими). Оно сразу оказывалось перед задачей утвердить свою самостоятельность и новизну, восприняв, однако, общие рамки – задачи, темы, язык – намеченного старшими миросозерцания. В сфере философии самоутверждение выливалось в тягу к более строгому методу, в поиски более отточенного, предметного, энергичного стиля, а также – last but not least – и в готовность отбросить ценности буржуазного либерализма, эпоха которого виделась обреченной, а после августа четырнадцатого – и рухнувшей. Павел Флоренский, Иван Ильин, Лев Карсавин – три блестящих русских философа, почти ровесника: все трое родились в 1882—83 году. И в их учениях, оставляя в стороне общие места, может быть, не отыщешь никакой другой совпадающей черты, кроме, увы, нелюбви к свободе…
Разница поколений ощущается в складе биографии Карсавина, начиная с ранних ее этапов. Мы не найдем тут типичного для биографий «старших» глубинного кризиса, не найдем коренной ломки убеждений, когда философ сжег бы то, чему поклонялся, и поклонился тому, что сжигал. Не обнаружим мы и никакого периода увлечений политикой и общественной деятельностью, хотя еще недавно в среде русской интеллигенции миновать подобный период было почти невозможно. Общественная атмосфера менялась. Новую притягательность приобретали наука и культура, где сразу во многих сферах зарождался мощный подъем. И склонности Карсавина с ранних лет направлены были к ученому поприщу. «Уже в старших классах гимназии в нем явственно виден был будущий ученый» [5]
[Закрыть], – пишет в своих мемуарах его знаменитая сестра, прославленная балерина Тамара Карсавина. (Эти мемуары, «Театральная улица», написанные ею по-английски, были изданы у нас в переводе в 1971 году, хотя, увы, большинство упоминаний о брате оказалось при этом выпущено.) Брат и сестра были единственными детьми, и в семействе сложилось четкое разделение отцовской и материнской линий. Тамара, Тата, была «папина дочка», предмет особого вниманья отца, пошедшая по его стопам: Платон Константинович Карсавин (1854–1922, по другим источникам – 1921) был известным танцовщиком Мариинского Театра, учеником корифея петербургского балета Мариуса Петипа. А Лев «пошел в мать»: она была склонна к размышлениям, серьезному чтению, вела тетрадки французских записей «Pensées et maximes». Девическая ее фамилия была Хомякова, и в семье считали, что существуют нити родства с великим основателем славянофильства. Поэтому имя А.С. Хомякова с раннего детства было знакомым и почитаемым для будущего философа, и можно не удивляться, что в своих сочинениях он высоко ставит идеи Хомякова и оказывается во многом близок ему.
Окончив гимназию с золотой медалью, потом Историко-филологический факультет Петербургского университета, Карсавин становится историком-медиевистом, одним из большой плеяды учеников И.М. Гревса, «самым блестящим из всех», как тот впоследствии отзывался [6]
[Закрыть]. Его область – религиозные движения в Италии и во Франции в эпоху позднего Средневековья. Получив по окончании университета двухгодичную командировку за границу, он занимается в библиотеках и архивах этих стран кропотливыми изысканиями по истории францисканского монашества, а также ересей вальденсов и катаров. Итогами этих штудий стали два больших сочинения, «Очерки религиозной жизни в Италии XII–XIII веков» (1912) и «Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии» (1915). Но если первое из них вполне отвечает привычному типу капитальной исторической монографии, то второе никак уже не укладывается в этот тип. Сегодня мы бы сказали, что этот труд, равно как и примыкающие к нему статьи Карсавина, принадлежит не истории, а культурологии. Хотя и тут перед нами изобилие фактов, живого конкретного материала, но все это сейчас занимает автора не само по себе: его проблема – реконструкция средневекового человека и его мира. Выявляя и анализируя структуры средневекового уклада, мышления, психики, он стремится с их помощью увидеть картину прошлого не плоско-фактографически, а объемно, в ее внутренней логике. И на этом пути он во многом предвосхищает и подход, и выводы будущей культурологии, впервые вводя в рассмотрение те пласты материала и ту проблематику, что станут предметом острого интереса исследователей во всем мире полвека спустя, в 60—70-е годы. Вся эта его первопроходческая деятельность, надолго устраненная из науки большевиками, сейчас начинает наконец получать признание.
Вместе с тем, и культурология – только промежуточный этап в творческой эволюции Карсавина. Чем дальше, тем сильней сказывается философский склад его мысли; и, непрерывно расширяя горизонт своих размышлений, он обращается к общим проблемам исторического познания и метода, к философии истории – неуклонно приближаясь к области чистой метафизики. И мы возвращаемся к тому этапу, с которого выше начали наш рассказ – к этапу вхождения Карсавина в философию, когда им, как и доктором Живаго, «писались маленькие книжки по самым разным вопросам». На дворе стояла эпоха НЭПа. Обратившись снова к роману, мы можем живо представить себе существование и занятия философа в нэповской России.
«В то время все стало специальностью, стихотворчество, искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические исследования, для всего создавали институты. Возникли разного рода Дворцы мысли, Академии художественных идей. В половине этих дутых учреждений Юрий Андреевич состоял штатным доктором» [7]
[Закрыть], а Лев Платонович, без сомнения, мог бы состоять членом-учредителем, или главою секции, или ординарным профессором. Повсеместно заводились издательства, выпускались альманахи и зачинались журналы, чрезвычайно редко доживавшие до третьего номера. В половине из них были статьи Карсавина: «О свободе» и «О добре и зле» – в «Мысли», «Глубины сатанинские» – в «Фениксе», «София земная и горняя» – в «Стрельце»… Эта последняя работа есть нечто единственное в своем роде: ее основная часть – стилизация под древний мистический трактат II–III века, частью – в стихах, с изложением теогонии и космогонии гностиков-офитов. Стилизация, однако, нарочито не выдержана до конца, наделена рядом несообразностей и уснащена пассажами философской лирики в духе не столько гносиса, сколько русского символизма. К «трактату» присоединен откровенно пародийный псевдоученый «анализ», а также комментарий, не разъясняющий, а только запутывающий вопросы о происхождении и сути текста. Какие неожиданные черты это вдруг открывает нам! Склонность к мистификации, к причудливой интеллектуальной игре, и незаурядный стилистический дар, и таящаяся под ученостью мощная эмоционально-лирическая стихия… И ясно, что все сближения и параллели уже кончаются здесь. Мы добрались до «особенного», индивидуально-неповторимого.
Коснувшись этих сторон, нам время сказать о том, что в тот же самый период Карсавин, помимо «маленьких книжек», успевает выпустить и один основательный философский труд, «Noctes Petropolitanae», «Петроградские ночи». Он посвящен метафизике любви – и, таким образом, именно эта тема становится первым разделом его нарождающейся философской системы. К тому были веские причины, и не только в области мысли. Последние два петроградских года Карсавина – время смятенья чувств, ворвавшейся в его жизнь личной драмы, и «Ночи» его выражают не один только философский опыт. Уже названьем своим, напоминающим о «Русских ночах» Одоевского, о «Санкт-петербургских вечерах» Жозефа де Местра, они отсылают нас к романтической традиции произведений полухудожественного-полуфилософского жанра, к литературе свободных раздумий, не чуждых и личного, исповедального элемента. Сообразно жанру, в книге, помимо метафизики, присутствует и романтический, лирический план, где перед нами проходят переживания любящего. Вся книга – философские и лирические монологи героя, обращенные к Любви и к любимой. Но если Любовь, верховная сила, владычица человеческой судьбы, вопреки усилиям автора, все ж предстает довольно отвлеченною и туманной, то любимая, избранница героя, отнюдь не воспринимается как вымышленный и условный персонаж. За нею ощутима реальность, в ней уловимы многие живые черты и черточки, как и в отношениях, в обстоятельствах героя и героини (нисколько не живописуемых, но все же редкими штрихами проникающих на страницы). Ощутимо и то, что эта прикровенная жизненная подоснова книги – еще не в прошлом, что сейчас, в миг писанья, судьба двух еще не решена, и исход открыт. И постепенно читатель влечется к убеждению, что лирический план книги есть и глубоко личный план, и перед автором стояли, по видимости, две задачи, не только философская – построение метафизики любви, но также и сугубо личная – построение любви. Уже реальной, без метафизики.
Плоды усилий в этих двух направлениях оказались прямо противоположны. По своему итогу и смыслу, «Ночи» Карсавина – и, стало быть, та жизнь, что стоит за ними, – являют сочетанье полярностей: это – победа философа и поражение героя-любовника. Нет сомнений, что книга – яркое и достойное начало самостоятельной философии Карсавина. Помимо собственно метафизики любви (где главная идея – соединение четы любящих в нераздельное «двуединое я» силою действующей в них Любви, а главный пафос – утверждение любви земной и отрицание аскетизма – обнаруживает немало общего с проповедью Розанова), мы здесь видим и зерна едва ли не всех его будущих теорий: идею всеединства и всеединого человечества – «Адама Кадмона», парадигму разъединения-воссоединения бытия, позднее развитую в концепцию триединства, учение о вечности как полноте времен и еще многое другое. Мысль движется уверенно и свободно, выстраивая искусные рассужденья и тонкие метафизические конструкции. Но что, однако, рисуется в лирическом горизонте, где протекают отношения героя и героини, разыгрывается извечная драма двух, и авторское я – уже не герой-метафизик, а герой-любовник? Как действует этот герой? Увы, увы! «Рассуждал я… Много сомнений и дум родилось в душе; и неутомимо сплетал я бесконечную сеть силлогизмов» [8]
[Закрыть]. Перед нами – возлюбленный-резонер, что уклоняется от решений и поступков, говорит от своего имени только об одном безграничном восхищении любимой, а за всеми ответами о насущном, о судьбе их чувства неизменно адресует к всеведущей и всемогущей Любви: «Достанет ли в нем (любящем – С. X.) сил?… Сумеет ли он улыбнуться в ответ на улыбку того, кого, наконец, нашел?… Любовь, одна Любовь… только она знает…» [9]
[Закрыть]. И множатся без конца славословия Любви, выспренные, пространные, стилизованные под мистические гимны (уже знакомое нам!). Согласимся, едва ли это все состоятельно как образ действий героя-возлюбленного… И хотя эта несостоятельность легко могла ускользнуть от читателей с сугубо умственным интересом, она была явной для тех, в ком жила непосредственность чувств. Один читатель в провинции, искренне возмущенный, обличал автора на страницах местной газетки: «Автор… как доказывает книга, физически совершенно бесчувственный человек… Для него никогда не было любимой, русской девушки Маши. А если бы это и случилось, он сейчас же сделал бы все это мировым явлением, оправдал бы Христом, девой Марией, создал бы вокруг живого и теплого чувства мир червивых профессорских понятий – и истребил бы любовь к себе… О настоящей человеческой любви автор не имеет никакого представления» [10]
[Закрыть], Так писал о Карсавине совсем еще молодой Андрей Платонов в 1922 году – писал наивно, пылко, несправедливо. Но кто знает, не согласилась ли бы с ним хоть отчасти – героиня книги? Исход драмы, составившей жизненный фон «Noctes Prtropolitanae» был опустошающим и бесплодным, и оставил за собою темный шлейф горечи…