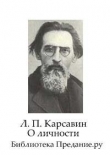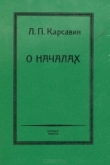Текст книги "После перерыва. Пути русской философии. Часть 1"
Автор книги: Сергей Хоружий
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Предисловие
Что значит быть русским философом сегодня? Есть легенда: когда профессор Рамзин, герой процесса Промпартии, после долгих лет тюрьмы внезапно был «по манию царя» выпущен и возвращен на кафедру института, он начал свою первую лекцию словами: «Итак, в последний раз мы остановились на том…» – Мне кажется, в нехитрой легенде скрыта целая притча на тему заданного вопроса. С одной стороны, знаменитый вредитель явно прав. После разрушительных катастроф, долгих провалов, утраты памяти и преемства только так и можно начать. Необходимо заново обрести пространство мысли и координацию в нем или, иными словами, восстановить контекст; и это значит – вернуться к тому, на чем все оборвалось, разглядеть, что же собирались сделать, что успели, что оставалось впереди… И лишь тогда сможешь идти дальше – после перерыва.
С другой стороны, прав ли знаменитый вредитель? Дух веет идеже хощет, и ты ничуть не обязан привязывать свою мысль к тому, что было, укладывать ее в русла, пробитые в допотопное время. Рамзин настаивает: начать вновь – с того, на чем когда-то остановились, начать с возврата. Но с Гераклита известно, что точный возврат при всем желании невозможен! В истории культуры «возврат» – туманное, сомнительное понятие. В истории мысли это вещь более определенная, имеющая много примеров: здесь «возвраты» – создание всевозможных «нео-…»: попыток продолжения, модернизированных версий старых традиций и учений. Такая стратегия иногда бывала успешна, иногда нет; но уж заведомо она – не единственный плодотворный путь философского развития.
Синтез, к которому подводят эти тезис и антитезис, довольно ясен. Обрести вновь полномерное пространство мысли, опамятоваться, оглядеться – действительно, абсолютная необходимость. Однако как действовать, как двигаться в возвращенном пространстве? К тому, что в этом пространстве находится – к возвращенной традиции – можно испытывать притяжение, а можно отталкивание; можно строить свои отношения с нею в ключе непрерывности, преемства, а можно в ключе дискретности, разрыва. Рамзин выбирает в этих альтернативах первые варианты; и тут уже мы усомнимся, что такова абсолютная необходимость. У современного человека идеологический и нормативный подход к реальности сменяется сценарным, вариантным подходом, пробующим, испытующим, проигрывающим многие и разные установки, модели, парадигмы (что еще не означает релятивизма и не мешает строгой определенности отношения к Богу!). Мы склонны думать, что возобновление жизни, подлинность и плодотворность воскресшей мысли достижимы на разных путях; и новая русская философия может, вообще говоря, вырасти и в установке бережного продолжения, и в установке критического неприятия возвращенной традиции. Говоря богословским языком, отношение к традиции – не вопрос догматики, а вопрос икономии; на нем может сказываться «обстояние», ситуация автора и момента. В данной книге это сказалось особенно на первой части, прямо посвященной традиции. Разразился сезон «возвращения имен» – и при всей несерьезности, часто уродливости его форм, ему следовало содействовать. По этой причине статьи первой части, написанные в его пору, более апологетичны, популярны и снабжены зачинами в духе времени; элемент критический и аналитический в них выразился слабей, чем хотелось бы.
Иное – общая концепция книги: здесь нет уже уступок «икономии» или «духу времени». Как видится мне, существо пути, пройденного русскою философией в нашем веке, заключается, прежде всего, в том, что, капитально разработав и исчерпав потенции метафизики всеединства (а с нею и всей древней «панентеистской» парадигмы сущностной связи Бога и мира), русская мысль начала продвигаться к созданию философии синергии (отвечающей парадигме энергийной связи Бога и мира). Такое продвижение наметилось уже в московских спорах об имяславии, в работах Флоренского и Лосева двадцатых годов. Обстановкою в большевистской России оно было оборвано, однако вскоре – и независимо – оно вновь начинается в трудах эмигрантских богословов – Кривошеина, Керна, Вл. Лосского, Мейендорфа. Теперь же пришла пора двоякого поворота: основу, заложенную в этих трудах, необходимо перевести с Запада – обратно на родину, и равно – из богословия в философию. Ресурсы для этого созрели; можно употребить во благо гибкость постмодернистского разума, его небывалую наторелость в концептуализации, в создании всевозможных парадигм, сценариев и моделей. – Концепция, как видим, проста – однако и не столь проста. Хорошо известно, что такое панентеизм и метафизика всеединства. Но что за принцип – синергия, и что за путь она открывает для философии?
1.
В древности Западное и Восточное христианство были не только равновеликими духовными и культурными феноменами, но за Востоком признавалась бóльшая духовная изощренность и глубина. Именно здесь по преимуществу творился труд постижения непостижимого Откровенья, данного ученикам Христа, и в этом труде созидался христианский разум. В дальнейшем, однако, все изменилось радикально. Христианский разум оказался почти исключительно в ведении Запада. Он пережил огромное развитие, главным образом, экстенсивное; дробился и ветвился во всех мыслимых направлениях. Но более всего он тяготел к автономизации, к обособлению активности разума из цельного знания, органически связанного с активностью глобальной ориентации (верой), и из цельного человеческого существа, что предстоит Богу и соединяется с Ним как единое целое. На этом пути обособления и самоутверждения, от христианского разума рано отпочковалась секуляризованная философия, сама из себя мастерящая различные суррогаты глобальной ориентации, и постепенно заняла собою всю интеллектуальную сцену, оставив мысли, помнящей о Боге, сомнительный уголок. Восток же между тем сберегал, выдерживал точно и скрупулезно тождественность глобальной ориентации, тождественность отношения человека к Богу – что именно и есть Православие.
Держание Православия – дело, прежде всего, практическое; и христианский Восток исполнял его в своей аскетике, мистике, литургике, сакральном искусстве. В отношении же теоретизированья, развития отвлеченной мысли возобладала скорее позиция недоверия и воздержания. Здесь обостренно чувствовали уникальность и новизну христианского мироощущения, образа человека, отношений человека и Бога, чувствовали, что Благая Весть имплицирует иной стиль во всем, иную духовность и иной разум. И потому чувствовали, что словесное выражение нового духовного опыта, его облечение в готовые категории рассудка с великою легкостью может оказаться неадекватным, способным увести в сторону, к искажению и подмене этого опыта. Итогом же было – воздержание от выговаривания. Обобщая и огрубляя, можно все же сказать: если на Западе христианское видение было интеллектуально эксплицировано, проработано, но при этом приняло в себя долю человеческого произвола, примеси временного и относительного, частного и спорного, порой восходящего к иным традициям, – то на Востоке оно в себя не допустило подобного, однако и не было эксплицировано интеллектуально.
Итак, особенность Восточного христианства – сочетание углубленной духовной практики, выверяющей и хранящей тождественность отношения к Богу, с воздержанием от выговаривания. Прямое и чистое выражение этого сочетанья, его квинтэссенцию являет собою аскетическая традиция исихазма или священнобезмолвия. В основе же своей, как это открыл св. Григорий Палама, исихастская традиция имеет энергийные механизмы и представления. Опыт ее был решающим при выработке православного догмата об энергийной, и только энергийной, а не сущностной, причастности тварного бытия Богу. Искомое исихастской практики – достижение особого строя цельного человеческого существа: строя синергии, когда все энергии тела, души и духа купно направлены к соединению с Божией энергией, сущей в мире благодатью Святого Духа. Существует глубокая внутренняя связь между принципом синергии и исихастским безмолвием, а отсюда, далее, и православным воздержанием от выговаривания. Полностью описать эту связь непросто, однако заметить ее нетрудно. Воздержание не исключает вообще речи, но обусловливает речевой акт, ставит его в зависимость от неких условий и предпосылок, не только внешних, но и, в первую очередь, внутренних. Это же предполагает и принцип синергии: для него речь, установка выражения заведомо не самодовлеющи, не первичны. Первична одна синергия, которая и выступает как фундаментальная предпосылка речи. Это внутренняя предпосылка, но в то же время – онтологическая: в синергийной парадигме онтология и антропология тождественны.
Так проясняется концепция книги: мы видим, что, обращаясь к синергийной парадигме, философия делает своей непосредственной феноменальной почвой опыт исихастской традиции и вместе с этой традицией оказывается выражением аутентичной духовности Восточного христианства.
2.
Коль скоро опыт Восточного христианства – равновеликая и равноценная, хотя и пребывавшая сокровенной, половина христианского опыта, его философское выражение – дискурс синергии – должно быть особой и самостоятельной философской речью. В нем вся классическая философская проблематика должна быть, вообще говоря, представлена заново и по-своему – хотя, разумеется, использование арсенала западной мысли, сближения и совпадения с различными ее явлениями не только не исключены, но неизбежны. Ядро дискурса синергии – заданная паламитским догматом новая фундаментальная дихотомия: сущность – энергия, ousia – energeia. Она не совпадает со старою томистской дихотомией essentia – existentia, но все же в известной мере родственна ей; и также в известной мере дискурс синергии сближается с руслом экзистенциального философствования. Напротив, отрицая, что связь тварного и Божественного бытия, двух горизонтов в онтологическом расщеплении, является связью по сущности, дискурс синергии покидает русло христианского платонизма – магистральное русло европейской религиозной метафизики. Расходится он и с неоплатоническим энергетизмом, который вводил в философию энергийные концепции, не отбрасывая эссенциалистской онтологии, но лишь дополняя связь по сущности – связью по энергии. Это различие между неоплатоновским «и по сущности, и по энергии» (влекущим прямо к магическому типу религиозности) и паламитским «не по сущности, а по энергии» недостаточно успели заметить и оценить наши апологеты имяславия, шедшие к православному энергетизму от метафизики всеединства.
Производя означивание реальности в энергийных характеристиках, дискурс синергии в любой сфере направляется не к выявлению смыслов, но к освещению пути синергийного (пере)устроения данной сферы: это не смысловой или идейный дискурс, но дискурс работы. Как энергийное соединение человеческой и Божественной природ, синергия означает самопревосхождение, трансцендирование тварного бытия: дискурс синергии есть дискурс трансцензуса. Базируясь на тождестве онтологии и антропологии и развивая антропологию «унитарную» или «холистическую» (когда в основе – человек, здешнее бытие как цельность, как онтологически простое, и все членения в его составе вторичны, функциональны), дискурс синергии не противополагает областей «природы» и «духа» («истории», «культуры»…) и снимает границу между гуманитарным и естественнонаучным знанием. Он выявляет и приходует парадигмы аскетического искусства умного делания, и эти парадигмы опознаются и предстают в нем как универсальные парадигмы исполнения здешнего бытия, одни и те же во всех его сферах, частях и царствах. Поскольку же это суть парадигмы «антропологической фокусировки», динамические парадигмы самоподобия, самоорганизации, самопревосхождения, то близкими себе по эвристике он видит все подходы и дисциплины, соединяющие «динамику» и «поэтику», будь то на материале природы, духа иль текста: каковы синергетика, этология, некоторые новые ветви психологии… Найдется у него и знатная родня в европейской мысли; не входя в тему, назовем лишь самое почтенное имя – Гёте. Это не весьма близкая родня, аскетическая непримиримость к себе, непременная в деле синергийной фокусировки, не импонировала господину тайному советнику; но все же родство бесспорно, коль скоро «феномен, форма и метаморфоза – три фундаментальные категории и эстетики, и натуралистических штудий Гёте» [1]1
Ахутин А.В. Понятие «природа» в античности и в Новое время. М., 1988, с. 186.
[Закрыть]. Вообще, будучи рожден Востоком, в своем развитом виде дискурс синергии тяготеет к универсализму, оказывается выше оппозиции Восток – Запад: ибо многие его мотивы и установки равно присущи и западному духовному миру. И это оттого, что выше этой оппозиции, всечеловечней – лежащая в его истоке позиция аскетического сознания: позиция суверенной человеческой личности, сущей в прямом и свободном предстоянии Богу и полностью принимающей на себя ответственность за исход своего предстояния. Так думал Достоевский.
3.
Нынешнее время России во всех отношениях переходно. С трудом возрождаясь после перерыва, переживает переходный период и русская философия. Исход неведом. Переход русской мысли в синергийную парадигму отнюдь еще не произошел. Набросанная выше характеристика дискурса синергии не отвечает никакому реально существующему дискурсу. Так что ж такое тогда этот наш дискурс? Маниловское мечтанье, фантазия, пустой прожект – или наоборот, нечто, причастное самому «ноумену», «софийному лику», «эйдосу» русской культуры, чему суждено воплотиться, невзирая на обстоятельства? Ни то, ни другое! – отвечает нам сам же дискурс синергии. В нем присутствует совершенно определенная модель истории и судьбы, и о собственной судьбе он способен сказать сам. И он говорит: здешнее бытие не управляемо ни железною предопределенностью, ни слепым случаем. Оно – арена Богочеловеческого сотрудничества-диалога, в котором человек наделен всей полнотой свободы и всей полнотой ответственности; и решающее здесь – стихия энергий личного бытия, стихия нравственно-волевых начал. История и Вселенная – открыты: их смысл, их итог решается заново в каждый миг между Богом и нами. В пределе и чистоте, они открыты для благодати, предельная же открытость – сама истина, как учит философия от Платона и до Хайдегтера. Что будет с нашею философией, с нами, с нашей страной – вопрос нашего действия, нашего усилия, которое должно быть зрячим и трезвенным: синергийным. «Доныне Царствие Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его».
Часть I. О пройденном: вокруг всеединства
Хомяков и принцип соборности
«Душа Православия– соборность»
о. С. Булгаков
Ранним славянофилам довелось стать родоначальниками самобытного русского философствования. Это привычное и, в общем, справедливое суждение небесполезно уточнить. Реально и вещественно, у славянофилов берет начало еще не сама русская самобытная философия, а скорей лишь ее идея, мысль о ее «возможности и необходимости», говоря по Ивану Киреевскому. Здесь их родоначальной роли уже нельзя не увидеть. Еще в сороковых годах прошлого века, по свидетельству современника, «философия была в России запретным плодом и преследовалась как нечто вредное и совершенно лишнее для нашего общества» [1]
[Закрыть]. Косности предержащих противостояли ростки прогресса, молодые профессора-западники. Эти убеждены были, что дело русского просвещенья требует и овладения философией, однако таковое может лишь состоять в усвоении западных достижений и, в первую голову, новой немецкой метафизики; никакой иной философии нет и не может быть. Одни Киреевский и Хомяков сказали, что философия потребна и суждена России в порядке внутреннем, а не внешнем, в порядке органической жизни русской культуры – а не потому что надобно быть не хуже умных соседей. И такая внутренне необходимая философия, говорили они, не может быть попросту позаимствована. «Наша философия должна развиться из нашей жизни» [2]
[Закрыть]; она должна быть в живой связи с истоками нашей истории и культуры, служа их раскрытию. И тогда она явит собою «любомудрие самостоятельное, соответственное основным началам древне-русской образованности», хотя и впитавшее «все вопросы образованности современной, все логические истины, добытые наукою» [3]
[Закрыть]. Это самостоятельное любомудрие, повторим, еще не воплотилось у них; однако они сумели ясно увидеть его пути и отчетливо сформулировать его проблемы.
Две кардинальные темы, поставленные славянофилами, сделались вечными спутницами русской мысли до сего дня: историософская тема самобытности и онтологическая тема соборности. Развитие первой темы есть общий вклад обоих основателей движения, Хомякова и Ивана Киреевского, а также, по справедливости, и Пушкина: не говоря о знаменитом письме к Чаадаеву, которое все – манифест русской самобытности, отдельные пушкинские тезисы в своей сжатой зрелости стоят трактатов: «греческое вероисповедание дает нам особенный национальный характер», «история России требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные из истории христианского Запада…». Иное – с идеей соборности. Идея эта, уловившая глубинную суть православной религиозности, самую «душу Православия», как гласит наш эпиграф, – в своем появлении была неразрывно связана с единственным именем – Хомякова.
«Соборный»: одно это слово содержит в себе целое исповедание веры» (2, 282) [4]
[Закрыть] , – писал Хомяков. Войдем, вслед за ним, в многослойный смысл слова. По своему ближайшему толкованию, соборность, как известно, обозначает некоторый признак или принцип, согласно которому члены некоторого собрания, некоторого человеческого множества связываются воедино и образуют между собою особого рода общность, именуемую соборное единство или же просто Собор. Иначе сказать, соборность есть определенный принцип собирания множества в единство – принцип связи, принцип соединения. Так говорит об этом сам Хомяков: «Собор выражает идею собрания, не только в смысле проявленного, видимого соединения многих в каком-либо месте, но и в более общем смысле всегдашней возможности такого соединения, иными словами: выражает идею единства во множестве» (2, 281). Возможны, и осуществляются в реальности, весьма различные виды единства множества, и суть Единства Соборного отчасти помогают раскрыть его противопоставления иным видам объединений. Так, Хомяков противопоставляет Соборное Единство – единству, которое образует груда песчинок, или единству, которое являет собою ряд кирпичей, уложенных в стену. В первом случае, единство является чисто внешним, нисколько не преодолевающим раздельности, разъединенности своих элементов, – а соборность, по Хомякову, предполагает связующее начало и реальную общность. Напротив, во втором случае элементы единства жестко подчинены целому, которое раз навсегда закрепляет их в одном неизменном положении. Тем самым, в таком единстве всецело отсутствует свобода, которую Хомяков предполагает важнейшим из всех предикатов соборности. Соборное единство противополагается также и разнообразным человеческим коллективам, которые складываются на почве общности каких-либо вещественных целей и интересов и которые философ называет ассоциациями или дружинами. Ибо держится оно, по Хомякову, отнюдь не общностью интересов, но связью духовной и нравственной, связью общей любви.
Но весь этот школьный способ образования понятий путем отличений и разграничений вовсе не составляет главного. Чтобы войти в существо учения о соборности, необходимо прежде всего уяснить род этого учения, а также и метод, каким его развивает Хомяков. Соборность есть понятие богословское, а более конкретно – экклезиологическое. «Соборный» – один из четырех атрибутов Церкви, указанных в Никейском Символе; он синонимичен старому термину «кафолический» и соответствует греческому katholikos, происходящему, в свою очередь, от выражения kat’holou, «по всему или по единству всех» (Хомяков) и означающему «всеобщий». Итак, речь идет о построении богословского и, точнее, экклезиологического учения; соборность должна выражать специфический характер того единства, каким является Церковь. Что же до метода, то в его основе – одна главная особенность: конкретно-опытный, а не отвлеченно-спекулятивный характер мысли Хомякова. Говоря о Церкви, он не столько строит теорию, сколько выражает личный, пережитый до глубины, опыт собственной жизни в Церкви. И эту черту все исследователи неизменно выделяли как самое заметное, центральное в его творчестве. «Хомяков жил в Церкви»: к такой формуле приходит Юрий Самарин, подыскивая, как выразить главное отличие его жизни и личности. «Хомяков подошел к существу Церкви изнутри, а не извне… в его богословии выразился живой опыт Православного Востока», [5]
[Закрыть] – не мог не заметить и Бердяев, хоть сам был далек от этого живого опыта. Но всего глубже и точней сказал о богословском способе Хомякова другой православный экклезиолог, о. Георгий Флоровский: «Хомяков исходит из внутреннего опыта Церкви… Он сознательно не доказывает и не определяет, – он свидетельствует и описывает. В этом и сила его. Как очевидец, он описывает реальность Церкви, как она открывается изнутри, чрез опыт жизни в ней. Богословие Хомякова имеет достоинство и характер свидетельства» [6]
[Закрыть].
Учитывая этот опытный, феноменологический характер учения Хомякова, попробуем его изложить в том же элементе «описания изнутри». Выберем одну из сводных хомяковских формул-дефиниций: Соборное Единство есть
«единство свободное и органическое, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви» (2, 101)
– и последовательно раскроем, вслед за автором, каждый из ее членов.
На первом месте стоит свобода – и это далеко не случайно. Для Хомякова свобода – коренной и основополагающий атрибут, сочетание которого с единством уже, в известном смысле, достаточно для осуществления соборности. По другой из его формул, соборность есть «тождество единства и свободы, проявляемое в законе духовной любви». Уже здесь начинает достигаться метафизическое углубление: в таком тождестве выступает особенная природа Соборного Единства. Для эмпирического бытия свобода и единство – антиномические, несовместимые начала. Свобода здесь – свобода личного самоутверждения, которая лишь временно и условно, в порядке преходящего совпадения интересов может создавать то или иное единство. Но, вглядываясь, как истый феноменолог, в реальность Церкви, Хомяков узревает в ней совершенно иную, хотя не менее несомненную свободу, как и иное соотношение начал свободы и единства. Здесь свобода не только не разрушает единства, но порождает его, так что единство Церкви – «плод и проявление свободы». Ближе всего, эту свободу, присущую соборности, можно определить как свободу самоосуществления в истине. Это нечто весьма отличное от привычных категорий свободы воли или свободы выбора в западной философии и теологии. Элемент выбора совсем не входит сюда, речь идет о выражении определенной и единственной истины. Однако с пребыванием в соборности как в некой особой стихии такое выражение становится актом свободы, ибо истина здесь имеет характер полной и непосредственной внутренней очевидности. В результате, свобода – не что иное как сама же истина, воспринятая жизненно, ставшая внутренне преображающею силою. И мы видим, что концепция Хомякова, при всей своеобычности, прямо восходит к новозаветной установке, данной знаменитым девизом апостола Иоанна: «Познайте истину и истина сделает вас свободными». Важнейший признак такой свободы – ее связь, срастворенность с благодатью. Устойчивая формула Хомякова – «просвещенная благодатью свобода», так что, по сути, в его понимании свобода идентична аскетическому и патриотическому понятию синергии, тогда еще незнакомому русской мысли. Об этом еще будет речь ниже. А пока подчеркнем: разбор уже первого атрибута Соборного Единства заставляет заметить, что это единство выступает, по существу, как некий особый мир, где категории и законы обычного эмпирического мира глубоко трансформируются. Этот предварительный вывод подкрепляется, как только мы переходим к дальнейшим атрибутам.
Следующий из атрибутов соборности – ее органичность. К Церкви, Соборному Единству, Хомяков систематически прилагает выражение «живой организм», и это – одна из центральных категорий его мысли. Она трактуется ничуть не метафорически. Соборное Единство понимается как живой организм в подлинном и прямом смысле: это есть единство, составляющее автономную и самодовлеющую цельность, которая наделена собственною жизнью, несет в себе источники этой жизни и по-своему изменяет, преобразует все, что входит в ее состав. Всякий член Соборного Единства, входя в него, обогащается за счет приобщения к его жизни, и в этом обогащении испытывает коренную трансформацию. Так пишет об этом Хомяков: «Всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь… Индивидуальность… расширяется в сфере высшей жизни, к которой она относилась бы как живая частица к целому» (2, 100; 103). Но важно подчеркнуть и другую сторону: хомяковская трактовка органичности не значит органицизма, не снижается в натурализм и биологизм. Философ никогда не дает оснований думать, что его «живой организм» – земной, биологический организм или хотя бы таков же; напротив, между ними видна отчетливая разделяющая грань. Мы видим у него также выражения «духовный организм», «живая личность», которые, как и «живой организм», прилагаются к Церкви и все понимаются равносильно. Отсюда явствует, что органичность у Хомякова – категория не органического, а скорее персоналистского миропонимания.
Органичность Соборного Единства приводит к ряду его характерных отличий. Всякая жизнь, прежде всего, иррациональна и неформализуема, ее сущность неуловима для внешнего наблюдателя, – и все эти особенности, по Хомякову, в полной мере принадлежат и Соборному Единству. Оно не имеет никаких формальных, известных заранее признаков и проявлений, по которым можно было бы опознать и удостоверить его. Его определяющие признаки невидимы, неразличимы не только для чувственного восприятия, но и для рассудочного, рационального познания. Нельзя логически доказать эти признаки и, более того, нельзя заключить неоспоримо даже о простом наличии Соборного Единства. Но вместо этого оно способно само заявить о себе. Так что, в итоге, достоверные сведения о нем вполне возможны, однако они могут иметь всего единственный источник: собственные свидетельства его о самом себе. Так говорит Хомяков: «Церковь не доказывает себя, но свидетельствуется собою» (2, 7).
Однако как же осуществляется такое самосвидетельство Церкви? По Хомякову, способ и здесь единствен, и заключается он в изъявлении всеобщего согласия всех членов. В самом деле, при полной непостижимости законов и норм Соборного Единства, мы лишь в одном случае можем достоверно узнать, что то или иное свойство, действительно, присуще ему: именно, когда эту присущность признают без изъятия все те, кто сам пребывает внутри, в лоне Соборного Единства, кто суть члены его! Таким образом, согласие – единственно возможная форма свидетельства. Как таковое, оно должно рассматриваться как особая категория хомяковской мысли. Но важно заметить, что, входя в учение о соборности, эта категория испытывает переосмысленье и сдвиг по отношению к привычному эмпирическому значению – сдвиг точно такой же, какой мы выше отметили для понятия свободы. Обычно согласие понимают как «согласие в мнениях и целях», как единомыслие и единочувствие; и здесь это понимание заведомо неадекватно. О. Сергий Булгаков подчеркивает: «Единение в мнениях создает секту, школу, партию, которые могут быть отменно сплочены и однако оставаться столь же удалены от соборности, как и войско, руководимое одной властью и одной волей» [7]
[Закрыть]. По меткой формуле о. Сергия, соборность значит «не единение в объекте, а единение в субъекте, в ипостасности»: не согласие во взглядах на некие предметы и цели, а согласие в особой премирной и личной (ипостасной) природе своего собрания и себя самих, его членов.
Наконец, последними в дефиниции Хомякова стоят элементы, без сомнения, первые по значению: благодать и любовь. Подобно свободе и согласию, они открывают те измерения Соборного Единства, за счет которых оно заведомо превосходит пределы бытия, органического в узком смысле. В их свете отличие между «живым организмом» Церкви и организмом природным обрисовывается со всей конкретностью и оказывается самым радикальным: онтологическим. Связующая сила соборности – любовь, начало духовное и нравственное. И в метафизике, и в теологии это начало известно во многих формах. Наряду с формами, которые ограничены горизонтом здешнего бытия, принадлежа сфере психологии и морали, существует любовь как принцип онтологический: любовь совершенная и божественная, выражающая норму иного порядка бытия. И, разумеется, она и только она есть «живое начало» соборности: это прямо диктует утверждаемый хомяковской формулой благодатный характер соборной любви. Через начало любви в Соборном Единстве действует благодать, Божественная энергия, – и тем оно вводится в порядок Божественного бытия. «Взаимная любовь, дар благодати, есть то око, которым христианин зрит божественные предметы» (2, 172). Точно так же, мы видели, только по дару благодати устрояется в Соборном Единстве гармоническое сочетание, тождество свободы и единства; это – «единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению» (2, 217). Это же можно сказать и про ипостасность Соборного Единства, с которою связана специфическая природа соборного согласия. И точно так же, вне начала благодати не мыслится Хомяковым и органичность Соборного Единства, коль скоро «живой организм» Церкви животворится лишь даром благодати, духовной любовью. Таким образом, каждый из атрибутов Соборного Единства стоит в коренной связи с благодатью, и этою связью просвещается и преображается, приобретая особенный, не тот, что в эмпирии, характер. И потому благодать – это не один из атрибутов, но самый источник соборности, а в терминах философских – ее онтологическая предпосылка и конститутивный принцип.
Итак, наше краткое обозрение «соборной формулы» Хомякова оказалось, по существу, раскрытием одного главного вывода: вывода о благодатной и сверх-эмпирической природе Соборного Единства, о его принадлежности горизонту Божественного бытия. «Соборность в понимании Хомякова, это – не человеческая, а Божественная характеристика» [8]
[Закрыть], – констатирует и о. Георгий Флоровский. Этим существенно уточняется характер учения о соборности: перед нами не просто экклезиологическое учение, но, в первую очередь, – учение о Церкви мистической и невидимой, о Церкви как мистическом Теле Господа. Исток и основа этого учения – проповедь ап. Павла, и с нею мысль Хомякова пребывает в особой и теснейшей связи, прямо к ней восходя не только своими положениями, но и самим своим духом, своею воодушевленной и проникновенной речью. Это «избирательное сродство» отмечали не раз; как пишет современный православный философ, богословие Хомякова «овеяно близостью внутренней к писаниям ап. Павла или, вернее, созерцанием того, о чем говорил, что созерцал и чем жил ап. Павел» [9]
[Закрыть]. И лишь в этом свете можно верно понять принцип соборности, его место и его существо как выражения природы Церкви мистической.