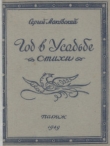Пленная Воля

Текст книги "Пленная Воля"
Автор книги: Сергей Рафалович
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 12 страниц)
«Безветренные солнечные дни…»
Во всех делах есть смысл и цель,
И все творимое полезно.
Но тростниковая свирель
Какой блюдет закон железный?
Где семя пало, зреет плод,
На камне вырос дом высокий.
Но что творят из года в год
Стихов размеренные строки?
За звуком звук низать на нить
Неосязаемого лада,
Слова созвучные ловить
И, сочетая, ставить рядом,
И бросить в мир, как в решето,
Где звук и речь бесследно тают, —
Глупей занятия, чем то,
Игры бессмысленней не знаю.
И разве не похож на нас,
Бездельников нагих и гордых,
Нагой и тощий папуас,
Продевший медный обруч в ноздри?
«Покорны мы тяжелому наследью…»
Безветренные солнечные дни
На рубеже меж осенью и летом.
Но стало чуть прохладнее в тени,
И медлит ночь, свежея пред рассветом.
В тяжелых гроздьях сочный виноград
Янтарный блеск струит по горным скатам,
И золотом отягощенный сад
Костром недвижным рдеет в час заката.
Все знает ласковая тишина,
И нежная не ропщет примиренность.
Природа, как родившая жена,
Влюбленную забыла напряженность.
Как непонятно в этот тихий час
Покорного и ровного цветенья
Бессмысленно тревожащее нас,
Безудержно растущее смятенье.
Иль в самом деле по родной земле,
Такой знакомой и такой смиренной,
Прошел с повязкой красной на челе
Двойник Христов, мертвящий и растленный.
За миг сомненья, Господи, прости.
Огонь слепит и оглушают громы.
Но как земле и в бурях не цвести
Такой смиренной и такой знакомой.
Алушта. 1917
«Разрыхленную землю попирая…»
Покорны мы тяжелому наследью
Неистовых и сумрачных веков,
И кровь струит расплавленною медью
По нашим жилам волю мертвецов.
Давно ли мы отстроили хоромы,
Сокровища собрали в города?
И вот опять, забытый, но знакомый
Позыв влечет неведомо куда.
И вот опять воинственные клики
Пленительнее песен и побед;
И где пройдем, за нами стон великий
Ползет унылым вестником побед.
Из темной глубины средневековья
Мы двинулись, и Запад узнает
Кочевников мгновенные становья,
Костры, обозы, падаль и помет.
И оттого поля повсюду голы
И толпы треплют рубище владык,
Что в нас проснулись темные монголы
И рты оскалил их гортанный зык.
«В земле не корни – провода…»
Разрыхленную землю попирая,
Не говорим усопшему: восстань!
Но божеству неведомого рая
Века былые обрекаем в дань.
Песок просеем серый и сыпучий,
Чтоб золото осело в решете,
И вытряхнем на медленные тучи
Бесцветный пепел наших бледных тел.
А в полыме, по всей земле широкой,
Живые души плавя как руду,
Мы выкуем и прихоти и року
Единую железную узду.
Гордись, Россия, тягостным почином,
Явись народам, кровью залита,
И собирай по кручам и равнинам
Вселенную, как новый Калита.
«Золотые горят купола…»
В земле не корни – провода,
Не крылья в небе – гул моторов;
А город хрюкает как боров
И не уходит никуда.
Везде шипы, винты, зубчатки,
Слепящий вихрь маховика,
И напряженная рука
На неподвижной рукоятке.
А в темном логове домов
Сутулятся худые плечи
И мир с покорностью овечьей
Простерт в ряды немых значков.
Не притчи заклинанья эти,
Не гимны эти письмена.
Но где блаженная страна,
Чье солнце ярче солнца светит?
Не улетишь, не уплывешь
И в глубь земли не вроешь корни,
И только ползаешь проворней,
О человеческая вошь.
Да, все твое, и блеск, и грохот,
И даль, и глубь, и синева.
Но чей, но чей во всех словах
Все явственней злорадный хохот?
«За все, чему я жадно верил…»
Золотые горят купола
За полями, рекою и рощей.
Там когда-то я жил, и была
Эта жизнь и свободней и проще.
В белых стенах уют и покой,
И работа и сон безмятежны.
Все осталось за тихой рекой,
Точно в дальней стране, зарубежной.
Как просторно и вольно кругом,
Бездорожные шири открыты.
Не хочу я молиться о том,
Что казалось давно позабытым.
Сердце громко стучит и беду
По привычке тяжелой пророчит.
В тесной келье теперь я найду
Злые дни и бессонные ночи.
Баку. 1918
«В сорок третий раз весна…»
За все, чему я жадно верил,
На что с собой тебя обрек,
За невозвратные потери,
За долгих дней недолгий срок,
За страсть блаженную и злую,
За горький хмель твоих измен,
За ту, чьи губы я целую,
Касаясь ласковых колен,
За то, что скорбные морщины
Остались от забытых слез
И неповторен запах тминный
Твоих каштановых волос, —
Неутолимая, земная,
Непокаянная, – за все
Прости, забвенно поминая,
Мое забвенное житье.
«Хранить, забыв о мире близком…»
В сорок третий раз весна
Предо мной зазеленеет.
Чем я старше, тем она
Бестревожней и нежнее.
Воздух синий потеплел,
Ярче свет и мягче тени,
И опять, как прежде, бел
Первый звон и цвет весенний.
О минувшем не тоскуй:
Жизнь бессмертна только в песне;
Прошлогодний поцелуй
На устах иных воскреснет;
И чем ближе подойдешь,
Чтоб прочесть немые знаки,
Тем желтее будет рожь,
Тем краснее будут маки.
И грядущая весна
Оттого былых нежнее,
Что в цветущих письменах
Быль моя зазеленеет.
«Если я на грозный суд восстану…»
Хранить, забыв о мире близком,
Огонь зажженный не тобой,
Пред алтарем склоняться низко
С привычной, строгою мольбой;
Не ждать ни радости мятежной,
Ни сладко вяжущей тоски,
Не отвечать улыбкой нежной
На нежный зов чужой руки;
Но день за днем, за годом годы,
В благоговейном забытьи,
Сердцам, возжаждавшим свободы,
Смиренно освещать пути,
И в час блаженного успенья
Окончить жизнь как тяжкий труд,
Не зная, что твое служенье
Любовным подвигом зовут.
«Как муравейник мир кишит…»
Если я на грозный суд восстану,
Будет скорбь заступницей за грех;
Всю в слезах увижу донью Анну
И услышу Дульсинеи смех.
Этих слез не смыть с лица земного,
Смеха грубого не заглушить.
Скажет Бог: сойди на землю снова
И не бойся снова согрешить.
И в тумане тающем и свежем
Из-за леса мне блеснет восход.
Все, как прежде, да и вы все те же,
Дон-Жуан и рядом Дон-Кихот.
Не изведать вечного блаженства
Всем дерзнувшим на земле любить,
Тем, кто в мире ищет совершенства,
Тем, кто жаждал мир преобразить.
«Святой Никола ищущим поможет…»
Как муравейник мир кишит,
Как сыч в дупле от жизни прячусь,
И в ночь гляжу, и от души
Не засмеюсь и не заплачу.
И знаю, люди говорят:
Он равнодушен и разумен,
И в меру сыт, и в меру свят,
Полукупец, полуигумен.
И люди правы. С детских лет
Для их труда, для их забавы
Во мне ни слез, ни смех нет,
И если нет, то люди правы.
Но ты, чья бурная весна
Насыщенней любого лета,
Чья плоть, как сумерки, темна,
А взгляд, как нежный луч рассвета,
Ведь ты не скажешь никому,
Что безрассуден друг далекий,
Что жадно он глядит во тьму,
Где тает призрак светлоокий,
Что грех и подвиг – лишь слова
Без оправданья и значенья,
Что одиноко лечь в кровать,
Быть может, злейшее мученье.
А если скажешь, промолчи
О том, что это наша доля,
Что мы одни, как сыч в ночи,
Как ветер средь пустого поля.
Святой Никола ищущим поможет,
Пантелеймон болящих исцелит.
Но я молюсь все истовей и строже,
Чтоб замолить блаженный грех любви.
Когда душа проклятой муке рада
И плоть моя как лук напряжена,
Мне помощи угодников не надо,
Чтоб злую чашу осушить до дна.
И вот стою, обретший, утоленный,
Безрадостно свободный от оков,
И в тишине души опустошенной
Немое бремя двух земных грехов.
Еще звенят распавшиеся звенья,
Но мертвый звон сердца не оживит.
Не искуплю я светлый грех забвенья,
Не замолю я темный грех любви.
Париж, 1923
Из сборника «ТЕРПКИЕ БУДНИ» (Париж, 1926)
Мелите
I
Сверкало солнце и жужжали пчелы,
Горячий ветер в листьях шелестел,
Гудел с ним на море прибой веселый
И скалы, точно груды обнаженных тел,
Недвижных и трепещущих блаженно,
Одною жизнью жили со вселенной.
Но день бледнел, бледнел и гас,
Пока не наступил предсумеречный час
На склоне дня, на зыбкой грани мрака,
Тот час, который мы зовем
Не ночью и не днем,
А часом между волком и собакой.
Стихал прибой, тускнел закат,
Улегся ветер, смолкли пчелы;
Густой и пряный аромат
Накрыл плащом незримым долы.
Все четким стало и чужим,
Прозрачно-призрачным и жутким,
И притаился – недвижим —
Весь мир земной, и сердце с ним,
Как странник медленный и чуткий.
Немая, светлая тоска
Неслышно в душу проникала;
И вдруг, острей, чем сталь клинка,
Мелькнуло острой мысли жало
И боль глубоко в плоть впилась.
О старость, старость, не тебя ли
Впервые слух и взор объяли
В тот напряженно-тихий час?
Алушта. 1917
Не верь свидетельствам простым
Ни рук твоих, ни глаз, ни слуха…
Над крышей вьется легкий дым,
Жужжит за плотным ставнем муха;
Потертый, кожаный диван
Просторней и свежей постели,
И пыльный томик – Мопассан —
Лежит нетронут две недели;
Усадьба спит полденным сном,
И лишь порой, неугомонный,
Мальчишка тонким голоском
С реки пронзает воздух сонный.
Все это было много раз
И так привычно, так знакомо;
Но стали сказкою для нас
Заглохший сад со старым домом.
Не верь ни слуху, ни глазам:
Улики нет былому мигу;
Мы жизнь читаем по складам,
Как дети маленькие книгу;
И лишь иным бывает знак
И явен темный лик мгновений,
Как обнажают наш костяк
Лучи высоких напряжений.
Париж. 1925
Должно быть, в карты или в кости
Или побившись о заклад,
Я проиграл лихому гостю
Все то, чем стал бы я богат.
Когда и как случилось это:
В бреду ли или с пьяных глаз?..
Но час расплаты – черный час —
Наверно, был отмечен где-то.
Все чаще в жуткой мгле ночей
И днем средь гула городского
Мелькает взгляд – не знаю, чей, —
Звучит неявственное слово.
И что печали прежних лет,
Тоска разлук и скорбь утраты,
Когда на сердце горя нет,
И все ж оно тисками сжато?
Давно не помнит ни о чем
И только бьется торопливо,
Как будто за моим плечом
Расчета ждет игрок счастливый.
Париж. 1925
Как жемчуга поддельного мерцанье,
Утеха обнищавших богачей,
Остались мне одни воспоминанья
Моих былых и подлинных страстей.
И где они, доверчивые жены,
Мгновенные попутчицы мои,
Восторг томительный ночей бессонных
И щедрая безудержность любви?
Они ушли, к другим или в могилу,
Ушли они, как молодость прошла,
И только память с верностью постылой
Еще глядит в пустые зеркала.
Но я живу и памяти не верю,
Гостей приблудных в гости я не жду,
И пусть они скулят за темной дверью, —
Не выйду к ним и в дом не поведу.
Мне жизнь была причудливой затеей,
И в мудрости я не был уличен;
Но твердо знаю, что всего глупее
Я буду в день моих же похорон.
Париж. 1925
Есть краткий миг, когда сильнее смерти
Пышнее жизни нищая любовь,
И кажется, что жернова часов
Судьба неугомонная не вертит.
Но миг пройдет, как все проходят миги,
Очнемся и увидим, что кругом
Ничто не изменилось: те же книги
Вдоль стен и тот же грохот за окном;
Привычный голод в утомленном теле,
И холодно и стыдно быть нагим;
И каждый шаг, когда сойдем с постели,
Ведет туда, где рок неумолим.
Гудит толпа, снуют автомобили,
Как проститутка город разодет;
И денег хмуро ищем на обед,
Забыв о том, как царственно любили.
Париж. 1924
У модных лавок, где бока
Мне отдавили парижане,
Я в стеклах вижу двойника,
Каким он был бы на экране;
И бледность строгую свою,
И рот с усмешкою короткой,
И взгляд упорный узнаю,
И торопливую походку.
Когда под низким потолком
Заснув, себя я вижу в небе,
Мне так же облик мой знаком
И соблазнительно враждебен;
И возвратясь издалека,
С усильем тяжким отстраняю
Такого точно двойника,
Каких в витрине оставляю.
Оставил там, где пустота,
И не оставил – уничтожил;
И снова – улиц пестрота,
Толпа, и я, ни с кем не схожий.
Но тщетно разум шепчет мне
Про сонный бред и отраженье:
В его словах, как при луне,
Одно сплошное наважденье.
И надо где-нибудь присесть
И, выпив кофе подогретый,
В газете биржу перечесть, —
Чтоб вновь поверить жизни этой.
Париж. 1925
Рояль, бандура, барабан, и скрипка,
И резвая трещотка с бубенцом.
Их пятеро, чернявых с кожей липкой,
И много нас внизу, полукольцом.
Мы слушаем, глядим, сейчас запляшем,
Запляшем так, как пятеро хотят;
Их бойкий лад хмельней, чем зелья наши,
И прямо в кровь струится этот яд.
Пять лет войны, семь лет, ни с чем не схожих,
Расплаты с прошлым, худшей, чем война, —
Не оттого ли бредом чернокожих
Европа, как дикарь, упоена?
И следуя за юношей безусым,
Прильнувшим к даме с задом битюга,
Должны мы трепыхаться, как зулусы,
Зажарившие пленного врага?
Париж. 1925
Двенадцать раз, затем еще двенадцать
Пробьют часы, и в бездну канет день.
Оглянешься – пустая дребедень,
А мир стоит, и люди суетятся.
Как лист газетный, где печать сыра,
Был каждый миг соблазном и приманкой;
Но вечер мертв задолго до утра,
А утро – тот же вечер наизнанку.
Глодать ли кость, глотать ли трюфеля,
Любить искусство, женщин или скачки, —
Все так же тупо вертится земля
Слепою клячею на водокачке.
Париж. 1925
Я устал – слова сказались сами,
Это страшно, внять еще страшней.
Но гудит земными голосами
Дальний хор моих забвенных дней.
Так привычны стали мне поминки,
Точно мертвых больше, чем живых;
Замечаю тонкие былинки,
А дубов не вижу вековых.
И на что мне пышность долголетий,
Медный звон во все колокола,
Если вечность – луч, пронзивший сети,
Или быстрый зов из-за угла?
И не только ни жене, ни брату
Не понять, но сам не разберу,
За какую призрачную плату
Я служу нездешнему добру.
Париж. 1924
Скупой, он расточает силы,
Дела и думы долгих лет,
Чтоб мир презренный и постылый
Стал звонким золотом монет.
Но ведь такой же, несомненно,
Стяжатель я и жалкий мот,
Бросая в мир самозабвенно,
Что каждый цепко бережет,
И накопляя прихотливо
Взамен растраченного дня,
Гуденье мерное прилива
И свет, идущий от огня.
Париж. 1924
Нет, не отдам я жизни этой,
Размеренной и трудовой,
Где песни древние допеты
Под гул машин по мостовой,
Где с каждым днем бледнее зори,
Томительнее вечера,
И лишь одни слепые взоры
Пронзают ночь – прожектора.
Но не с презреньем, не с упреком,
Не возгордившись, не скорбя, —
Я мир отверг взметенный роком,
Стыдясь за самого себя,
Что так мне мил поблекший, строгий
И стройный дедовский уклад,
Что дни накатанной дорогой
Так незаметно прошуршат.
Париж. 1924
И я дрожал от холода в квартире,
На голых досках отлежал бока,
Одну селедку ел, и с родника
Таскал ведро – версты четыре;
И слушал в мертвой тишине ночей
На гулкой улице шаги и шорох,
И знал, что люди есть страшнее вора,
Сородичи – врагов лютей.
А вкруг меня творилось злое дело,
Такое злое, что не скажешь вслух:
«Тюх-тюх – подскочит смертник – как петух,
И в яму бахнет неживое тело».
Семь лет прошло, семь лет иль семь столетий,
Я вышел из заклятого кольца,
Но сытого стыжусь лица
И дней, которым солнце мирно светит.
Осталась, видно, зябкая тоска
На дне души, как яд на дне стакана,
Как холодок щемящий от нагана
Чуть ниже левого виска.
Париж. 1925
Люблю уют жилых покоев,
Ковер шершавый на полу,
Узоры выцветших обоев
И кресло низкое в углу;
На тахте мягкие подушки,
На полках книги; по столам
Разбросанные безделушки, —
Весь этот скарб и этот хлам.
От жизни долгой и упорной,
От чинных радостей и бед,
Как некий лик нерукотворный,
Остался всюду блеклый след.
Но знаю я часы иные,
Когда под небом голубым,
Неотвратимые, немые,
Предметы тают словно дым:
Клубятся каменные стены,
Струится под ногами пол,
И стол, такой обыкновенный,
Уже совсем не прежний стол;
И сразу все, что было мило,
Ненужным станет и чужим:
Протяжный зов автомобиля
И гул над городом большим;
В толпе лицо на миг родное,
Любовь сулящий трепет век,
И ласковый уют покоев,
Где жил и умер человек.
Всему, что есть, я знаю цену,
Но эту дикую игру
Люблю как светлую измену
Земному, темному добру.
Париж. 1925
На людной площади, в базарной толкотне,
Под тусклым солнцем зимнего полудня,
Увидел я Тебя таким, каким Ты в буднях
Был некогда в чужой нам стороне.
Одет как все, русоволос и бледен,
Ты проходил, не узнанный никем,
Ненужный никому; а между тем
Во всех церквах звонили от обеден.
Ты был один – и были в мире люди;
Прошли века, хоть только миг протек;
И огненный во мне зардел цветок
Как непреложное свидетельство о чуде.
Расплавленный струится он в крови,
Печатью на сердце лежит заветной.
А вера, вера – лишь туман рассветный,
Лишь синий дым над пламенем любви.
Париж. 1916
Давно меж нами нет согласья,
И наша близость – звук пустой —
Но стали мы не в одночасье
Такой несхожею четой.
Былые дни, как лист осенний,
Шуршат и памятны двоим;
Но зорче я, она – смятенней,
И каждый о себе – молчим.
Так повелось: не споря с нею,
В том убедился я давно,
Что все, чем я теперь болею,
Ей непонятно и смешно.
Но сказке самой простодушной,
Где о любви идет рассказ,
Она не может равнодушно
Внимать, и плачет каждый раз.
А я, любивший слишком много,
Казню свой опыт старика
За то, что в ней, седой и строгой,
Такая юная тоска.
Париж. 1926
II
Безбрежный мир доступен оку,
Воспоминаньям иль мечтам.
Но я – твою целую щеку,
Но я – тянусь к твоим устам.
Гудят часы, бурлят мгновенья,
И нет отбоя от забот;
И только в этот круг томленья
Мой терпкий день не забредет.
Я с ним расстался на пороге
Того глухого забытья,
Где соблазнительный и строгий
Мне внятен шепот бытия,
И тает мир, доступный оку,
Воспоминаньям иль мечтам,
Пока твою целую щеку,
Пока тянусь к твоим устам.
Париж. 1926
Торжественной увенчаны луной,
Звучат ночные дифирамбы,
И медленно скандирует прибой
Трагические ямбы.
Менады спят тяжелым, жарким сном
На виноградниках Тавриды,
Покрытые серебряным плащом
Стыдливой Артемиды.
На склонах гор повисли огоньки
Каких-то хороводов древних,
И словно неба звездного куски —
Татарские деревни.
Он жив, он жив, языческий пэан,
Рожденный в рощах Элевзинских.
К чужой земле припал великий Пан,
И плещет Понт Эвксинский.
Алушта. 1917
Прижалась к берегу недальняя дорога,
Встал на дыбы прибрежный ряд холмов,
И к бледной синеве, спадающей полого,
Уходит море медленно и строго,
Как грузный зверь на свой звериный лов.
Застыл в горах размах тяжелой пляски,
Тысячелетен лад дробящейся волны,
И только люди, как на сцене маски,
То радостной, то горестной развязки
Для быстрых игр искать принуждены.
Вон там, где узкие меж двух морей ворота,
Сражались воины полсотни городов,
И не было в их мужестве расчета,
Но лишь о чести и любви забота
И мера будущих эпических стихов.
И путь от родины продолжив в наши дали,
Когда-то мимо этих берегов
Проплыл корабль, чьи паруса сверкали
Тем золотом, которого искали
Пловцы суровые и чтившие богов.
А в буйный век, изнеженный и грубый,
Смиренных подвигов и дерзостных измен,
Пока гремели крестоносцев трубы,
Средь диких скал лобзал девичьи губы
И в рабстве страсти царственный Комнен.
И вот зыбуча, как пески морские,
Под нами твердь, и даль я стерегу,
Где Илион, Эллада, Византия, —
Меж тем как за руном пустилась в путь Россия
И дочь Андроника стоит на берегу.
Алушта. 1917
Кострами снежными вершины
Горят под небом голубым;
На каменистом дне долины
Лениво движутся арбы.
Меж виноградников и пашен,
Где осень жатву собрала,
Церковных шестигранных башен
Чуть серебрятся купола.
И не колебля воздух сонный,
Где спит, как в люльке, тишина,
Настойчиво и заглушенно
Тягучая звучит зурна.
Стаканы мерно зазвенели,
И стройным песням старины
Внимает бледный Руставели —
Из рамы темной, со стены.
Цинандали. 1917
Все напряженней и любовней
Смотрю я в сумрачную даль.
Синеет купол над часовней,
Где молится моя печаль.
Она приветливо мерцала
Мятежной прихоти моей
В прозрачном золоте бокала
И в темном золоте очей.
Теперь всему я знаю цену,
Не изумляясь ничему
И даже горькую измену
Простил бы сердцу моему.
Но безрассудных упований
Оно, как в юности, полно,
Пока над Верою, в духане,
Пью кахетинское вино;
Иль по равнине проезжаю,
Где твой белеет отчий дом;
Иль одиноко засыпаю
В дворце старинном и пустом.
Не все исполнится, что снилось,
И не о том моя мольба.
Листом осенним закружилась
Моя осенняя судьба.
И грустный шепот листопада
Под тающим огнем зари
Старинным, заглушенным ладом
О блудном сыне говорит.
Цинандали. 1917
Струею ровной жизнь текла,
Сменялись мерно свет и мгла,
И ласково земная ширь
Очаг покойный облегла.
Мелькали дни, и годы шли,
На уголь тлеющий зола
Ложилась мягкой пеленой.
И не страшна и не мила,
Едва заметная вдали,
Могила тихая ждала.
Сумел бы я свой век дожить,
Не сотворив добра, ни зла.
Но Бог иль рок судил не так:
Я вышел в сад – и ты прошла.
Баку. 1918
Кружатся дни земные и светила,
Сметает вихрь и листья и мечты.
И вот уж нет того, что мне дарила,
Что мне дарила ты.
Проходит рок, суровый и надменный,
Насмешливо прищурилась судьба;
А я стою, усталый и согбенный,
С цигаркою в зубах.
Дымлю, дымлю в лицо судьбе и року,
И этот дым – увы! – вся жизнь моя.
Не верю я ни Богу, ни пророку,
Ни в дальние края.
Все изменяет тем, кто не умерен,
И всем желанный гость, кто умален.
Но сердце, сердце, тихий звон вечерен
Не твой тревожный звон.
Ни меры нет, ни срока, ни предела
Для истины и прихоти твоей.
Ты – все, что есть: душа моя и тело,
И мир, и смена дней.
И что в тебе неугасимо тлеет,
Того вовек не может смерть пронзить.
Оно живет – все дальше, все милее —
Живет, как нужно жить.
Не умерло, что ныне вспоминаю,
Что умерло – о том душа молчит;
И памяти неслышные ключи
Гробниц не отмыкают.
Тифлис. 1920