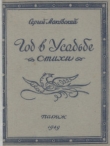Пленная Воля

Текст книги "Пленная Воля"
Автор книги: Сергей Рафалович
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
«Так ведь может жизнь пройти…»
Склонен всю жизнь над чуждой нивой,
словоохотлив или нем,
я исполняю, раб ленивый,
свой долг – не знаю, перед кем.
Я зябну в стужу, в зной мне душно,
и одиночество гнетет.
Но кто-то гонит равнодушно
живую плоть мою вперед.
Но кто-то, разум мой смущая
и дух свободный соблазнив,
замкнул врата земного рая,
раскинул ширь плодящих нив.
Служу ль всеблагостному Богу?
иль мой владыка – Сатана?
Но сердце вечную тревогу
таит, отравлено до дна.
Кому нужна моя работа?
кому желанны путь и цель?
и кто потребует отчета за долг,
не понятый досель?
Не лучше ль мне на черной пашне,
разворотив гранит и пни,
зарыть, глумясь, мой день вчерашний
и с ним все будущие дни?
чтоб навсегда во мгле могильной
я самовластно был простерт…
……………………………………
……………………………………..
«Не душа ль простужена?..»
Так ведь может жизнь пройти,
незаметно и бесследно,
час за часом, день за днем.
И когда навек уснем,
растворится призрак бледный
позабытого пути.
Не на пользу, не к помехе
воздвигались наши вехи
каждый день и каждый час.
Ничего мы не свершили,
не смирились, не грешили,
и никто не вспомнит нас.
Пусть не помнят – горя мало,
если б было нам самим
что-то мило, жаль чего-то.
Но захлопнутся ворота
прежде, чем мы разглядим,
что за ними нас прельщало.
Да и стоят ли того
люди, мир, и божество,
и мы сами, вместе с ними,
чтоб, сгорая, созидать,
сердце женщине отдать
иль мечтать о вечном Риме?
«Много светлых дней у Бога…»
Не душа ль простужена?
ах, не сердце ль зябнет?
Вмиг обезоружена,
мощь живая слабнет.
Над былой отвагою
веет жутью сонной.
Что-то в жилы влагою
пролилось студеной.
Этот холод внутренний
тягостней и хуже
зимней мглы предутренней,
лютой зимней стужи.
Ни костром, ни печкою
сердца не согреешь.
Самой яркой свечкою
мрака не рассеешь.
Вслед за ночью длинною
день настанет новый:
но души периною
не покрыть пуховой.
Срока не положено,
нет конца и края.
Стынешь замороженный,
ничего не чая.
Где искать спасения?
и о чем молиться?
ждать ли воскресения?
иль его страшиться?
«Христос воскрес. И солнце светит…»
Много светлых дней у Бога,
много бурь припасено.
Кто таится у порога?
кто глядит в мое окно?
Не судьба ли? но какая?
чуткий сон? иль жуткий бред?
не волшебница ль благая?
или попросту сосед?
Не ходите, не глядите,
не стучите в ворота.
Стерегут мою обитель
нищета и пустота.
Проходите, кто несчастен,
проходите, кто счастлив.
Я навеки сопричастен
лишь тому, чем сам я жив.
Где ты, где ты, чьи воздеты
руки с алчущей мольбой?
чьи приветы и заветы
стали тайной ворожбой?
Много светлых дней у Бога,
много бурь припасено.
И во мгле мелькнет дорога,
в чаше с горьким зельем – дно.
День настанет для свиданий
и опять, как в первый раз,
не познав конца заране,
мы начнем любовный сказ.
По ухабам и по топи
мы умчим свою арбу,
повернув спиной к Европе
окрыленную судьбу.
Люди, люди! Есть у Бога
все, чего хотите вы.
Но не всякому дорога
от Парижа до Москвы.
Три вечера
Христос воскрес. И солнце светит,
как будто не было на свете
суда, и казни, и креста,
ни дней томительного плена,
ни чаши, выпитой смиренно,
ни мук, смыкающих уста.
В сердцах ни радости, ни гнева.
О сыне тайно плачет дева,
таит невеста скорбь вдовы.
Пред былью огненной и свежей
дела и люди те же, те же,
и смерть приявшие – мертвы.
Три дня прошли – и гроб раскрылся.
Кровавый ужас позабылся,
тоска кровавая прошла.
И равнодушно солнце светит,
как будто не было на свете
ни жертвы благостной, ни зла.
Опять над сыном мать рыдает,
опять невеста ожидает
того, кто мертв и не воскрес.
И навсегда смежая вежды,
храним мы прежние надежды
и ждем несбыточных чудес.
Но Ты, кто распят был невинно,
не внес ли ныне в свиток длинный
еще один кровавый сказ,
как все, бесцельный и прекрасный,
как все, и властно и напрасно судьбой
измышленный для нас?
Париж 1914–1915
Мягкий сумрак пал с небес,
над землей встает туманом.
Почернел зеленый лес,
даль ушла к незримым странам.
И страшась ночных врагов,
к дому дом прижался робко,
за рядами огоньков
освещенная коробка.
Дышит в окна теплый май,
разгораются Стожары,
и жужжит светляк-трамвай,
вылетая на бульвары.
Хищник злой – раскрыл мотор
ослепительные очи,
и выходит на дозор
месяц – верный сторож ночи.
Сон покроет, словно щит,
тех, кто прошлым днем доволен.
А для бдящих зазвучит
звон нездешних колоколен.
Пыль, пустынно, пышет зной.
Город замер – от жары ли?
Раскаленной пеленой
воды Сенские застыли.
Дремлют чутко тут и там,
словно ждут во сне чего-то,
Триумфальные ворота,
Opera и Notre-Dame.
Только фура, грохоча,
грузно катится куда-то,
и блестит из-за плеча
штык уснувшего солдата;
да подъемля вихрем пыль
и скользя по плитам серым,
пролетит автомобиль
с ординарцем-офицером.
Близок вечер. Зной и тишь.
День пройдет, как день вчерашний.
Что ты видишь, ты, что бдишь
там, на Эйфелевой башне?
Прорезая синий блеск,
кто в поднебесье несется?
что за странный гулкий треск
над Парижем раздается?
Буйных отроков игра?
отголосок дальней брани?
Иль сегодня, как вчера,
немец прибыл на биплане?
Черной точкой промелькнет,
беззащитных в прах уложит?
и плюется пулемет,
но попасть в него не может?
И опять, как в прошлый час,
город замерший недвижим,
и прожекторы сейчас
засверкают над Парижем.
Папоротниковый цвет
Занавешенные окна,
ставни, замкнутые плотно,
ветер, дождь, ночная марь.
Ни моторов, ни трамваев,
только кое-где мерцает
непогашенный фонарь.
Мрачно, зябко, неуютно,
протянулися, как сукна,
продожденные торцы.
Все мертво, как на кладбище,
та же жуть враждебно рыщет
сквозь лачуги и дворцы.
Средь немых просторов сиро,
ждешь и в бурю цеппелина,
не боишься, но спешишь
в дом знакомый, к людям, к свету,
где насиженное место,
где тепло, уют и тишь.
Ах, не страшен враг свирепый,
не беспомощно воздеты
к небу робкие мольбы.
Только б сгинул призрак черный,
глухо каркающий ворон
неразгаданной судьбы.
Спящая царевна
В урочный час, под сенью полуночной
цветет цветок и указует клад
невидимый и недоступный людям.
Не жди чудес, но знай: не будет чудом
твоя удача, если в час урочный,
искатель бдящий, станешь ты богат.
В урочный час, как папоротник алый,
цветет в душе таинственный цветок
мгновенного и вещего прозренья.
Не пропусти короткого цветенья,
не спи, но бди, как в полночь на Купала,
чтоб в час урочный срок твой не истек.
«Две я знаю правды…»
Если б ты могла заснуть,
как царевна в сказке,
чтобы мне когда-нибудь
поцелуем разомкнуть
сомкнутые глазки,
был бы мне не тяжек труд
в скорби многодневной,
ибо все пути ведут
лишь туда, куда зовут
спящие царевны.
Но волшебниц в мире нет,
рыцарь безоружен.
И живи хоть двести лет,
для любовниц – не поэт,
а любовник нужен.
Сном волшебным не заснуть
той, кто жаждет ласки.
Что ж? Найдя кого-нибудь,
все на свете позабудь,
как царевна в сказке.
Слышу, слышу дальний звон,
дни опережая.
Но простит, кто был прощен.
Разве, милая, не сон
эта страсть чужая?
Встречи жду – не осужу
скорбно или гневно.
В очи бдящей погляжу,
в сердце бдящей разбужу
спящую царевну.
Русской женщине
Две я знаю правды,
третьей в мире нет.
Если чтил их, прав ты,
воин иль поэт.
Рай нам с чернокудрой,
с русой тоже рай.
Но, любовник мудрый,
лишь одну лобзай.
Выбрав ненароком
жребий свой и путь,
всем межам и срокам
стойко верен будь.
Даль иную помни
и другой удел.
Будь в каменоломне
кем ты быть хотел.
И, влеком блудницей,
не мечтай о той,
кто жила царицей,
умерла святой.
Но ничтожный с виду,
истину скрывай,
людям не завидуй,
к Богу не взывай.
«Как девушка, созревшая для страсти…»
Вышла ты тропою узкой
на проезжую дорогу,
на простор нестройный, русский,
незнакомый даже Богу.
И пошла в тревожной дреме,
неуверенно и стойко
от Фомы бродить к Ереме,
от обедни на попойку.
Побираясь, расточаешь,
жадно ищешь и не ценишь,
лишь возможного не чаешь,
лишь добытому изменишь.
И не видя во вселенной
цели светлой и убежной,
ты и в подвиге смиренна,
и в молитве ты мятежна.
А полюбишь – Боже! Боже!
страсть, как тучи, небо кроет…
Но средь женщин в мире кто же,
кто тебя, родная, стоит?
Конь Блед
Как девушка, созревшая для страсти,
в неведенье покорном и стыдливом,
по рощам и по нивам,
не ведая своей призывной власти,
созрела девственная плоть земли.
Века изжитые растаяли вдали.
Душа молчит пред тайною повторной
и плоти радостной, стыдливой и покорной
печальной мудростью путей не озарит.
Не в первый раз весеннее горит
над нами солнце. Не впервые ляжет
тяжелым бременем на девственное лоно
зерно любви и страсти утоленной
и станет матерью рожденная вчера.
Но в теле юном скорбна и стара
душа бессмертная, – и ничего не скажет.
Как тело девушки, зеленая листва,
пахучий мох и нежные цветы
в неведенье стыдливом
цветут и ждут, восстав из темноты.
И по лесам и нивам
безвольно шепчут древние слова,
чей тайный смысл невнятен им доселе,
трава, и ландыши, и ели.
И жутко мне и стыдно быть таким
немолодым и соблазненным
пред небом синим и нагим,
над лугом бережно зеленым,
в саду доверчиво влюбленном,
где я приник к устам твоим.
«Вот идет, потупив взоры…»
Город мирный, город сонный
распростерся недвижим.
Молчаливо-изумленный
месяц, только что рожденный,
белый свет струит над ним.
Видит он, вперяя взоры
в недалекие просторы,
разрушительную брань.
Видит злое буйство зверя.
И очам своим не веря,
шепчет сонному: «Восстань».
Веют в небе вражьи крылья,
ближе гибельный пожар.
Но напрасны все усилья:
не осилить сонных чар.
Спит работник утомленный,
спят и юноша влюбленный,
и любовь забывший дед.
А над ними, выше, выше,
судьбы древние колышет,
древней ненавистью дышит
в новом облике – Конь Блед.
«Всегда живу в необычайном…»
Вот идет, потупив взоры.
Темен вечер, ярок день.
От нее на все просторы
не спеша ложится тень.
Вот идет, подъемля очи.
Свет звенит и блещет тьма.
Ярче дня, темнее ночи
вслед ползет она сама.
Кто их знает, кто такие,
и откуда и куда
их влечет одна стихия
сквозь года и без следа?
Где тут лик и где личина?
под личиной чье лицо?
Свет и тень, как паутина.
Круг замкнулся. Жмет кольцо.
Бейся, бейся – нет исхода.
Принял двух, так будь в плену.
Шепчут обе: «Я – свобода,
если б выбрал ты одну».
Верить, жаждать, жить отказом,
изнывая, пренебречь?
Но вместить не может разум,
что любовь – не мир, а меч.
«Какой сегодня необманный…»
Всегда живу в необычайном,
таком простом, таком привычном,
но для меня лишь не случайном
и не безличном.
Я всех трезвей и хладнокровней
приемлю то, что нам дается.
Но сердце с каждым днем любовней
и ярче бьется.
Все постигаю, все одолею,
и чем мне будни видней и внятней,
тем мир чудесней, тем жизнь милее
и непонятней.
Булыжник острый и купол храма,
приказчик в лавке, слепой с собакой,
мещанка, няня, «такая» дама,
ночной гуляка, —
все так привычно, все так предметно,
легко и просто и недосужно,
и стало все же душе заметно
и сердцу нужно.
Гляжу с улыбкой и мыслю чинно,
но сердце чутко и жутко бьется.
Ах, не случайно, не беспричинно
мне все дается.
У памятника
Какой сегодня необманный,
не сомневающийся день.
С утра рассеялись туманы,
в лазури, солнцем осиянной,
и здесь – доверчивая лень.
Ясны и четки очертанья,
прозрачна даль, приветна близь.
И зелень нежная, и зданья,
движенье, шумы и молчанье
так согласованно сплелись.
Душа моя, душа живая,
душа затихшая – скажи:
ужель и ты за солнце мая,
прозрачной ясности внимая,
предашь былые мятежи?
«От человеческого мира…»
Перед тобою, вождь державный,
чей вызов, брошенный векам,
как плач покорной Ярославны,
и памятен и близок нам,
стою в раздумье невеселом,
гляжу на медный твой полет,
пока по нивам и по селам
наш рок непонятый бредет.
Кто взмыл событья мировые,
на судьбы яростно дыша?
куда глядит твоя Россия?
о чем болит моя душа?
За что, неведомый прохожий,
без скипетра и без венца,
тяжелый крест, на твой похожий,
нести я должен до конца?
Судьбе я вызова не бросил,
народа властно не воздвиг.
По воле волн плыву без весел
и славлю жизнь за каждый миг.
Зачем же в пруд мой одинокий,
где два качались челнока,
неудержимые потоки
влила гремящая река?
Что нужно ей и что мне надо?
Зачем сквозь блеск, и треск, и гул
из Александровского сада
в мою ты пустынь заглянул?
Вот я пришел, мой вождь державный,
чей конь скакнет через межу.
Но плач покорной Ярославны
в тоске безудержной твержу.
«Люблю я четкость ясных дней…»
От человеческого мира,
где места нет мирам иным,
уйду я радостно и сиро
навстречу далям голубым.
И знаю я, что принят
буду в гостеприимные сады
не как Христос, не как Иуда,
но без любви и без вражды.
Без любопытства и вниманья
меня природа приютит,
и не навяжут состраданья
душе ни травы, ни гранит.
Петроград
Люблю я четкость ясных дней,
не возбуждающих тревоги,
когда короче иль длинней
ложатся тени по дороге
от человека и камней.
Весь мир – безбрежная прозрачность,
весь мир – одна благая весть,
и тайна только в том и есть,
что безначальна однозначность
путей, чьих зовов мне не счесть.
Но в жутком сумраке ненастья,
в томленье пасмурного дня,
соблазн мучительного счастья
тревожно вьется вкруг меня,
как бег незримого коня.
Темны и смутны очертанья,
везде, коварно притаясь,
нежданности и ожиданья,
как тело в складках темных ряс,
плетут таинственную вязь.
И что милей – гадать не стану.
Но знаю, знаю до конца,
что два пленительных лица
к нам обращает мир, как Янус,
прельщая чуткие сердца.
«Есть дни, ползущие как змеи…»
Из недр земных страны родимой,
векам доверив свой расцвет,
ты не возник неудержимо,
как в сердце благостный завет.
И жив не замысел народный
под четкостью твоих личин,
но, венценосный и безродный,
ты всем обличьем – мещанин.
Ты создан прихотью мгновенной,
с судьбой вступившей в дерзкий спор.
И вот, стоишь среди вселенной
всему и всем наперекор.
Не сердце пылкое России
в тебе размеренно стучит.
И не родня родной стихии
твой гордо блещущий гранит.
Но изменив родным просторам,
куда упорно рок зовет,
ты безнадежно меришь взором
унылый путь Балтийских вод.
И в годы бурных сотрясений
и воплощаемой мечты
ценой последних отречений
страну ведешь не ты, не ты;
но самовластно и раздельно
свой каждый лик и миг любя,
ты – вызов, брошенный бесцельно
судьбе, не знающей тебя.
«Я был когда-то летами беден…»
Есть дни, ползущие как змеи,
летит иной, как быстрый конь.
Вчерашний был золы серее,
и будет завтрашний – огонь.
Один – тоскливое молчанье,
смешлив сменяющий его.
Вот этот весь – воспоминанье,
а тот – не помнит ничего.
О дни грядущие, былые,
и ты, скользящий мимо день,
проливший на душу впервые
такую благостную лень,
скажите мне, как могут люди —
моя вселенская семья —
молить Творца о светлом чуде
и жить всегда не тем, чем я?
Природа
Я был когда-то летами беден,
и ноша знанья была легка.
Ходил я в церковь не для обеден,
не укрывался от сквозняка.
Но силы, силы, и годы, годы
без счета тратил и не жалел.
И пылко верил во все свободы,
в свободу духа, в свободу тел.
А ныне стало тяжелым бремя,
и бремя знанья, и бремя лет.
Но бережливо считаю время
и мигам скорбно гляжу вослед.
Хожу я в церковь, чтоб помолиться,
свободу жертвой зову теперь.
И лишь украдкой о синей птице
еще мечтаю – замкнувши дверь.
Мудрость
Недвижно озеро меж берегов немых.
В воде – листва, лазурь небес и тучи.
И все молчит. Лишь ветерок пахучий
встряхнул траву и листья – и затих.
Нет, то не сон, прообраз смерти темной,
не дрема светлая, сестра живой мечты.
И не восторг молитвенный, огромный,
душой напрягшейся едва вмещаешь ты.
Не сон, не греза, не молитва… Что же
острей раздумья, слаще забытья,
когда в тиши настойчивей и строже
пытает нас загадка бытия?
Кормчий
На землю пала тревожная тьма.
Светлые в небе зажглись терема.
В каждом одно озарилось окно.
Светит, не грея, но светит давно.
Кто там, за каждым, и зиму и лето
в бездне бездонной не спит до рассвета?
В книгах бесстрастных читал я не раз
чуждый душе, но правдивый рассказ.
Я ли не знаю, что небо кругом,
сверху и снизу, в пространстве пустом,
мчит, не мечтая о мудром покое,
глыб раскаленных сверканье немое?
Истине верю, но в сказке не лгу.
С вымыслом быль примирить не могу.
В мире творимом всечасно творим,
страстно живу то одной, то другим,
жадно сближаю две бездны, две грани…
Боже! не дай мне последних познаний.
Святогор
Ночь темна. Пустынно море.
Ветер крепнет. В небе муть.
Ждет ли радость, ждет ли горе,
всем сейчас один лишь путь.
Сколько нас по всем каютам
едущих на что-нибудь.
Но над нами, без уюта,
кормчий бдит и знает путь.
Исполняя долг ревниво,
он ведет, насупив бровь,
все, чем в мире сердце живо,
труд, и подвиг, и любовь.
Не вникая в наши нужды,
но уверенный в себе,
на сегодня, вечно чуждый,
нужен каждой он судьбе.
А потом, доплыв до суши,
погрузится в мирный сон.
И тоскливо шепчут души:
кормчий разум, будь как он.
«Опять я здесь, на воле и в глуши…»
Нет, не тут, где мы мечтаем,
в глубь веков вперяя взор,
проходил родимым краем
грузный, мощный Святогор.
И не там, где бьются ныне
иль рядами полегли,
он скорбел о каждом сыне
кровью политой земли.
Верный сторож, храбрый воин,
встань, взгляни на двойника:
он, как ты, Руси достоин,
Русь, как прежде, велика.
Но медлительным разливом
смыв межи со всех сторон,
мы по весям и по нивам
сторожим твой вещий сон.
Нам не лучше, чем когда-то:
смутна мысль и жизнь темна.
Тайной тягостной чревата
неродившая страна.
Донесем ли это бремя?
и когда блеснет Восход,
ты ли вставишь ногу в стремя?
мы ли выступим в поход?
Иль, как ныне под курганом
спишь ты крепко смертным сном,
из могил и мы не встанем
свет узреть в краю родном?
Хмуро солнце в русском небе…
хмур и летом русский бор…
Что ж? и этот скорбный жребий
примем мы, как Святогор?
«То солнце, то ливень – и как убежденно…»
Опять я здесь, на воле и в глуши,
в березняке, над озером молчащим.
Природа мудрая внушительней и чаще
глядит в глаза, пронзает глубь души
и медленно твердит мне: не спеши.
Все та же ель у желтого балкона,
кудрявая береза до небес,
и дальше – тополь чуть посеребрённый,
а там, за озером, крестьянский лес
и тучки, тучки вплоть до небосклона.
Все то же, то же, зелень и вода.
И я меж них не тот ли, что всегда?
Как вы, березы, тополь, дуб и ели,
я обновлялся с каждою весной,
и не напрасно дали голубели
и солнце радостно сверкало надо мной,
прельщая сердце вечной новизной.
И разве важно, что не так уж ныне
упруги мышцы и нежна щека,
что волосы седеют у виска
и может быть о дочери иль сыне
забота мне привычна и легка?
Я здесь опять и не один, а с тою,
кого люблю, и молод я навек
с зеленой елью, с рожью золотою,
с водой прозрачною озер и рек,
как молод любящий впервые человек.
Есть мера дням, нет меры для души.
И тщетно шепчет мне природа: не спеши.
«Вчера мой кубок полон был до края…»
То солнце, то ливень – и как убежденно.
И блещет и хлещет – огонь и вода.
Как будто так надо, как будто законно,
и каждая смена пришла навсегда.
И как это схоже с тоскою твоею,
с тоскою мгновенной, с весельем на миг.
Но к сердцу склоняясь, гадать я не смею
про мост семицветный, что в небе возник.
«В душе тоска, но разум светел…»
Вчера мой кубок полон был до края
кипящей радостью, как пенистым вином.
Я расточал ее, играя,
в земной любви, в безумии земном.
Сегодня горькой, вяжущей тоскою
наполнен он – и пью я и скорблю.
Но бережливою рукою
его подьемля, капли не пролью.
Вчера была со мною ты, – а ныне
я одиноко шествую в пустыне.
Саломея
В душе тоска, но разум светел.
Любовь моя! Страна моя!
Одной не знал, другой не встретил,
пока была весна в расцвете
и путь лежал во все края.
Теперь, пред совестью в ответе,
скорблю, бессилья не тая.
Что дам тебе, моя подруга,
чья молодость не изжита?
Избытку жизни нет досуга,
и мудрость любящего друга,
увы! – бескрылая мечта.
И если предан я отчизне
нежней, чем в пору юных дней, —
есть радость скорбная и в тризне,
но мне едва ли хватит жизни,
чтоб долг исполнить перед ней.
В чем долг любовный перед вами,
постиг, кто сердцем искушен.
Его не выразить словами,
но над незримыми церквами
о нем поет неслышный звон.
Над тучами, над синевами
вам светит то, чем я сожжен.
«Родимая сторонушка…»
Гадать о судьбах не умея,
я кормчих звезд ищу во тьме:
ты не царевна Саломэ и
не Христова Саломея.
Уста казненного лобзать?
коснуться девственной Марии?
Нет, на тебе иной стихии
неизгладимая печать:
ты внучка пышной Византии,
душой в отца и сердцем в мать.
Среди грузин – дитя Кавказа,
родная нам средь русских сел,
ты всем близка, кто в путь ушел
к стране несбыточного сказа.
И все, что долгие века
трудясь и радуясь творили,
в тебе пьянит, как на могиле
благоухание цветка.
Не вспять ведет твоя дорога,
не о былом вещаешь ты,
но с возрастающей тревогой
впиваюсь я в твои черты.
Как знать? Грядущему навстречу
неся узорную мечту,
могла б и ты любить Предтечу
и первой подойти к Христу.
Что сфинксу страшному отвечу?
как узел рока расплету?
Пред неразгаданным немея,
я не царил и не погиб.
Но, чтоб любимой быть, Эдип
тебе не нужен, Саломея.
Родимая сторонушка,
раздольная, могутная,
безвольная, беспутная,
до дна ли пьешь, до донушка,
не чарами, а чанами,
не мед и не вино?
И вьется хмель туманами
над душами, над странами,
где зябко и темно.
Чего ты вширь пустынею,
на все четыре стороны,
раскинулась, где вороны
под купой бледно-синею
накаркали, накаркают
за бедами беду?
Не чанами, а чаркою
пила ты радость жаркую:
не хуже и в аду.
Служанка подъяремная,
жена ли ты кабацкая,
невеста – дева скромная, —
какая-то дурацкая,
нескладная, ненужная
томит тебя нужда.
И вечно безоружная
бредешь тропою кружною
неведомо куда.
…………………….