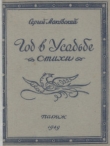Пленная Воля

Текст книги "Пленная Воля"
Автор книги: Сергей Рафалович
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 12 страниц)
Ходит, бродит под окном
И грозит бедою.
Провались ты, черный гном
С бородой седою.
И откуда взялся ты?
И о чем пророчишь?
Как опавшие листы
Дни мои и ночи.
И давно расщеплен ствол
Дерева большого,
Под которым я нашел
Золотое слово.
Иль из черного дупла
Вылез ты совою
В ночь, когда я сжег дотла
Бремя неживое?
Но над пеплом что вещать?
Мертвым что пророчить?
А земля – благая мать
И чернее ночи.
Что же бродишь, непрощен,
Каркаешь до света?
Будь ты проклят, черный сон
Скорби неотпетой.
Тифлис. 1920
За этим ли приехал я сюда,
На торжище полуденного мира?
В зеленой бухте грузные суда,
А в небесах все золото Офира.
В конторах темных пестрые ковры,
В кофейнях говор всех народов юга;
И легкий труд пленительней игры
В ленивой неге знойного досуга.
И я брожу меж складов и дельцов
Под шелесты засаленных кредиток;
А ветер с моря мне струит в лицо
Знакомый, опьяняющий напиток.
Все тот же он, ласкающий дурман
Пророчеств злых и злых воспоминаний;
В прибое тот же отгул дальних стран,
Былая страсть опять глаза туманит.
По улицам, где ныне прохожу,
Ее шаги когда-то топотали;
Под пальмами бульвара нахожу
Лишь мне заметный след ее сандалий;
А дом, где девушкой она жила,
Я обхожу, очей не подымая,
Чтоб не спалила белых стен дотла
Моя тоска, бессильная и злая.
Но в грязном переулке есть притон,
Куда счастливый не входил от века.
За сорок пиастров я забвенный сон
Куплю сегодня у рябого грека.
Батум. 1921
С зеленых гор спустился в долы
И вкруг затихших деревень
Стоит, недвижный и тяжелый,
Рыжеволосый день.
Земля горит, изнемогая,
И в золотых ее кострах
Растаял голубого Мая
Благоуханный прах;
И ризой пышною и зноем
Отягощенные сады
Роняют в пламя золотое
Румяные плоды.
Когда же ночь сойдет на долы,
Дневные потушив огни,
И звон вечерний, невеселый,
По нивам отзвонит,
Из рук разжатых Август щедрый
Алмазы яркие стряхнет
На сосны черные и кедры
С пылающих высот.
Тифлис. 1921
У Зюлейки тело бело,
А душа смугла.
Над челом белее мела
Голубая мгла.
Губы словно вишень сладкий,
Миндали глаза.
Целый день играет в прятки
Сердце-стрекоза.
Позовешь – не отзовется,
А прильнешь к устам, —
Нет целебнее колодца
По святым местам,
Нет забвенее напитка,
Яда слаще нет…
В тихий сад ведет калитка,
А в окошке свет.
Зазывает злая сваха
Гостя гостю вслед.
Говорят, что там Аллаха
Встретил Магомет.
Тифлис. 1921
Из многих дней, бесследных, незаметных,
Как пыль, как пепел, как песок,
Задумчиво плету венок,
Себе и миру дар заветный.
Но точно налитый свинцом,
Чело мое он клонит долу,
И все тоскливей взгляд тяжелый
Под этим блекнущим венцом.
И только в час, когда твои
Я вспомню светлые улыбки,
Ресниц пушистых трепет зыбкий
И тихие слова любви,
Над пылью, пеплом и песком
Цветы поют о синем Мае,
И он опять меня венчает
Весенним, праздничным венком.
Париж. 1922
О том, что явственней прибоя
Волны морской, на берегу,
Ясней, чем небо голубое,
И ярче солнца на снегу;
Что неизбывней зим и весен,
Привычней, чем сама земля —
Маяк, что виден на утесе
С кормы ночного корабля, —
Что в сердце истиной последней,
Правдивейшей из правд земных,
Горит победно, – только бредни
Твердят, невнятны и темны.
А жизнь гудит и мчится мимо,
Презрительно на них косясь,
Пока из пламени и дыма
Ложится серый пепел в грязь.
Париж. 1922
Проеду долгий путь трамваем,
Сойду и за угол сверну.
Как легкомысленно мы доживаем
Неповторимую весну.
Три деревца и дом старинный,
Калитка жалобно скрипит.
Июнь. Жара. Весь город спит,
Опутан душной паутиной.
Так неподвижен этот зной,
Как будто даже время стало.
Но не прощаться ли со мной
Придешь туда, где ты встречала?
К разлуке ближе каждый час:
Мы не живем, а доживаем.
Сегодня я в последний раз
Проеду долгий путь трамваем,
Тебя окликну со двора,
Чтоб ты сошла и дверь открыла.
А завтра – это вечера,
Когда грустишь о том, что было.
А завтра – это дальний край,
Кусок совсем иного мира,
Откуда ни один трамвай
Не возвращает пассажира.
Париж. 1923
Ночью поздней лечь в кровать,
Засыпая, Вас назвать,
А наутро, в ранний час,
Чуть проснувшись, вспомнить Вас.
Ночью, утром, долгим днем,
Знать, что мы живем вдвоем,
И спешить, как из тюрьмы,
Всюду, где не вместе мы.
Жизнь ли это или бред?
Только счастья в этом нет.
Счастья нет, но, может быть,
Стоит счастья – так любить.
Париж. 1923
III
Кругом поля и роща за рекою,
На много верст другого нет жилья,
Над крышей только небо голубое
А под ногами мягкая земля.
Пред домом дуб, старей и выше дома;
Три комнаты под низким чердаком;
Такая тишина, что с дальнего парома
Мне каждый окрик слышен и знаком.
Проходят дни чредой однообразной,
Без торопливой, хмурой суеты,
И все мои заботы и соблазны
В саду, где птицы, фрукты и цветы.
А в непогоду, если ломит кости,
По вечерам и в тихий час ночной
Из шкапа книжного выходят гости
И о своем беседуют со мной.
Милы мне сказки о любви и славе,
Но сказки не нарушат мой покой.
Так счастлив я, что не могу представить
Иную жизнь, счастливее такой.
Но если б явью стали эти бредни,
Как скоро наступил бы – знаю я —
Тот день, когда б я жаждал, чтоб последним
Он был из дней такого жития.
Париж. 1923
Так повелось, что стали нам жилищем
Кабак и постоялый двор.
Не люди мы, а пыль, и на кладбище
Нас выметут как сор.
Никто, вздохнув, не скажет: помер!
Не перекрестит лба;
И тотчас в опустевший номер
Чужая ввалится судьба;
И снова этой жизнью голой
Там заживут, как мертвый жил,
Когда с усмешкой невеселой
Ее бесстыдно обнажил
И не оставил даже тряпки рваной,
Чтоб наготу свою прикрыть,
Перевязать живые раны
И кровь запекшуюся смыть.
Берлин. 1923
Старый дом сожжен дотла,
На просторе ветер веет.
Только черная зола,
Только дым золы чернее.
А кругом, со всех сторон,
Ширь земная, золотая.
Только синий небосклон,
Только птиц залетных стая.
К солнцу, к воле все пути:
Как не верить яркой яви?
Только – некуда идти,
Только – нечего оставить.
Нет порога, нет замка,
Нет межи на Божьей ниве.
Только прежняя тоска,
Только прежнего тоскливей.
Берлин. 1923
Я не коснусь твоих волос,
Ни скорбных губ, ни кисти длинной;
И вот опять домой принес
В глазах померкших страх звериный.
Грохочет издали трамвай,
Рожки ревут все реже, реже.
На столике остывший чай
И черный хлеб, уже несвежий.
Здесь угол мой, и ночь, и тишь.
Я пробуждаюсь понемногу.
А ты, мой щедрый день, стоишь,
Приткнувшись к темному порогу.
Берлин. 1923
Это знают черный дуб и ясень
Пред моим окном;
И звезда, что падает и гаснет
Над ночным прудом;
Газовый рожок на перекрестке
И пустой вокзал;
Да еще дымок от папироски,
Что попал в глаза.
И всего, конечно, лучше знает
Женщина на улице ночной,
Та, чей облик мне напоминает
Об иной, иной.
Подошла, но слова не сказала,
Стала зябко кутаться в платок.
А пред нами тонкой струйкой алой
Окровавился восток.
Берлин. 1923
Есть на плече у Вас такое место,
Где сохранится след моей щеки.
На самом узком ложе нам не тесно,
Когда колючей мглой полны зрачки.
И на губах своих уверенно ищу я
Навязчивый и горький вкус
Мучительного поцелуя,
Похожего скорее на укус.
Но отчего такая дикость волчья,
Что друг от друга нежных слов не ждем,
Что в самый острый миг я заклинаю молча:
Не ошибитесь в имени моем.
Берлин. 1923
В моих глазах безумья нет,
Но стали впадины глубоки,
И тающий, неверный свет
На бледные ложится щеки.
Я не молюсь, но все – мольба:
И взгляд тяжелый, и дыханье,
И в крепко стиснутых зубах
Такое терпкое молчанье.
Теперь я знаю: легче петь,
Когда от боли сердце стынет,
Чем так дышать, и так смотреть,
И так безмолвствовать, как ныне.
Берлин. 1923
Тихо, пусто, как в могиле,
Ночь огромная черна,
И фонарь, что у окна,
Верно, с час как погасили.
Значит звезды побледнели
И дневной забрезжит свет.
Тело сонное – в постели,
Но души со мною нет.
Каждой ночью бродит где-то,
Каждой ночью плоть мертва.
Вот мелькнет полоска света,
Синей станет синева.
Что мне делать с грузным телом,
С беспокойною душой?
Чья нам воля повелела
Вместе жить одной судьбой?
Разве знаю, что им надо?
Разве помнят обо мне?
Свежей, утренней прохладой
Веет в чуткой тишине.
Уж не долго мне осталось
Быть без них самим собой.
А смертельную усталость
День рассеет голубой.
Берлин. 1923
Для малого я столько знаю слов,
Ни одного, чтоб рассказать большое,
У ветра, вечера и городов
Косноязычие такое.
В шуршащем сумраке церквей,
Глядят со стен святые лица;
Но серый блеск твоих очей
Слепит и не дает молиться.
И тайну строго я храню,
Не оттого, что тайне верю;
Но ветру, морю и огню,
И дням – гудеть, как рыкать зверю.
И только серый блеск очей,
И губ раскрытых содроганье,
И в тишине пустых церквей
Лампад негаснущих мерцанье
Со мной безмолвствуют о том,
Что стало потом, желчью, кровью,
Сладчайшим и мучительным грехом,
Который мы привыкли звать любовью.
Берлин. 1923
Я помню осенью дождливой
На узкой улице высокий дом,
И комнату во двор с большим окном,
И женский взгляд, спокойный и пытливый.
И это все, и большего не надо.
Так возникает мир из пустоты.
От одного, еще чужого, взгляда
Легко сердцам заговорить на ты.
А через месяц будет день последний:
Вокзал, вагон и быстрое прости;
Останутся на рельсовом пути,
Где поезд был, одни пустые бредни.
И буду я по улицам кружить,
Где так недавно мы бродили рядом.
И это все. И большего не надо.
Но только – с этим очень трудно жить.
Берлин. 1923
IV
Два слова есть: любовь и расставанье,
Они звучат как строгий перезвон.
Лихая доля тем, кто обречен
Их сочетать в одно повествованье.
Но говорить: люблю! Но говорить: прощай!
Не вправе, кто не выстрадает право,
Кого не мчит по городу трамвай
В небытие за первою заставой.
Судьба завистлива, а жизнь горда,
И темные вкруг нас роятся сипы:
Грохочут молоты, скрежещут пилы
И в глубь земли уходят поезда.
На что нам труд, и подвиги, и слава?
Приюта нет и некуда идти.
Но говорить: люблю! Но говорить: прости!
Не вправе, кто не выстрадает право.
Берлин. 1923
Какого Божьего суда
Мне ждать смиренно и уныло,
Когда исчезли без следа
И прошлый я, и то, что было?
И разве Судный День страшней
Всех дней моих, пустых и лживых,
Бессмысленно несчастных дней
И дней бессмысленно счастливых?
Париж. 1925
Оно рычит от голода и жажды,
А сытое резвится или спит,
Но твердо знает, что живет однажды
И мертвого ничто не воскресит.
Все было бы и просто и прекрасно,
Но дьявол позавидовал ему
И посулил за подвиг ежечасный
Бессмертье, непонятное уму.
Париж. 1925
Живут у вас поденщиками звери,
В стеклянных клетках молнии горят,
И боги с видом пьяных подмастерий
О заработной плате говорят.
Но будни надо облекать в отрепья
И жить опасно яростной душой:
Так разрушительно великолепье
Лесных пожаров и любви большой.
Париж. 1925
Поминки справил я под Новый год
Не радостно и не уныло.
Таков закон: вовек не оживет,
Что полнотой и смыслом жизни было.
Ты не нужна для счастья моего,
И пропастью меж нас легло молчанье.
Но вот бывает, что слышней всего, —
Всех кликов жизни, – вздох воспоминанья.
Париж. 1925
Завидна людям жизнь моя,
Но за полсотню лет забвенных
Ни разу не было, чтоб я
Сказал: пребудь, о миг блаженный.
Когда на солнце тает лед,
Рыбак сурово чинит сети;
А счастье – это синий свод
Над лужей, где резвятся дети.
Париж. 1926
Всю жизнь трудиться, чтоб прожить,
Рожая, выть, как воют звери,
И жалкой долей дорожить,
И жадным заповедям верить.
Легко и просто им гудеть
Торжественной и властной ложью;
И все же: Божьего в труде
Лишь то, что он – проклятье Божье.
Париж. 1926
Мое окно на уровне земли,
Пустынный двор глядит в пустые стекла.
Когда дожди осенние прошли,
Казалось мне: душа насквозь промокла.
Легко войти и в дом, и в жизнь мою,
По лестницам взбираться много хуже.
Но на земле и птицы не поют,
А лишь клюют зерно и пьют из лужи.
Париж. 1926
Все марево: дела, мечты и знанье,
Одни не тают с былью вековой
Любви мучительной очарованье
И мастером запечатленный строй.
Они пребудут над моей могилой,
И горестный забудется рассказ:
Любимая однажды изменила,
Искусство изменяет каждый час.
Париж. 1926
Когда безжизненное тело
Обмыв, оплакав и отпев,
Запеленали в саван белый
И закопали, – Божий гнев
Его архангельской трубою
Воззвал из гулкой темноты:
«За жизнь, что прожита тобою,
Как предо мной ответишь ты?»
И тело глухо отвечало:
«Не знаю я, как жизнь прошла;
Я радовалось и страд ало,
И в этом я не вижу зла.
Но так мгновенны все соблазны,
Но так забвению, что мертво,
И так все дни однообразны,
Что я не помню ничего».
В руке Петра ключи звенели,
И жадный гул земли притих.
«А, ты, душа живая в теле,
Ответишь ли за вас двоих?»
Душа от грозных слов взметнулась:
«Ненужной телу я была.
И с ним не споря, завернулась,
Как в белый саван, в два крыла.
А то, что до меня проникло,
Во тьме тревожной и пустой,
Я с давних пор считать привыкла
Ненужной миру суетой».
Презрительно их слушал третий
И были очи, как мечи.
«За вас обоих тот ответит,
Кто жизни вас не научил».
А Петр шептал: «Проснитесь, дети».
И поднял райские ключи.
Париж. 1925
Из сборника «СЕМИ ЦЕРКВАМ. ПОЭМЫ» (Берлин, 1923)
Вода живаяЕлене Феррари
Строитель
Был прожит день – не первый, не последний,
один из многих дней, пережитых мирами.
Алел закат над дальними горами,
и в городок соседний
за пищей спутники ушли. А он,
усталый, сел у тихого колодца.
В часы вечерние нежнее сердце бьется
в приветной тишине, в ответ на каждый шорох,
и душу радует лишь ей понятный звон,
звучащий ласково на всех земных просторах,
плывущий к ней со всех сторон,
как будто он не в ней рожден,
как вечный гимн о вечном Боге.
Белела пыль, приникшая к дороге,
ушли с полей и люди, и стада.
В колодце, как в таинственном чертоге,
сверкала звездами небесными вода.
Из дома близкого, по лону трав зеленых,
шла женщина, склонясь под водоносом,
босая, смуглая, с немым вопросом
в очах, на странника не обращенных.
Из-под платка две пряди пышных кос,
задорно выбившись, сверкали медью черной.
Пришла, поставила у камня водонос,
и, поглядев печально и покорно
на дальних гор багряные ряды,
вздохнула тихо, как вздыхают жены.
«Сестра, не дашь ли мне испить воды?» —
промолвил странник. Изумленный
она к нему склонила взгляд:
«Твои сородичи не пьют и не едят
и крова нашего не делят с нами».
Но улыбнувшись светлыми очами,
он ей сказал: «Когда бы ты
познать могла, чей дар храню я свято,
просила б ты меня, как друга и как брата,
чтоб дал и я тебе испить живой воды».
– «Колодец наш глубок и как же без сосуда
ты зачерпнул бы в нем студеную струю?
Откуда же, поведай мне, откуда
живую воду ты принес свою?»
– «Возжаждет вновь, о женщина, кто пьет
от родника, что скрыт в твоем уделе.
Но утоленье вечное дает
источник мой, неведомый доселе.
Был знойный день и долог трудный путь,
усталый я добрел до чуждого порога.
Но легче ли душе, чем телу, отдохнуть?
и чья, скажи, томительней дорога?»
– «Плывут мечты к нездешним берегам,
но нет пути, когда путей так много.
Мы на высотах молимся богам
и пышный храм воздвигли вы для Бога.
Прости рабу за дерзкие слова:
но правды нет, а горя слишком много.
Кто скажет мне, мертва ли иль жива
моя душа, не знающая Бога?»
Бледнел закат. С небес спадала мгла,
и таяли и расплывались дали.
И с каждым мигом звезда без числа
из темных бездн все ярче выступали.
Поднялся странник – призрак или тень? —
и руку положив на голову склоненной,
сказал: «Настанет день, не мною предреченный,
и может быть сегодня этот день.
Не на высотах или в пышном храме
вы поклоняться будете Тому,
кто выше звезд, горящих над горами,
чей свет невидим, но пронзает тьму.
Есть храм иной, построенный не нами,
есть жертвенник с негаснущим огнем.
Там жизнь и смерть земными именами
в своих молитвах мы не назовем.
Есть храм иной и в этом храме —
с живой водой бездонный водоем». —
Стеною зыбкою вкруг них сплотились тени,
и он пред ней, как призрак или тень.
Поет душа: сегодня этот день.
И внятен отклик будничных смятений:
«Дай мне испить твоей воды живой,
чтоб каждый день не черпать из колодца».
Но странник ласково качает головой,
и женщина за водонос берется.
В Самарии, у города Сихарь,
на миг приподнят Божьей благостыней
пред тайною, не понятой доныне,
покров, непроницаемый, как встарь.
И каждый день, при каждой новой встрече,
жена и муж – не те же ли везде? —
твердят друг другу трепетные речи
о вечной правде, о живой воде.
Все вновь и вновь для кратких утолений
дается нам живительный родник,
и будет жаждать, преклонив колени,
кто хоть однажды к роднику приник.
А в нас, как в страннике, таится непочатый
и утоляющий навеки водоем,
и каждой встречной – щедрою расплатой —
мы за мгновенье вечность отдаем.
Теперь, как некогда, не тщетно ль сердце бьется?
Но все пленительней обманчивая марь
небесных звезд на темном дне колодца
в Самарии, пред городом Сихарь.
1915
Се, Дева во чреве примет и родит Сына.
Исаия. Гл. 7. ст. 14
То было некогда – на русской ли равнине
иль на чужбине
средь племени чужого? —
за много лет до Рождества Христова.
I
В просторной лавке женщина стоит,
смиренно просит, жалобно глядит.
«Отсрочь должок, прости…» – «Господь простит – не я,
Он будет побогаче.
Молись Ему, коль искусит змея,
а предо мной – подумай об отдаче».
– «Будь милосерден. Муж лежит больной,
четвертый месяц без работы.
А дети есть хотят…» – «Да что ты?
Скажи на милость: просят есть, а я тому виной?»
– «Мне только хлеба отпусти немного.
Все полностью отдам тебе, ей Богу,
как только справимся. Ведь знаешь нас давно:
всегда платили, в долг не брали,
работали, не пировали.
Пришла беда, хоть в петлю лезть…»
– «Зачем же в петлю – лучше место есть:
ступай в чулан, там тихо и темно,
товару всякого навалено немало,
и людям будет невдомек,
что нынче ты не покупала,
а продалась, – чтоб уплатить должок».
– «А грех-то, грех…» – «Не будешь ты в ответе:
ведь болен муж и голодают дети —
кто виноват? – Выходит, что не ты».
И женщину к чулану подвигая,
Филипп шептал угрюмо: «Все скоты,
и эта и другая,
все люди, добрые и злые».
– «Маляр пришел» – приказчик доложил.
Филипп неспешно притворил
за женщиною дверь, подумал, и впервые,
за целый день, улыбкою кривою
вдруг замерцали хмурые черты.
– «Андрей, иди-ка ты» —
и на чулан приказчику он указал рукою.
II
Перед художником с заплатанным камзолом,
с рубахой грязною и рваной,
с руками тонкими и взглядом невеселым
Филипп сидел и объяснял пространно:
– «Родителей я крепко уважаю:
отец был вором, мать – гулящей девкой.
Чего уставился? С любовью, не с издевкой
Покойников достойно величаю.
Не их вина, что были тем, чем были:
виновен тот, кто их такими видел
в своих мечтах, которых не забыли
они всю жизнь. Не помнят ли доселе?
Не плохи были даже в трезвом виде:
блудили, сквернословили и очернить умели
и близких и далеких, как никто.
Когда ж хмелели,
такое учиняли, что
и не расскажешь… Я же – в них.
Как родился и выжил – прямо чудо.
Такой должно быть стих
сложился там – вверху – нескладный и неверный —
и прозвучал оттуда
во мне.
Болезнью скверной
отец и мать болели с юных лет,
и не было детей иль дети умирали,
едва увидев свет.
Один лишь брат, в болезни и вине
рожденный, жил до двадцати годов.
Уродом был. Уродом и прозвали.
Дурак совсем – лишь спать и жрать готов;
и порченный – с припадками, – но милый.
Ругала мать, отец нещадно бил;
так и подох, и верно тотчас сгнил,
пока мы, пьяные, галдели над могилой.
А я живу. Не добр, но и не лют;
лицом не вышел, роста не хватило,
плешив, сутул, и ноги покривило,
сутяжник, пьяница и плут;
всего по мелочи, и подлости и страха.
А впрочем: чист кафтан и стирана рубаха,
лопатой борода, в мошне не пусто.
Коль ты маляр, так красок не жалей,
клади их густо, да распиши позлей,
чтоб каждый мог понять при первом взгляде,
лишь только подойдет к холсту,
каков я человек и спереди и сзади;
какую думал думу и мечтал мечту
строитель тамошний, чьи вымыслы я чту, —
чтоб каждый, поглядев на лик, как будто живый,
потом плевался долго: «Тьфу, какой паршивый».
III
Когда стемнело и ушел художник,
Филипп перед портретом стал,
разглядывал его и что-то бормотал;
потом у зеркала пытливо изучал
свои черты, и злобно прошептал:
«Не живописец, а сапожник».
И вышел. А в каморке тесной,
где полки с книгами скрывали стены,
зажег свечу, уселся в кресле,
и с улыбкою блаженной
к себе придвинул том тяжеловесный,
лежавший на столе.
Разгладились морщины на челе,
в очах восторженная воля засветилась,
медлительными сделались движенья.
В каморку постучали. Не прервавши чтенья,
он проронил: входи! И тихо дверь раскрылась;
Андрей в нее неловко проскользнул
и, притворивши, запер на крючок.
Затем к столу придвинул стул
и стоя ждал,
уставясь на начищенный сапог.
– Садись! – сказал, не глядя на него, хозяин.
Приказчик сел. Рукою грубою изваян,
он был неладно скроен – крепко сшит,
высок и грузен и в хмелю сердит,
подковы гнул и жорнов подымал.
Был вдов, и жил, как говорили, с дочкой.
Хозяин, дочитав до точки,
стал вслух читать, напевно и тягуче,
с усилием, как будто полз по круче
тропой отвесной. Но глаза горели,
дышала часто грудь, и в теле
истому сладкую он ощущал.
А нос и лоб блестели
от пота.
Приказчик выгнулся вперед,
вцепился в стол руками
и так чтеца пронзал
глазами,
как будто тот
творил диковинное что-то.
Так длилось долго. Капала свеча,
шуршали желтые страницы.
На улице, визжа и гогоча,
с парнями пьяными веселые девицы
ругались. А пытливую луну
дразнили, заволакивая, тучи.
И все звучал, пронзая тишину
в каморке голос мерный и тягучий.
Затем, откинувшись на кресле, пот отер
усталый чтец с лица.
И помолчав немного,
кивнул Андрею: «Все для Бога
они трудились. Мы же до конца
их труд доводим. Ладен он и спор,
и, может быть, и нам на радость будет.
Не больно хороши земля и люди,
строитель тамошний – не нам чета.
Что выстроено нами – красота
и загляденье. Рай да будет раем.
Продолжим труд умерших – помечтаем».
IV
Филипп торговцем был и слыл ростовщиком,
нажился крепко, прижимал нещадно,
не злобою влеком
и не по скупости, бессмысленной и жадной,
а потому что в юности решил,
что мир таков, каким его творил
и вновь творит, мечтая неустанно,
строитель некий, сущий в небесах.
А человек, внедренный в зыбкий прах,
томим болезнями, тоской терзаем,
то горем, то нуждой, то ближним угнетаем,
то сам насильник и палач,
кого не трогают ни жалобы, ни плач
униженных и оскорбленных,
в мучительную жизнь безрадостно влюбленных, —
мечтами создает прекрасный и желанный,
нездешний мир, как вымысел пространный,
осуществляемый все ярче с каждым днем.
Земля уродлива и люди мерзки.
Но рай и вечность, ангелов и Бога
они измыслили мечтою дерзкой,
мечтой прекрасной и любовно-строгой,
и мир надзвездный жив, как мир земной,
где люди жили и где мы живем,
над ним безвластны, но творя иной.
И все, что создано убогими певцами,
пророками и вещими жрецами,
и тем, кто юродивым прослыл,
а, может быть, мудрее прочих был,
и свитки древние занесено, —
он стал читать. Когда кругом темно
и отработан день, в каморке тесной
учился он творить простор небесный,
и свет без тьмы, и правду, и любовь.
А люди глупые, униженные вновь,
твердили злостно про вериги,
душеспасительные книги,
бичи, и пост, и бденье.
И было в их насмешках – осужденье.
Случилось так, что по делам пришлось
Андрею вечером в каморку постучаться.
Впустил его хозяин, но когда ругаться
приказчик стал, докладывая дело,
Филипп угрюмо молвил: брось!
Андрей умолк оторопело,
и криво усмехнулся: «Так, —
спасаешься, грехи замоливаешь, – что же…»
Но тот, не гневаясь, в глаза ему глядел:
«Чего болтаешь зря? ведь ты же не дурак?
Спасаться нам как будто и не гоже».
И объяснил, не торопясь, чего хотел,
чем занят был в тиши
уединенной и укромной.
И речь его должно быть до души
приказчика, доверчивой и темной,
дойти сумела.
С тех пор они, свершив дневное дело,
сходились там,
и почитав, что люди сотворили,
чей дух в раю, чья плоть – в могиле,
их труд согласно продолжали
и жизнь иную создавали,
предавшись творческим мечтам.
И так, весь день земною жизнью жили,
а по ночам
душою радостной нездешнее творили.
V
Филипп был немощен и хил,
грехом родительским, должно быть, отягченный.
И часто говорил,
что скоро ждет его погост зеленый.
С трудом до пятого десятка дотянул.
Вдруг занемог и слег в начале Мая.
Болел он долго. Весь истаял.
Однажды вечером вздремнул,
и пробудившись, на портрет взглянул,
где был он намалеван
не то подрядчиком, не то дворецким,
с лукавством старческим и простодушьем детским,
И там, приникшую к нему, нежданно смерть заметил.
Не испугался. За приказчиком послал.
И глядя пред собой, лежал
и тих и светел.
Когда Андрей пришел, больной всех выслал вон,
и приподнявшись, сел в постели.
– «Пришел конец». Андрей стоял смущен.
А звезды радостно за окнами блестели.
«Немало мы с тобой трудились,
просторную засеяли долину, – утомились:
проверить надо бы, как семена взошли,
как прорастает мысль и расцветает слово».
Приказчик мял картуз в руках,
молчал, молчал и вымолвил сурово:
«Уж не забудь строителя земли
за все дела и мысли пристыдить.
Ему-то хорошо на небесах,
а людям – разве сладко жить?»
– «Уж пристыжу, не бойся, только бы дойти.
Но вот что я надумал ныне.
Все те, что жили раньше нас,
в грехе и зле, как мы с тобою,
когда им пробил час,
назначенный судьбою,
и светлые раскрылися пути
к вершине синей,
ужель не могут, радуясь в раю,
мечту оттуда устремить свою
к земле? Иль там, с другими схожи,
земной беды не помнят? Но не гоже
творить по-прежнему земное зло,
когда вокруг тебя все чисто и светло.
Надумал я составить памятку о том,
что там – вверху – для вас я строить буду,
что на земле я сотворю оттуда,
чтоб свет блеснул и здесь… когда-нибудь… потом.
О чем мечтать – я знаю. Ты – запишешь
и памятку положишь в гроб со мной.
Вот стол, перо, бумага». – И больной
устало голову склонил к подушке. Стало тише
в большой и темной комнате, как в храме
пред службою. Неловкими руками
приказчик свечку засветил, бумагу
взял и перья очинил.
– «Ну что, готов? Пиши разборчиво и точно,
как буду говорить… У девы – непорочной —
родится… Что уставился?» – «Да как же так?
И непорочная, и дева, – а родит?
Тебе б о том мечтать, чтоб умным стал дурак,
голодный сытым, праведным, кто грешен,
свободным, кто оковами звенит,
и радостным, кто неутешен, —
чтоб всякий, кто страдал…»
Но речь горячую хозяин оборвал:
«Все будет, будет.
Иными станут люди,
когда иного на земле узрят.
Ведь каждый день не Бога ли творят?
Но бога в небе – не земного Бога.
Немного сил и времени немного
осталось мне теперь.
Не мудрствуй, но поверь,
не соблазнись, а помолись о чуде.
Что ты напишешь, закреплю я прочно,
что закреплю, то будет, будет…
Пиши: «Родится сын у девы непорочной…»
То было некогда – на русской ли равнине
иль на чужбине
средь племени чужого? —
за много лет до Рождества Христова.
1915