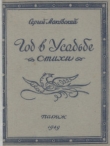Пленная Воля

Текст книги "Пленная Воля"
Автор книги: Сергей Рафалович
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
«Склоняя русую головку…»
Когда полюбишь, не спеши
в слова облечь живое чувство:
есть речь иная, речь души
и бессловесное искусство.
Не все, сокрытые от нас,
сердца безмолвствующих немы:
в иных творятся каждый час
боговнушенные поэмы.
Сверканье пестрое речей
с гореньем длительным несхоже.
Игриво плещущий ручей
журчит всегда одно и то же.
Плененный страстью соловей,
стремясь достичь любовной цели,
в сплетенье ласковых ветвей
плетет, как вязь, все те же трели.
И если вслушаешься ты,
поймешь, склонясь ко всем молчаньям,
что про любовь свою цветы
поют немым благоуханьем.
«Живую плоть…»
Склоняя русую головку
и плечи узкие к столу,
рукою бережной и ловкой
ты водишь тонкую иглу.
И вот, нанизан жемчуг ценный
с живой и знойною корой.
И будет кто-то во вселенной
толпу пленять его игрой.
А ты, как я, – работник скромный
и не наполнивший сумы, —
не разглядишь из кельи темной,
кому, трудясь, служили мы.
Сентябрь
Живую плоть
Ты сотворил мою, Господь,
из праха, мертвого дотоле.
И зренье дав ему и слух,
подумал вдруг
о поле.
От плоти плоть
Ты взял, Господь,
чтоб рай земной для нас стал раем.
И был бы вечный нам предел
в слиянье двух прекрасных тел,
где лик бесплотный воплощаем.
Так мы творим,
покорны вымыслам своим,
из праха косного доселе,
предметы, милые земле,
и в каждом ремесле
Твоим делам верны на деле.
Но в мире есть
иная весть,
иная власть, иная воля.
И там, где ожил прах, – она
творит, пронзая времена,
пространства пленные неволя.
Не зренье плоти и не слух
приемлет дух,
кого дарит она прозреньем.
Испепеляя рубежи,
его сжигают мятежи
неугасающим гореньем.
Не Ева – робкая жена —
ему нужна,
а непокорная подруга,
чей зыбкий лик, дразня, манит,
и вот, любовница – Лилит
парит вдоль пламенного круга.
Тебе подобны, Сатана,
все те, кто пьет до дна
отравный кубок вдохновений,
не вещи – плоть, а дух творит,
стремя к мелькающей Лилит
искусства зыбкие ступени.
«Как сталь, до белого закала…»
Все медленней по небу солнце всходит,
а сумерки спадают все быстрей.
И с величавостью дряхлеющих царей,
чья на исходе
богатая делами
и пестротой событий жизнь, – на зыбкий прах
глядят деревья в золотых венцах
над старчески негибкими стволами.
Восторг весенний, яростный и бурный,
бесхитростный и безрасчетный пыл
и радость пряную прозрачности лазурной,
старея, не забыл
простор земной, что пламенно застыл.
Когда-то он за каждую ограду
струил слепящий свет и знойный жар.
Теперь ему не греть, а греться надо,
он мудр почти и не совсем он стар.
В его огнях мерцает примиренье,
а в сердце – нежная тоска.
Не творчество, а каждое творенье
умеет он любить не свысока.
И словно ризою священной
облек себя сверкающим руном,
которого всю жизнь искал он по вселенной,
и грустно и смиренно
склонил чело под жертвенным венцом.
Душа земная
Как сталь, до белого закала
ковался некогда мой стих,
и в нем звенела и сверкала
уверенность надежд моих.
Все было стройно – мир и люди,
все четко – мысли и дела,
и лишь о том мечталось чуде,
чтоб рифма новою была.
Теперь не то. Дробящий молот
и всепронзающий клинок
я оставляю тем, кто молод
и не познал, что одинок.
Учусь молитвенно склоняться,
хочу бесхитростно понять,
не соблазнять, а соблазняться,
и полюбить, а не пленять.
Я не ищу былых сверканий,
узорных звонов не ценю,
хитро расписанные ткани
для резвых правнучек храню.
И в раззолоченном наряде,
задорно вызов бросив в мир,
не выезжаю на турнир,
жеманной радуясь награде.
Теперь изысканности нет:
передо мной не сталь, а глина
и полнозвучная былина,
а не отточенный сонет.
«Сегодня я готов молиться…»
Когда душа из ярких далей,
из круга раскаленных звезд,
слетела на земной погост
и крылья синие отпали,
земля, остывшая в веках,
в нее вдохнула зябкий страх,
повеяв ледяным дыханьем.
Поблек когда-то светлый лик,
и был младенца первый крик
ее непонятым рыданьем.
Блеснув, как слезы иль роса,
она в груди застыла льдиной,
и отразились небеса
в ее прозрачности притинной.
Но годы шли, дитя росло,
морщины врезались в чело,
и кожа нежная грубела.
Стал голос глух, рука тяжка,
и вот, у каждого виска
уже легло по нити белой.
Но с каждым годом, с каждым днем
светлела мгла и жизнь теплела
и нестареющим огнем
прожгла стареющее тело.
Все тверже кость, кора грубей,
но все нежней и голубей
и даль небес и ширь земная.
Пышней цветы и слаще мед,
и тает, тает крепкий лед,
и бьется сердце, вспоминая.
Мне все равно, я стар и сир,
но для души крылатой снова
не мир иной, а этот мир
стал миром творческого слова.
Metro
Сегодня я готов молиться,
как молятся в темных церквах
невеста, вдова, и черница,
и бабы с детьми на руках.
Колени склонив пред святыми,
я долго и нудно готов
молить их словами простыми
иль плакать без просьб и без слов.
Сегодня земные поклоны
я клал бы смиренно пред тем,
кто мог бы нарушить законы,
воздвигнуть забытый Эдем.
И в чьи-то незримые руки,
не веря иль веря на миг,
я жажду предать свои муки
со всем, что я в муках постиг.
Расплата
Мы в небесах искали Бога,
но выси тщетно обошли
и неизведанной дорогой
пронзаем глубину земли.
Как дуло темное орудий,
безмолвствует подземный ход,
но вихрометный промелькнет
дракон, которым правят люди.
И каждый миг неудержимей
он в глубину вонзает путь,
чтоб из жерла когда-нибудь
загрохотать в огне и дыме.
Скользит безглавая змея,
и разноцветно блещут очи.
Как хвост, двойная колея
протянута от ночи к ночи.
Мерцают робкие огни,
прельщают тихие привалы.
И снова – стены и провалы
и миги – долгие, как дни.
Мы связаны одним движеньем,
мгновенностью одной живем
и чуть намеченным сближеньем
осуществленья не найдем.
А мимо, рядом бесконечным,
как темнота и глубина,
огнеживые письмена
проносятся в мельканьи встречном.
«Я верю в вас, но вам не верю…»
Все чаще думаю о том,
что незаслуженны щедроты
моей судьбы, и что потом —
когда-нибудь – ее расчеты,
еще непонятые мной,
безжалостным возмездьем станут.
Но шествую в грозу и зной,
и соблазнен и не обманут.
И не за то придется мне,
я убежден, нести расплату,
что радуюсь наедине —
без зависти – врагу и брату;
но лишь за то, что встретил вас
и полюбил, не рассуждая,
когда в предсумеречный час
клонилась голова седая,
но лишь за то, что вы могли
ответствовать любовью краткой,
мне не уйти с лица земли,
не расплатившись без остатка.
«Далеко до любимой…»
Я верю в вас, но вам не верю,
есть вера, но доверья нет.
Приемля дар, предвижу я потерю,
обету вняв, предчувствую запрет.
Прекрасны вы, а люди зрячи,
и ваша юность любит лесть.
Для женщины соблазн сильнейший есть,
чем поцелуй безмолвный и горячий.
Любовью верной вам я мил,
но кто не любит – вам нужнее.
Когда-нибудь в умышленной затее
забудетесь – и вдруг не хватит сил.
От случая зависеть – жутко,
и в страхе жить – невмоготу.
Заране хоронить свою мечту,
поверьте мне, совсем плохая шутка.
Какой безрадостный удел
несчастным в счастье быть, и даже…
Но нет! Пусть Баратынский вам доскажет
не то, что я вам досказать хотел.
«Еще хранит постель чужая…»
Далеко до любимой,
Далеко – не дойти.
Но ведут, как до Рима,
к ней одной все пути.
Мимолетные встречи —
то улыбка, то взгляд,
то походка, то плечи, —
лишь о ней говорят.
Каждый миг оживает,
что пережито с ней.
В этом гулком трамвае
улыбнулась нежней.
В кабачке мне сказала, —
где сижу я сейчас:
«Вы едите так мало,
что стесняюсь при вас».
А полуночью темной,
на скамейке лесной,
о любви вероломной
говорила со мной.
В галерее картинной
вечно мню, что она,
то грешна, то невинна,
вдруг сойдет с полотна.
Ей поет долговязый
в Abbaye de Theleme.
И о ней все рассказы
и стихи всех поэм.
Далеко до любимой,
далеко – не дойти.
Но огонь негасимый
озаряет пути.
И паломником ныне
обхожу, не спеша,
все места, где святыни
воздвигала душа.
«Довольно праздных слов и суетных волнений…»
Еще хранит постель чужая
следы недавно близких тел,
еще растаять не успел,
душистый май опережая,
твой нежно-пряный аромат,
еще по-прежнему измят
диван, где льнули мы друг к другу,
и медленно скользя по кругу
стенных часов, еще стрела
за цифру «семь» не перешла
и отмечает час разлуки, —
и вот уж нет ни в чем поруки,
нет доказательств, ни улик,
что явью был прошедший миг.
Бесстыдно бережных касаний
в руке раскрытой нет следа,
и вновь утерян навсегда
и запах твой и вкус лобзаний.
Речей слепительный узор
рассыпался как пепел серый.
И тщетно ищет робкий взор
в ответных взглядах – прежней веры.
Как далеки мы, как чужды,
как все в тебе необычайно.
Опять в бездонные пруды
влечет волнующая тайна.
Пленивший только что рассказ
уже припомнить не умею,
и завтра будешь ты моею
опять как будто в первый раз.
«Каждым мигом очарован…»
Довольно праздных слов и суетных волнений,
унылых подвигов, бесплодных сожалений,
лукавых вымыслов, пленяющих умы:
удела лучшего заслуживаем мы.
Но как рабы, закованные в цепи,
влача ярмо, позорное вдвойне,
лишаемся по собственной вине
раскинутых вкруг нас великолепий.
Не видят очи, и не внемлет слух,
в душе немой безрадостно потух
очаг заглохший чуткого прозренья,
и к тайнописи мирооткровенья
волшебный ключ утратили сердца.
И стоит ли вся мудрость мудреца,
смиренье инока, искусство полководца,
певцов прославленных нелживый дар —
тех незаметных и безличных чар,
чья прелесть тайная не мыслью познается?
На что нам гордое сознанье первородства,
на что привычка хмурого господства,
наследье царское и царские права,
когда кругом пленительно жива
бесправная, безвластная природа,
и мысли властные, и властные слова —
лишь тучи легкие в лазури небосвода?
Алтарь лелеемый, как памятник былого,
собой самим развенчанный кумир —
достойна жизнь, достойны мы иного:
забвенья сладкого и погруженья в мир
сосредоточенно-немого.
«Стопою тяжко замедлённой…»
Каждым мигом очарован,
то безудержен, то скован
сладкодумною тоской,
бурь ища, влюблен в покой,
зною радуясь и стуже,
морю синему и луже
пред крыльцом иль на дворе,
розовеющей заре,
полдню пышно золотому,
проливающим истому
утоляющим ночам,
встречно блещущим очам,
нежным взглядам, станам гибким,
зазывающим улыбкам, —
все объемля – глубь и высь,
ширь и даль, – остановись!
я шептал земным мгновеньям.
Но настойчивым моленьям
не внимало ни одно.
Проносились дни и годы,
и удачи и невзгоды,
все, что людям суждено,
что струею вечно пенной,
заполняет кубок ценный,
осушаемый до дна.
Неповторны и текучи,
как вода, любовь и тучи,
пролетали времена.
И безжалостно влекомый
к грани чуждой и знакомой,
я в отчаянье воззвал:
«Кто б ты ни был, царь вселенной,
гений добрый, дух надменный,
Саваоф или Ваал, —
клятвы страшной не нарушу:
быстрый миг останови —
миг восторга, миг любви —
и тебе продать я душу,
бог неведомый, готов».
Пестрый мир был нем и светел,
но душе моей без слов
бог неведомый ответил:
«Будет так, как хочешь ты.
Нет бессмертной красоты,
зримой смертными очами;
рок царит и над богами;
что живет – должно истлеть.
Но тебе – запечатлеть
каждый лик, на миг рожденный,
в вечный образ претворенный,
власть чудесную вручу
в знак заклятого служенья».
И сбылось. Горящ и тих,
ожил мир в стихах моих
тайным чудом воскресенья,
завершенный, отраженный,
пребывающий, как стих.
И поет – а я молчу
и себе не жду спасенья.
«Городом пустынным ночью проходить…»
Стопою тяжко замедлённой,
задумчиво – настороже,
мой разум бродит по меже,
едва заметно углублённой.
Разноличинны явь и сон,
неразлучимы свет и тени.
Но чужд восторгов и смятений,
он шествует несоблазнен.
Как все размеренно-законно
в однообразной пестроте;
земные вымыслы – и те
блюдут порядок предрешенный.
Лишь неуемная душа,
не разгадав нехитрой тайны,
твердит, что все необычайно
и жизнь безумно хороша.
То улыбается, то плачет,
сама не зная – отчего,
любя, коснется ли чего —
и в тот же миг переиначит.
Нельзя сердиться на нее,
а увещаниям не внемлет
и даже истину приемлет
как достояние свое.
И над межами, над мирами,
пленяя взор, лаская слух,
стопою легкою как пух
скользит – и светится пред нами.
За кем пойти? к кому пристать?
как жизнь прожить: творя иль зная?
и что прекрасней: быль земная
иль то, что былью может стать?
«Хранит душа нелживое преданье…»
Городом пустынным ночью проходить,
шорохи и тени, проходя, будить,
слышать за собою гул своих шагов,
ждать зловещей встречи и ночных врагов,
вглядываться в звезды, думать о былом,
знать, что ночь пустынна и за тем углом,
быть ненужным миру, людям и земле,
быть самим собою в тишине и мгле,
телом утомленным совершая путь,
разумом и волей на ходу вздремнуть,
но следить забвенно, к цели не спеша,
как из пут телесных восстает душа
отблеском неверным, отзвуком глухим,
незнакома людям, близким и чужим,
и сквозь город сонный и укрытый тьмой
вещую тревогу принести домой,
уловить намеков неземную речь
и в слова земные нежно их облечь.
«Всегда ль стремиться будем…»
Хранит душа нелживое преданье
о неземном каком-то бытии,
и в полуяви, полузабытьи
тяжелое приемлет испытанье.
Невнятен гул, раскинутый окрест,
неясно суетливое движенье,
и как знакомое и жуткое виденье,
встает пред нею почерневший крест.
К нему ли путь? иль от него дорога?
принять ли казнь? иль встречного казнить?
Из светлых бездн до темного порога
кто протянул бледнеющую нить?
Забвенную могу ли я винить,
влюбленный в жизнь, не ведающий Бога?
Блажен, кто помнит, счастлив, кто забыл.
Земля для нас полна очарованья,
и если людям нужно оправданье,
нас оправдает, кто однажды был.
Сквозь времена, и стогны, и пустыни
он душу бдящую уверенно пронес.
Но Божий Рай не стоит тихих слез
невест о женихе и матерей о сыне.
Господь решил, Господь неумолим:
отступник, кто предаст нелживое преданье.
И полюбив земное испытанье,
я недостоин быть избранником Твоим.
За радость здешнюю, за здешнее страданье
благословлю Тебя, кем буду я судим.
«Мне знакомы три напева…»
Всегда ль стремиться будем
к нездешним берегам:
что непонятно людям —
неведомо богам.
И лживым прорицаньям,
во власти тех же пут,
с бессмысленным вниманьем
внимают там и тут.
Хоть мельком заглянуть бы
за ту немую грань,
где ткут глухие судьбы
узорчатую ткань,
где прихотью случайной
родится и живет,
своей не зная тайны,
и этот мир, и тот.
Загадкою столикой
двояко смущены
бессмертные владыки
и смертные сыны.
И так сплелися нити,
что к небу и к земле
единый вихрь событий
взмывается во мгле.
Разгадки не добудем,
увы! ни там, ни тут:
что непонятно людям,
и боги не поймут.
«Так… Пушкин, Рыбников, Евангелье… А рядом…»
Мне знакомы три напева,
уловил их чуткий слух:
нашептала первый дева,
а другой – напев старух.
Все пленительны, но третий
самым внятным был из трех
оттого, что нет на свете
слов звучней, чем женский вздох.
Непорочность, примиренность,
страсть скорбящая в тиши,
вам – троякая влюбленность
очарованной души.
Сказка
Так… Пушкин, Рыбников, Евангелье… А рядом
листок вечерний, купленный сейчас,
с сырой печатью, с злободневным ядом,
рожденный только что и мертвый через час.
И тут же – Русская газета,
два моря переплывшая давно.
Закрыта дверь, завешено окно,
и дождь и буря на дворе… И это,
и это – жизнь моя… Надолго? навсегда?
желал ли я такой иль примирился с нею?
какой судьбой заброшен я сюда?
каких заклятий преступить не смею?
Судьба… судьба… но верю ли в судьбу?
И сладко сетовать лишь на вину чужую.
Мой грех, мой тяжкий грех, коль заживо в гробу
я схоронил себя и, схоронив, тоскую.
Прости меня, родимая страна,
ведь по неведенью, без умысла лихого,
я грешен пред тобой, как ты сама грешна
за веком век и с каждым мигом снова.
Недаром я твой сын. Недаром ты
глядишь на Запад, грезишь о Востоке,
державная и в хате кривобокой,
но узница раздольной пустоты.
Прости меня, чтоб я себя простил.
Как ты, и я тружусь на черной пашне,
безжалобно, упорно, в меру сил,
свершая подвиг свой, такой же, как вчерашний.
И что кругом творится – все равно:
для нас, мы знаем, жатва не поспела.
Душа тосклива и устало тело:
мы оба молоды, но молоды давно.
Под снежным саваном внимательней и чутче
теперь ты слушаешь безрадостную быль,
знакомую и мне… Вот Рыбников и Тютчев,
вот Пушкин – посох мой, Евангелье – костыль,
а вот – за мигом вьющаяся пыль —
уже отставшая от времени газета…
И это – жизнь моя. И это
теперь – как прежде, как всегда – не ты ль?
Жили-были… Нет, не так:
жили-жили, да не были.
И опять попал впросак:
и не жили, только слыли.
Кто же? Матерой казак?
иль царевич с царь-девицей?
иль Иванушка-дурак
с самогудом и жар-птицей?
иль ученые коты?
или злобные Кощеи?
Нет, всего лишь я да ты,
и не где-то, а в Рассее.
Родились: ты – здесь, я – там,
друг о друге и не зная,
и душой и по летам
я – такой, а ты – иная.
Разделяли нас века,
вся родимая равнина,
точно два материка
океанская пучина.
Как царевна, ты спала,
И блуждал я долго, долго.
Но не вспять ли потекла
вдруг река большая, Волга?
Мы сошлись лицо к лицу,
друг на друга поглядели…
И пришел рассказ к концу,
ибо любим мы доселе.
– «Вот так сказка. Небеса
почернели от досады:
где же, друг мой, чудеса
и волшебницы и клады?»
– Где? не видишь? как же так?
Клад – любовь, взаимность – чудо,
а Иванушка-дурак
это я, – всегда и всюду.
Из сборника «СТИХИ РОССИИ» (Париж, 1916)
ЛюбовницаРусь
Я с детских лет люблю тебя, родная,
и в смене дней, и дел, и настроений,
среди забот и быстрых совершений,
и медленных раздумий, созревая,
менялся я, тебе не изменяя.
Свободной прихотью расцвечен путь далекий,
но верен он горящей на востоке
звезде-предвестнице неведомого дня.
К тебе, к тебе одной он приведет меня,
как приводил не раз со всех концов вселенной,
куда я странником тревожным уходил
иль устремлялся думою мятежной.
Пусть аромат чужой иль отблеск зарубежный
в одежде и в очах назад я приносил —
Твой лик в моей душе хранится неизменный.
Чем связан я с тобой, понять я не сумел,
влеченью тайному не ведаю причины.
Мой взор и остр и прям, мой разум трезв и смел,
лица любимого я подсчитал морщины
и долгим опытом созревшего мужчины
рассеял юный хмель обманчивой мечты.
Не беспорочнее, не всех прекрасней ты,
но слабость каждая и каждый недостаток
кладут особенный и милый отпечаток
на облик твой, на все твои черты,
чья прелесть властная уму непостижима.
Законник мелочный, эстет иль моралист,
чье сердце лишь сосуд, который пуст и чист,
не вам ее судить. Слепцы, несите мимо
каноны красоты в дворцы или в музей
и нормы должного – в палаты правосудий.
Вам труп милей, чем грех, и правила – чем люди,
вы, рыцари кладбищ, не прикасайтесь к ней.
Любимая, не я повел тебя к венцу,
но с детских лет союз наш вне закона.
Была ты дочерью покорною отцу,
женой послушною и трепетной, чье лоно
законный плод растит в безволье вековом.
Из дома отчего вошла ты в мужнин дом,
был брат тебе вождем и будет сын владыкой.
Но вечно робкая и вечно под ярмом,
не осознав души глубокой и великой,
не двигаяся там, где сказано: побудь! —
по всем земным путям ты шла за кем-нибудь:
с одним – в дворцы вельмож, с другим – на баррикаду,
к народу иль к царю, на площадь иль в засаду,
в подполье, иль на казнь, иль в ссылку, иль в тюрьму,
с воителем – на брань, и в храмы – за пророком.
Все испытавшая, ты веришь ли тому,
кто верит, борется иль жаждет за тебя?
Иль знаешь ты, что он, свой замысел любя,
к тебе давно склонял невидящее око?
Но ими создан был твой жизненный уклад:
в нем нет моей вины и нет моей заслуги.
Я не отец родной и не родной я брат,
и не законный муж законнейшей супруги.
Я всей твоей родне навеки не родня,
среди твоих друзей лишь мне не будет друга,
и только ты одна, не дочь и не подруга,
с глубокой нежностью приветствуешь меня.
Быть может, знаешь ты, сближая наши доли,
не светлым разумом, не просветленной волей,
а вещей чуткостью, не свойственной мужам,
что я – свободный зов над вечною неволей,
призыв таинственный к незримым небесам.
Я – сердца твоего несказанное слово,
твоей души – неизлученный свет,
над твердью сущего, над правдою былого
я – быта властным «да» правдивейшее: «нет».
И будет ли судьба к тебе неблагосклонна
иль за руку возьмет, светлея с каждым днем, —
любовница моя, вне жизни, вне закона,
идут любовники не лучшим ли путем?
Не лучшим ли путем, вне жизни, вне закона,
страна родимая, и мы с тобой идем?
Родимая
По равнинам, по вершинам,
по болотам и лесам,
к неизвестным Палестинам,
к недоступным небесам
ты бредешь усталым шагом
и, пытая жребий свой,
то покорствуешь Варягам,
то воинствуешь с Литвой.
То под тяжестью ты ноешь
Чингисханова ярма,
то под иго крепостное
ты склоняешься сама.
Лапти, посох и котомка —
вот и все твое добро.
Но за то не сердце ль емко
и не в песне ль серебро?
и в рассказе невеселом
ярким золотом горит
то, чего не взять Монголам
и не купят Фриз и Брит?
Но безрадостно и сиро
побираяся с сумой,
обхватила ты полмира
и забыла путь домой.
Или был всегда неведом
этот путь мечтам твоим,
и бредешь ты к Самоедам
и плывешь в Ерусалим?
Ах ты, странница Господня,
сиротинушка, мой свет!
Я б с тобой пошел сегодня
и туда, где жизни нет.
Не во все часы такою
я б тебя постигнуть мог:
но сейчас твоей тоскою
и меня сподобил Бог.
И далёко ли иль близко
нам идти, плечо к плечу,
пред тобою низко,
низко преклониться я хочу.
Степью ровной и унылой
я бреду, куда – не знаю.
Безнадежно все, как было:
чем помочь родному краю?
Сколько тут нужды изжито,
унижений и печали?
Но сквозные, точно сита,
души без толку страдали.
И от люльки до могилы
все бредем одной дорогой.
Где мы были, где мы были
в час, когда распяли Бога?
Дух без плоти, плоть без духа —
ну, какую цель намечу?..
Вижу, ветхая старуха
не спеша идет навстречу.
Очи ласковы и влажны,
как фиалки на закатах.
Скорбно замер стон протяжный
на устах покорно сжатых.
Подошла ко мне вплотную:
«Не видал ли, странник Божий?»
– Знаю я страну родную,
все в ней дни и люди схожи. —
«Не видал ли, милый, сына?»
– Что ты, бабушка? какого?
ведь Россия не пустыня… —
Но упрямо шепчет снова:
«Сына, сына родила я,
отдала я сына людям…»
Так твердила и другая,
та, чью скорбь мы помнить будем.
Говорю ей: был когда-то
распят Сын жены небесной;
но былому нет возврата,
к жизни нет тропы воскресной.
Подняла худую руку,
засветилася слезами:
«Нашу алчущую муку
ты ль не принял вместе с нами?
Где томленье безысходней
и безрадостнее бремя?
Разве благости Господней
здесь не место и не время?
Распинаем ежечасно,
жертвой Господу угодной,
сын смиренный и безгласный,
и холодный, и голодный.
И с тех пор, как был впервые
путь проложен из могилы,
ходят матери земные,
ищут, кличут: где ты, милый?
Не видал? Ну Бог с тобою…»
И пошла тропой тернистой:
в степь? иль в небо голубое?
к людям грешным? иль к Пречистой?
Так без ласкового слова
друг от друга побрели мы…
Не признала ты родного,
не узнал и я родимой.