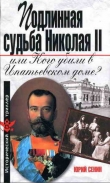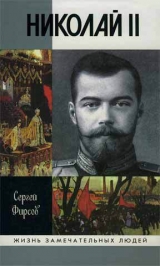
Текст книги "Николай II"
Автор книги: Сергей Фирсов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 43 страниц)
Значит ли сказанное, что заявление о приоритете частной жизни есть негативная характеристика последнего самодержца? Нет, такой вывод был бы ошибочен. Николай II искренне полагал, что имеет право на приватность. Иначе не стал бы редактировать книгу А. Г. Елчанинова. Не желая публичного обсуждения себя и своей семьи, он не хотел скрывать от подданных того, как проходит будничная жизнь порфироносцев и их детей. Да и скрывать-то было нечего. Семья была дружная и чистая. Неслучайно в книге имелся специальный раздел о царских детях, в высокопарных выражениях сообщавший банальную правду: родители любили детей, а те отвечали им взаимностью… Чем проще и откровеннее истина, тем сложнее бывает в нее поверить. Однако в царской семье все обстояло именно так, как излагалось в книге.
К 1913 году старшие дочери Николая II были уже барышнями, будущее которых обсуждалось не только в царской семье, но и в великосветских салонах, кабинетах Министерства иностранных дел. Что их ждет, за кого они выйдут замуж, насколько их брак будет выгоден Российской империи? Прежде всего говорили о старшей великой княжне – Ольге, которую называли самой одаренной из всех дочерей царя. Религиозная и склонная к мистицизму, не только по характеру, но также по осанке и грации напоминавшая мать, она, по словам А. А. Вырубовой, «думала о браке с Борисом Болгарским. Еще ребенком она получила от него в подарок какую-то драгоценность и с тех пор говорила о браке с ним». Трудно сказать, насколько сказанное соотносится с реальностью, – прошлое оставляет нам загадки, решить которые не всегда возможно, но сообщенное ближайшей подругой Александры Федоровны следует учитывать, имея в виду, что в 1912 году сановный Петербург бурно обсуждал «помолвку» великой княжны и внука Александра II – великого князя Дмитрия Павловича.
Как это часто бывает, слух оказался неверным: старшая дочь Николая II замуж не вышла. Не вышла замуж и любимая дочь царя – великая княжна Татьяна. Младшие сестры Ольги и Татьяны, в силу возраста, накануне войны с матримониальной точки зрения еще не рассматривались. Императрица, лично занимавшаяся воспитанием великих княжон, внимательно следила за тем, с кем они общаются, опасаясь сближения дочерей с аристократическими семьями и даже с многочисленными кузинами. Стремясь воспитать детей «правильно», императрица уделяла большое внимание религиозной «составляющей». Ее дочери были глубоко религиозными и мистически настроенными христианками («под влиянием Распутина молоденькие великие княжны утверждали, что они никогда не выйдут замуж, если замужество может означать отход от православия»).
Они глубоко любили Россию и, если верить А. А. Вырубовой, «не допускали мысли о замужестве вне пределов родины и вне православия. Девушки хотели служить России, выйти замуж за русских и иметь детей, которые бы тоже служили России». Максимализм юности не девальвирует искренность чувств великих княжон, но вызывает некоторые недоумения – а как же «избранник» Ольги Николаевны, болгарский принц Борис? Впрочем, логика в данном случае неприменима: та же А. А. Вырубова заявляла, что только революция помешала дочерям последнего самодержца выйти замуж за представителей иноземных царствующих домов. По ее же утверждению, императрица «пролила немало слез, зная, что как царские дочери, они никогда не смогут выйти замуж по любви, а выбор их должен быть обусловлен политическими или иными подобными соображениями».
Но удивительно не это. В конце концов дочери поступили бы так, как предписали бы им родители, – с самого раннего детства великим княжнам прививалось чувство долга. Важнее другое – странный инфантилизм царских дочерей, о котором писали общавшиеся с ними современники. «Надо отметить, – вспоминал генерал А. А. Мосолов, – что великие княжны – я говорю о том периоде, когда две старшие были вполне взрослыми барышнями, – часто разговаривали как 10–12-летние дети». Ничего удивительного в том не было: лишенные возможности нормально общаться со сверстницами, жившие по правилам, жестко установленным матерью, великие княжны были обречены обходиться без близких друзей, на правах детей занимая свое место в мире взрослых.
Как уже говорилось, с течением времени надзор за ними перешел к гофлектрисе императрицы – Екатерине Адольфовне Шнейдер, племяннице лейб-медика Г. И. Гирша. В свое время она учила русскому языку великую княгиню Елизавету Федоровну и сумела произвести наилучшее впечатление на ее младшую сестру. Эта обрусевшая иностранка не предала своих венценосных покровителей, оставшись с царской семьей и после гибели монархии. К сожалению, искренность и честность не всегда могут заменить воспитание. Е. А. Шнейдер при всех своих достоинствах была только исполнительницей предначертаний Александры Федоровны, не имея возможности стать для царских дочерей учителем и наставником. Русскую жизнь она знала плохо (если вообще знала). Собственно, жизнь для нее ограничивалась двором и правилами придворного этикета. Думается, инфантилизм царских дочерей, о котором писали современники, и был расплатой за подобное воспитание. Родители воспринимали их как маленьких детей даже тогда, когда Ольге и Татьяне Николаевнам было уже по 18–20 лет.
Здесь, впрочем, стоит сделать отступление, вспомнив, что старшая дочь Николая II имела возможность выйти замуж в 1917 году. Многократно упоминавшийся генерал А. А. Мосолов писал, как в годы Великой войны, уже в качестве посла в Румынии, докладывал императрице о матримониальных намерениях румынского принца Кароля. Александра Федоровна высказала намерение пригласить королеву Румынии и принца Кароля в Царское Село на пасхальные праздники 1917 года. После этого и предполагалось обсудить, насколько возможен этот брак. Но Мосолов чувствовал, что царю, которого он об этом оповестил, было бы приятнее узнать, что Александра Федоровна отказала: «…расставаться с дочерью было неприятной перспективой для отца». Другой современник, генерал А. И. Спиридович, наоборот, писал, что родители обеих сторон к возможности брака относились благожелательно.
Румынский принц приезжал в Царское Село (вместе с председателем Совета министров Румынии Братиано) в самом начале 1917 года. 9 января по случаю пребывания высокого гостя в Александровском дворце Царского Села состоялся парадный обед, на котором присутствовали и три царские дочери – Ольга, Татьяна и Мария. В официальных сообщениях и комментариях российских газет никаких намеков на то, что визит Кароля имеет «брачный» характер, не было. Современники вспоминали, как принц сожалел о том, что за все время пребывания в Царском Селе ему ни разу не удалось поговорить с великой княжной Ольгой Николаевной без посторонних. В результате 26 января 1917 года Кароль, пожалованный орденом Святого Владимира 4-й степени, безрезультатно отбыл на родину. История несостоявшегося брака оказалась закрытой. Случившаяся месяцем позже революция навсегда похоронила даже обыкновенную возможность личного счастья великих княжон, сделав их арестантками – заложницами политической катастрофы, подведшей под русской монархией роковую черту…
Они целиком и полностью соответствовали той роли, которая отводилась национальным мифом дочерям «благочестивейшего самодержца»: скромные, верующие, послушные воле родителя. Жизнь распорядилась так, что в историю они вошли, сыграв эту единственную роль, «растворившись» в отце и матери. Если это рассматривать как невольную (хотя и чистосердечную) жертву, то это жертва идее, самодержавной идее, стилизованной Николаем II под XVII век. Идея поглотила личное счастье, а в итоге и жизнь, дав взамен страстотерпческую славу. Но об этом позже. В 1913 году будущая трагедия монархии со всей отчетливостью еще не просматривалась. Апологеты самодержавия имели возможность заявлять, что «Россия воплощается в своем Царе», а царь «есть высшее проявление понимания народом русским своей судьбы». В качестве доказательства казалось вполне нормальным вспомнить о гимне: «Боже, Царя храни! Сильный, Державный, царствуй на славу нам! Царствуй на страх врагам, Царь православный! Боже, Царя храни!» Однако чем дальше, тем больше слова гимна становились только словами; содержание выхолащивалось, а форма продолжала существовать.
***
Если для монархистов 300-летний юбилей дома Романовых был государственным праздником, главным действующим лицом которого являлся самодержавный государь, то для политической оппозиции это было напоминание об «отсталости» и «дикости» политического бытия России. Один из самых талантливых публицистов русской социал-демократии – Л. Д. Троцкий откликнулся на 300-летие памфлетом, героем которого стал правящий монарх. Понятно, что для революционеров царь был средоточием всех бед страны, ответственным за любые «преступления и злодеяния» режима. И все же, по моему убеждению, памфлет Троцкого игнорировать не стоит, ибо в нем содержится квинтэссенция всех «левых» претензий к самодержавию. В духе Троцкого большевики писали о царе и после того, как они захватили власть, и даже когда автор был объявлен «врагом трудового народа», агентом всевозможных разведок и фашистским наймитом.
Итак, для Троцкого Николай II не просто «августейший штемпель» (как его назвал еще в 1904 году П. Б. Струве), силой обстоятельств он стоит в центре всей государственной машины, оказывая на ее ход определяющее влияние и «усугубляя ее подлый святошески-разбойнический, церковно-погромный характер». При этом сам Николай II, по словам автора, – «вырожденец по всем признакам, со слабым, точно коптящая лампа, умом, со слабой волей», воспитанный «в атмосфере казарменно-конюшенной мудрости и семейно-крепостнического благочестия своего родителя, крутого и тупого Александра III». Давая столь яркую и резкую характеристику, Троцкий указал и на то, что Николай II имеет много черт, роднящих его с «полоумным Павлом».
Схема была проста и удобна. Описывая самодержца, она позволяла критиковать самодержавие, и наоборот. Грубо, развязно и безжалостно, но тем не менее верно Троцкий указывает на главную черту личной политики Николая II – охранение самодержавия (как он пишет, «самодержавного идиотизма, общественной и государственной неподвижности»). Охранение самодержавия для автора – это преодоление козней и чар исторического процесса, приостановка колеса развития. Для доказательства составляется и список «достижений» царя, открываемый Ходынкой «с 5000 трупов». Далее упоминаются стачки и выступления рабочих, закончившиеся их убийством; закрытие периодических изданий; репрессивная студенческая политика; отлучение от Церкви Л. Н. Толстого и политика в отношении Финляндии; Русско-японская война; 9 января 1905 года; ненависть к инородцам, покровительство погромам и дело Бейлиса, которое якобы «ведется в угоду царю»; и наконец, государственный переворот 3 июня 1907 года.
Свалив в одну кучу всё и вся (и случайные трагедии, и государственные просчеты, и церковные решения), Троцкий нарисовал картину деградации власти, возглавляемой «ничтожным по духу», но «всесильным по власти» царем, не забыв поиздеваться над его предрассудками, достойными эскимоса, и кровью, «отравленной всеми пороками ряда царственных поколений». После 9 января 1905 года, утверждал Троцкий, «царь становится признанным и открытым покровителем… разномастной, но одинаково преступной сволочи» (партии «политических фальшивомонетчиков», с одной стороны, и «банды кровопускателей» – с другой). «Это – его единомышленники, его соратники, его духовные братья. <…> Это – его партия, это – подлинный, романовский „народ“».
Вывод напрашивался сам собой – самодержавие есть безусловное зло, а его апологеты могут рассчитывать только на поддержку презренного политически-националистического. Троцкий договорился до того, что заявил: в любой «культурной» стране такого человека, как Николай II, приговорили бы к пожизненным каторжным работам, конечно, если бы признали вменяемым. Получалось, что носитель «славы и чести якобы „трехсотлетней“ династии» по своим моральным, интеллектуальным и деловым качествам вполне соответствовал клонящейся к неизбежному концу преступной монархической государственности. Иначе говоря, Николай II – человек из прошлого, которое должно погибнуть. Символ соответствовал символизируемому.
Выставляя политический счет самодержцу, Троцкий коснулся и национального вопроса – одного из наиболее болезненных в многонациональной Российской империи. По его мнению, Николай II более всего не любил евреев. Антисемитизм – тема деликатная, говорить об этом, прилагательно к истории последнего самодержца, нелегко. Безусловно, можно отделаться констатациями, но они вряд ли помогут разобраться в вопросе. Прежде всего необходимо отметить, что Николай II был сыном своего отца, а Александр III слыл ярым антисемитом. Современники отмечали особую ненависть царя-миротворца к евреям, на одной из резолюций написавшего, «что все евреям приключающееся заслужено ими, потому что сами они хотели, чтобы кровь Иисуса Христа осталась „на нас и на детях наших!“» [88]88
Дневник государственного секретаря А. А. Половцова… запись от 18 апреля 1890 г.
[Закрыть]. Неудивительно, что с 1881 по 1894 год было издано 65 законов, направленных против евреев.
Николай II в этом отношении был последовательным единомышленником венценосного родителя: за двадцать лет правления (до июня 1914 года) он издал еще 50 законов и распоряжений антиеврейской направленности.
«В этой вакханалии соревновались министры и губернаторы, городские управления и учебные округа, – пишет Б. Динур. – Естественно, что это рождало „еврейский бунт“, – неизбежное сопротивление». «Сопротивление» опосредованно влияло на политические настроения царя; круг замыкался, и все начиналось по-новому. Неслучайно история правления Николая II показывает, что «мистические настроения» царя в области еврейского вопроса подсказывали ему только решения, согласные с пожеланиями Союза русского народа. В этом контексте можно рассматривать и «дело» М. Бейлиса, суд над которым состоялся в юбилейном 1913 году, осенью, в городе Киеве. Еврея Бейлиса обвиняли в ритуальном убийстве христианского мальчика Андрея Ющинского. И хотя присяжные оправдали обвиняемого, «дело» способствовало распространению погромной литературы и мифов о «еврейских религиозных изуверах».
Действие (в том числе и социальное) обыкновенно вызывает противодействие. Так было и осенью 1913 года. Либеральная и революционная общественность как России, так и Запада бурно реагировала на киевский процесс, по стране прокатилась волна митингов и протестов. Царя, в то время отдыхавшего в Крыму, постоянно информировали о происходившем. На фоне нараставшего рабочего движения средневековое обвинение евреев выглядело не только абсурдным, но и политически опасным. Но «пьеса» была разыграна до конца. И хотя черносотенцы не получили удовлетворения, а православные богословы официально признали, что миф о ритуале не имеет под собой никакого основания, репутация России, несомненно, пострадала. Вспоминая то время, «ликвидационные процессы, дело Бейлиса и под[обное]», протоиерей Сергий Булгаков с горечью констатировал: «Россия экономически росла стихийно и стремительно, духовно разлагаясь». О «стихийном росте» речь пойдет немного позже, а сейчас хочется обратить внимание на жестокость булгаковского признания, звучащего как приговор («духовное разложение»)! Судебный процесс в Киеве стал «полицейской Цусимой», то есть новым поражением власти. «Дело» Бейлиса, таким образом, негативно повлияло и на отношение к монарху – самодержавному правителю многонациональной империи.
Впрочем, был и еще один важный момент. По мнению такого квалифицированного юриста, как А. С. Тагер, «неоднократные доклады, которые по этому делу представлялись Николаю II как по Министерству юстиции, так и по Министерству внутренних дел, так, наконец, и по Министерству иностранных дел, свидетельствуют о том, что все это начинание имело за собою с начала и до конца поддержку и одобрение самого царя».
И подвел итог: «Так союз воровской шайки, убившей Ющинского, с государственной прокуратурой и командовавшей организацией объединенного дворянства был возглавлен царской фигурой».
Моральное одобрение, действительно, часто бывает не менее важно, чем юридическое «оформление» тех или иных решений. Это, вероятно, и имел в виду А. С. Тагер. Николай II до конца жизни относился к евреям с подозрением. Через год после отречения от престола, в марте 1918 года, ознакомившись с книгой С. А. Нилуса об Антихристе, куда были включены «Протоколы сионских мудрецов», он отметил в дневнике: «весьма своевременное чтение». Очевидно, революцию 1917 года он считал не в последнюю очередь результатом действия «жидо-масонских сил». С убеждениями не поспоришь! А ведь он был не только царем православным, но и «Белым царем», то есть благодетелем и милостивцем для всех своих подданных. Несомненно, Николай II искренне желал играть роль такого «милостивца», но, увы, это удавалось ему далеко не всегда.
По большому счету, проблема заключалась не только в евреях, которых в империи проживало около шести миллионов. Многое зависело от того, как «инородцы» в большинстве своем относятся к русской короне, насколько они считают русского царя «своим» господином. Это беспокоило многих современников последнего самодержца. Считая свое время переходным, являющимся «в истории исходным или для обновления России, или для ее распадения и гибели», граф И. И. Толстой в своих мемуарах отмечал: по переписи 1897 года в империи было приблизительно 128 миллионов жителей. Прирост населения составлял 1,8 процента ежегодно, соответственно, к 1906 году на бескрайних просторах России проживало 150 миллионов. Из них 97 миллионов славян и до 53 миллионов неславянских народов (причем только 56 миллионов великороссов, 25 1/ 2миллиона малороссов, 6 1/ 2миллиона белорусов и 9 миллионов поляков). Убирая поляков из общего числа славян, получали более 58 процентов «русских» и 42 процента «инородцев». «В отношении культурности, – писал граф, – русские стоят далеко не на первом месте: культурнее их поляки, немцы, которых в России более полутора миллионов, финны Великого Княжества».
В таких условиях необходимо было проводить чрезвычайно аккуратную национальную политику, опасаясь резких заявлений и непродуманных действий. На практике все было не так. К примеру, «пренебрежение национальными и вероисповедными интересами местного населения, дикое самоуправство административной власти и массовая конфискация земель в интересах колонизации превратили Казахстан и Среднюю Азию во взрывоопасный для царизма регион, подготовив почву для андижанского восстания 1916 года». Известный отечественный ученый В. С. Дякин, которому принадлежат процитированные выше строки, полагал, что национальный вопрос в эпоху последнего царствования стал одним из важнейших дестабилизирующих факторов. К сожалению, необходимо признать безусловную верность данного заявления, согласившись и с тем, что «при определенной степени зрелости этносов, включенных в состав многонациональных империй, удержание их в одном государстве становится возможным только при помощи силы. Поэтому как только империя демонстрирует отсутствие такой силы, она разваливается».
В 1913 году казалось, что у империи сила есть, что она сможет решить свои проблемы и выйти на исторический простор обновленной и сильной. Экономические данные, свидетельствующие о состоянии России, вселяли оптимизм. Укреплялась уверенность в том, что окончательное решение земельного вопроса не за горами. А раз так, то коренное великорусское население, несомненно, будет самой крепкой опорой самодержавной власти. Насколько верны оказывались подобные ожидания? Попытаемся ответить.
Земледельцы составляли большинство подданных русского монарха. И. И. Толстой полагал, что не ошибется, утверждая, что из общего числа 88 миллионов «русских всех трех наречий» не менее 70–75 миллионов – хлебопашцы. Таким образом, по его мнению, кардинальным вопросом русской жизни являлся аграрный, «в широком смысле». Нельзя сказать, что вопрос этот не решался – после Первой российской революции крестьянская жизнь постепенно изменялась к лучшему. Согласно данным 1912–1916 годов, площадь Европейской России (не считая Польши и Финляндии) была около 410 миллионов десятин, из которых 130 миллионов составляли пахотные земли, 80 миллионов – луга, 130 миллионов – леса и 70 миллионов – земли, неудобные для занятия сельским хозяйством. Более 50 процентов леса и большое количество неудобных земель принадлежало казне (около 110 миллионов десятин). 35 миллионов десятин числились как земли уделов, а также городские, церковные, банковские, войсковые. Свыше 75 процентов пахоты и лугов находились в руках крестьян – это более 180 миллионов десятин. Частные владельцы распоряжались 55 миллионами десятин, половину которых составляли леса. Ежегодно более миллиона десятин переходили в руки крестьян при посредстве Крестьянского банка.
«Не прошло бы и двадцати лет, – полагал Б. А. Энгельгардт, – как аграрный вопрос, чисто эволюционным путем, оказался бы фактически разрешенным полностью». Оптимистические прогнозы делали в то время и иностранные эксперты, писавшие о серьезном улучшении экономических условий жизни русских крестьян [89]89
См. например: Тэри Э.Россия в 1914 г.: Экономический обзор. Paris, 1986.
[Закрыть].
Можно ли было доверять им? Безусловно, можно, но с некоторыми комментариями. Глубоко изучавший аграрные проблемы николаевской России В. С. Дякин полагал, что финансирование сельского хозяйства не могло существенно изменить в лучшую сторону положения деревни, а это неминуемо должно было сказаться (и сказалось) на политическом будущем страны. В экономическом и политическом строе империи не были преодолены полуфеодальные пережитки, затруднявшие приток капиталов в сельское хозяйство. Это привело к тому, «что в третьеиюньский период диспропорция между промышленным и сельскохозяйственным производством увеличилась. По подсчетам С. Н. Прокоповича, – писал ученый, – чистый прирост производства (без влияния изменения цен) составил с 1900 по 1913 год в промышленности 62,7 процента, а в сельском хозяйстве 33,8 процента. В обоих случаях этот прирост почти целиком падает на 1907–1913 годы. При этом рост производства в сельском хозяйстве происходил в значительной мере за счет экстенсивных факторов – увеличения посевных площадей за Уралом и на юго-востоке Европейской России и серии урожайных лет. Наименьшую роль в некотором подъеме сельского хозяйства сыграла земельная реформа, влияние которой только начинало сказываться…». Логика В. С. Дякина понятна – он связывает возможности качественных изменений в деревне с проведением социально-политических реформ. Остановка реформ, таким образом, для сельского хозяйства была равносильна строительству большого здания при отсутствии прочного фундамента.
Однако существовало и еще одно обстоятельство. Россия, при всем своем предвоенном движении вперед, существенно отставала от европейских стран – как своих союзников, так и будущих противников. Из всех ведущих мировых держав, вставших на путь капитализации народного хозяйства, по всем имперским структурам Россия занимала последнее место (только Великороссия приближалась к среднемировому уровню). По размеру национального дохода у России было четвертое место в мире, по среднедушевым показателям она находилась на предпоследнем месте, опережая лишь Японию, но не достигая среднемирового значения. Все российские качественные показатели (как то: объем промышленного производства на человека и годовая выработка одного рабочего) составляли половину среднемировых значений, в 5–10 раз уступая Соединенным Штатам, Германии и Великобритании. И это притом что в период между 1890 и 1913 годами русская промышленность увеличила свою производительность в четыре раза! С 1910 по 1914 год число вновь учреждавшихся акционерных обществ возросло в России на 132 процента, а положенный в них капитал – почти в четыре раза. Экономическое развитие – несомненно, но оно не успевало за стремительно менявшейся политической обстановкой, заставлявшей серьезных политиков задумываться о приближающейся войне. А ведь по основным показателям оснащения вооруженных сил Россия уступала не только армиям Германии и Франции, но также Италии, Австро-Венгрии, Японии. Даже в мирное время российская промышленность в лучшем случае могла обеспечить только текущие нужды вооруженных сил в основных типах вооружений, а современных ударных систем в императорской армии было в два – пять раз меньше, чем в Германии и во Франции.
Примеры можно продолжать. Но что из этого следует?
Только одно: по качественным показателям, характеризующим степень индустриализации, страна, как отмечает историк А. И. Степанов, «являлась развивающейся аграрно-индустриальной державой, обладавшей огромными возможностями. По природно-демографическому потенциалу она занимала одно из ведущих мест в мире после Британской империи, значительно превосходя (в 1,5–6 раз) все остальные державы. По уровню индустриализации общества и экономическому потенциалу в целом Российская империя, включая ее центральные части, наряду с Японской империей, входила в третью группу индустриально развивающихся стран, в которых были созданы основы крупного машинного производства, имелся значительный отряд фабрично-заводских рабочих…». О чем это говорило? Только о том, что легенда о «русском паровом катке», который своей мощью может раздавить любого врага, могла дорого стоить стране.
«Недооценка потенциала вероятных противников России в предстоящей войне, – продолжает А. И. Степанов, – явилась одной из причин дезориентации верховной власти, рассчитывавшей на кратковременную победоносную кампанию». Но дело конечно же было не только в дезориентации власти. Европейские политики (и в России, и на Западе) понимали, что европейская война неизбежна. Уже после катастрофы 1917 года и Гражданской войны граф В. Н. Коковцов вспоминал: «Война была предрешена еще тогда, когда у нас были убеждены, что ее не будет, и всякие опасения ее считались преувеличенными либо построенными на односторонней оценке событий». Будучи в Берлине за восемь месяцев до начала войны, он ясно осознал: мирное время подходит к концу, развязка приближается неотвратимым шагом, и «ряд окончательных подготовительных мер, начатых еще в 1911 году, то есть за три года, уже замыкает свой страшный цикл, и никакое миролюбие русского императора или искусство окружающих его деятелей не в состоянии более разомкнуть скованной цепи, если не совершится чуда». В конце 1913 года В. Н. Коковцов доложил государю о своей поездке, дополнив рассказ личными впечатлениями, сводившимися к убеждению в близости и неотвратимости катастрофы. Николай II ни разу не прервал своего премьера, закончив беседу сакраментальной фразой: «На все воля Божия!»
Была ли это покорность судьбе, понимание своей обреченности, ощущение скорой трагедии? Кто знает… Не будем гадать.