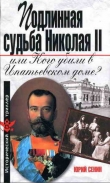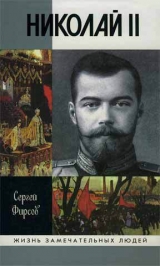
Текст книги "Николай II"
Автор книги: Сергей Фирсов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 43 страниц)
А вскоре, 10 апреля 1907 года, царь посетил месячный обед Гусарского полка, который был также и «мальчишником» для Николая Николаевича – 29 апреля в Крыму он официально обвенчался с Анастасией Николаевной. Никаких сомнений в том, что дядя поступил правильно, у Николая II не было. Подобное в царской семье случилось впервые: до того ни один из членов дома Романовых не женился на женщине, ранее состоявшей в браке с его родственником (герцог Георгий Лейхтенбергский, как и великий князь Николай Николаевич, приходился внуком императору Николаю I). Однако подобные «тонкости» для последнего самодержца никакого значения не имели: ведь великий князь был «так нужен».
Ситуация повторилась через несколько лет, когда «нужный» Николаю II генерал В. А. Сухомлинов, так же как и Николай Николаевич, решал свои матримониальные дела. Только самодержавная поддержка обеспечила генералу возможность счастливо заключить брак. История этого брака такова. В. А. Сухомлинов, с 1908 года занимавший пост начальника Генерального штаба, а в 1909 году назначенный военным министром, был страстно влюблен в некую Екатерину Викторовну Бутович (урожденную Гошкевич), с которой желал обвенчаться. Но для этого необходимо было получить развод, доказав, что виновник его – муж Екатерины Викторовны. Однако муж вел безупречный образ жизни и обвинить его в супружеской неверности оказывалось проблематично. Святейший синод вынужден был отклонить предъявленные ему материалы, 27 августа 1909 года во всеподданнейшем докладе на имя царя заявив о необходимости проведения дополнительной проверки. Надуманность обвинения мужа истицы оказалась столь очевидна, что члены Святейшего синода решились доложить царю о невозможности исполнить его волю и окончить дело к 1 сентября!
Недовольный подобным ходом дела, царь решил содействовать решению вопроса о разводе на основании «верховных своих прав». Он повелел Святейшему синоду предоставить новый доклад, «дающий возможность решить это дело в смысле развода супругов Бутович», ожидая «такой постановки этого вопроса, которая, ничем не задевая достоинства членов Синода, содержала бы такие нравственные мотивы, которые дали бы основание вмешательства верховной власти». Положение, в которое попали иерархи православной церкви, оказалось исключительно щекотливым: беспрекословно исполняя самодержавную волю, они обрекались на нарушение церковных правил.
В конце концов, игнорируя поступавшие в высшую церковную инстанцию прошения мужа Екатерины Викторовны – В. Н. Бутовича, в ноябре 1909 года иерархи исполнили высочайшую волю (хотя один из них – епископ Рязанский Никодим (Боков) представил собственное мнение, не подписав документ, утверждавший расторжение брака Бутовичей). Воля царя со скандалом, но была исполнена, а нужный человек – соответствующим образом «вознагражден». Верховный Ктитор Церкви получил желаемое, даже не подумав о том, насколько его вмешательство оскорбляло достоинство православных архипастырей, неоднократно писавших ему о трудностях согласования «самодержавной воли» и церковного законодательства. Считая себя полновластным монархом, Николай II обыкновенно в частных делах и проявлял свое «самодержавие».
При этом особой любви к тому или иному чиновнику он не испытывал. По замечанию генерала А. А. Мосолова, царь относился к министру как ко всякому другому чиновнику, и «любил их, поскольку они были ему нужны». Нужда проходила – царь со спокойной совестью расставался с сановником, с необычайной легкостью увольняя даже тех, кто служил ему в течение многих лет. Будучи от природы застенчивым человеком, Николай II не любил спорить, доказывая правоту собственных взглядов. Ему было проще «обойти» сложный вопрос, а затем заставить сделать все по-своему. «Нужные» люди, как правило, оставались на своем посту до тех пор, пока не противоречили царю. В ином случае сановник был обречен рано или поздно впасть в немилость.
Яркое доказательство сказанному – история падения С. Ю. Витте. Выдающийся государственный деятель, тонкий политик и блестящий экономист, Витте после 17 октября 1905 года стремительно терял царское доверие. Николай II не мог простить графу того, что под его давлением, надеясь на скорое успокоение страны, подписал «конституцию», а никакого успокоения не получилось. Революция продолжала развиваться; по мере ее углубления менялось и настроение Витте: после Декабрьского вооруженного восстания в Москве председатель Совета министров стал активным поборником репрессий по отношению к революционерам. Не уважая людей, предающих (или меняющих) свои принципы, царь уже в январе 1906 года окончательно решил вопрос об отставке графа. Оставалось только найти замену и правильно выбрать время. В том же году, как уже говорилось, на политическом небосклоне императорской России взошла звезда П. А. Столыпина. «Я тебе не могу сказать, как я его полюбил и уважаю, – писал в октябре 1906-го Николай II матери. – Старый Горемыкин дал мне добрыйсовет, указавши толькона него! И за то спасибо ему».
О С. Ю. Витте царь пишет уничижительно, припоминая кошмарность «прошлогоднего опыта» (то есть подписание «конституционного» манифеста 17 октября) и уверенно заявляя о том, что ему,царю, вместе со Столыпинымудалось ослабить «смуту». «Нет, никогда, пока я жив, —восклицает Николай II, – не поручу я этому человеку самого маленького дела!» Пожалуй, это одно из немногих заявлений последнего самодержца, которое никогда им не было нарушено. С. Ю. Витте навсегда перешел в категорию «ненужных», ибо ему не доверяли и его презирали. Обыкновенно сдержанный и деликатный, царь даже известие о смерти графа, последовавшей 28 февраля 1915 года, встретит с нескрываемой радостью. «От того ли это происходит, – делился Николай II своими чувствами с супругой, – что я беседовал с нашим Другом (Распутиным. – С. Ф.) вчера вечером, или же от газеты, которую Бьюкенен (посол Великобритании в России. – С. Ф.) дал мне, от смерти Витте, а может быть, от чувства, что на войне случится что-то хорошее – я не могу сказать, но в сердце моем царит истинно пасхальный мир».
Радость от известия о смерти – чувство не христианское, но что же делать! Николай II ненавидел Витте вовсе не потому, что завидовал его выдающимся государственным способностям. Он не мог простить ему акта 17 октября 1905 года, ибо в его глазах это была измена самому себе, своему долгу, заключавшемуся в том, чтобы править самодержавно. В конце концов ненависть к Витте дошла до того, что царь отказал своему бывшему премьеру в его «посмертной» просьбе – передать графский титул внуку – Льву Кирилловичу Нарышкину. И неудивительно: обращаясь к Николаю II, Витте имел бестактность напомнить ему, что русский народ никогда не забудет царского призыва «к совместным законодательным трудам», назвав это бессмертной заслугой. Подобное напоминание было для царя тем больнее, что манифест 17 октября воспринимался им как нарушение коронационной клятвы. К тому же «конституционные итоги» революции современники связывали вовсе не с волей Николая II, а с действиями Витте, тем самым в глазах монарха ставшего невольным разрушителем самодержавного принципа. Такое невозможно было забыть и простить.
После революционных потрясений 1905–1906 годов, пережив вынужденное «заточение» в Петергофе и отказ от привычного уклада жизни, царь снова вернулся к мысли о необходимости преодоления «средостения», пытаясь найти выход в особых, специфически русских ценностях. Миф о «народном царе», знающем нужды своих подданных и желающем облегчить их жизнь, в эпоху Николая II становится доминирующим национальным мифом. Как писал американский исследователь Р. Уортман, этот национальный миф исключал всех, кто противостоял власти монарха, из числа истинно русских и определял их как врагов государства. Противостоять – значило противоречить суждениям монарха, расширительно понимая, что значит «верная служба». Любой подданный – прежде всего слуга, ни его возраст, должность или особое положение роли не играют. Поэтому-то «как для министра, так и для последнего камердинера у царя было всегда ровное и вежливое отношение», проще говоря – отношение господина к слуге. Самостоятельность слуги допустима лишь в тех рамках, которые допускает для него господин. Иначе – немилость и отставка, тем более что господин воспринимает себя в качестве благодетеля для всех, а не для какого-либо слоя.
Исходя из сказанного, становится понятна логика тех, кто указывал на то, что русский самодержец – это не только внешний носитель государственной власти, но и символ особого национального понимания жизни, мировоззрения, близкого и простолюдину, и образованному человеку. Идея царя, полагал монархист В. И. Назанский, «не умрет до тех пор, пока в русских сердцах жива будет православная вера, вся полнота которой находит свое выражение в Русском царстве». Эта мистическая идея, имеющая религиозное основание, для русского самодержца была жизненно необходима, она укрепляла его веру в благодетельность патриархального союза царя и народа. Однако реальная жизнь самым радикальным образом деформировала возвышенную идею. Столыпинская концепция государственного национализма основывалась на собственническом чувстве. Поддержав программу реформ своего премьера, Николай II, по существу, согласился на разрушение патриархального аграрного строя. Царь вел страну в противоположную допетровской Руси сторону, не просто разрушая устои общинной крестьянской жизни, но и поддерживая открыто провозглашенную П. А. Столыпиным «ставку на сильных», опору на дееспособную (в экономическом отношении) часть крестьянства, расслоение деревни. Таким образом, идея «царя-батюшки» – защитника слабых – уничтожалась, а Николай II превращался в «царя кулаков».
«Парадоксально, – пишет современный петербургский исследователь С. П. Подболотов, – но обстоятельства времени, в которое правил Николай II, привели к тому, что царь – убежденнейший консерватор, с ностальгическими симпатиями к патриархальной Руси, оказался в роли скорее радикального модернизатора, а не „народного монарха“ – популиста». Впрочем, объективный факт и его восприятие далеко не всегда одно и то же. Стремление царя стать выше всех и всяких сословий и групп, играть роль объединителя нации вполне объяснимо. Другое дело – насколько эти благие пожелания оказывались осуществимы. В любом случае, невозможно не согласиться с тем, что для русского царя «благо России было абсолютно значимым и не имело никакой политической окраски», ведь Николай II воспринимал себя как «народного царя».
Давно подмечено, что связь последнего самодержца с народом имела личный характер, проявляясь в пылких выражениях духовного сродства и взаимной привязанности. Царское Село, где зимой жила его семья, стало главным местом его единения с народом. В Царском был построен Федоровский городок, где квартировали Собственный Его Императорского Величества Сводный пехотный полк и Конвой. Там же возвели Федоровский собор. «Город был призван представлять духовный образец возродившейся нации, заимствованный из далекого прошлого России», – пишет Р. С. Уортмен. Построенный накануне 300-летнего юбилея дома Романовых, домовый храм императора наделялся общегосударственным смыслом. В архитектуре и убранстве Федоровского собора, посвященного фамильной иконе царской семьи, соединились черты главных соборов Московского Кремля (Благовещенского, Успенского и Архангельского), а значит – и всей России. Вторым важным способом выражения идеи царствования Николая II было посвящение престолов. Престолы верхнего храма Федоровского собора освятили в честь Федоровской иконы Божией Матери и в честь святого митрополита Московского Алексея – небесного покровителя наследника, нижний (пещерный) храм – в честь святого Серафима Саровского. Освященный 20 августа 1912 года, храм стал главным династическим собором Романовых, а сама царскосельская резиденция формировалась как уникальный архитектурный ансамбль, пронизанный идеалами народной монархии.
Показательно, что в годы Первой мировой войны родился абсурдный миф о том, что царский «друг» – Григорий Распутин – получил официальное назначение именно в Федоровский собор – «лампадником», позволявшее ему «зажигать все лампадкиво всех комнатах дворца» [82]82
См.: Переписка Николая и Александры Романовых: 1916 год. М.; Л., 1926. Т. IV.
[Закрыть]. «Связь» Распутина с Федоровским собором, рожденная в чьем-то воспаленном сознании, представляет безусловный психологический интерес – приближенный к трону представитель народа делается «лампадником» в храме, посвященном святыне русских государей – Федоровский иконе Божией Матери! Однако под каким углом зрения ни смотреть на стремление последнего царя воплотить идею народной монархии, необходимо признать: желание преодолеть «средостение» выражалось преимущественно в том, что царь больше всего любил простой народ, который, по его убеждению, верил ему постольку, поскольку видел в нем помазанника Божьего. По словам В. И. Назанского, все близко знавшие Николая II люди свидетельствовали, «что особенное расположение он всегда чувствовал к людям сравнительно плохо одетым, с неважными манерами; его влекло к ним». Кто знает, может быть, это обстоятельство и заставило царя обратить внимание на сибирского странника Григория Ефимовича Распутина, рокового человека его царствования, само имя которого стало нарицательным.
***
О Григории Ефимовиче Распутине опубликовано множество работ совершенно разной направленности. В одних он восхваляется как праведник у престола, настоящий святой земли Русской, в других называется «проходимцем» и «хлыстом». В нашу задачу не входит подробный анализ его жизни, равно как и разбор всевозможных характеристик сибирского странника. Во-первых, цель настоящей работы иная – представить биографию Николая II, а во-вторых, в последнее время появились серьезные книги, позволяющие заинтересованному и не ангажированному идеологически читателю самостоятельно разобраться в истории жизни этого человека. Среди новых исследований необходимо назвать книги А. Н. Варламова и А. В. Терещука. Заранее не предвосхищая выводы, которые читатель должен сделать самостоятельно, А. В. Терещук специально подчеркнул, что не хотел бы навязывать «вынесенный категорический вердикт и квалифицировать Григория Ефимовича либо как „государева богомольца“, либо как „богомерзкого Гришку“, или „удобную педаль немецкого шпионажа“ (как выразился Александр Блок)».
Подобный подход позволил ученому избежать крайностей в оценке последнего «старца» империи, в том числе и при описании его отношений с царской семьей. В своем изложении я постараюсь следовать этому примеру, не забывая, что Распутин еще при жизни стал превращаться в мифическую фигуру, в некий символ. Символ же не всегда сохраняет подлинные черты того, кого символизирует. «Распутинщина» – это диагноз политической болезни, переживавшейся страной в последние годы монархии, а Распутин – ее олицетворение. По словам барона H. E. Врангеля, «плодимая Распутиным грязь рикошетом обрызгала царя. Последние остатки его авторитета исчезли. В обществе и даже близких ко двору кругах повторялись слова: „так дальше продолжаться не может“.Шепотом говорили о необходимости дворцового переворота» (курсив мой. – С. Ф.). Таким образом, в Распутине видели разрушителя монархии, влиятельную и страшную фигуру, человека, имевшего возможность влиять на русского царя и его супругу. Можно ли считать это показателем того, насколько сильно прогрессировала, по словам А. Н. Боханова, «эрозия политических и религиозных чувств, пристрастий, стремлений» подданных последнего самодержца? Однозначный ответ дать вряд ли получится, как не получится оценить значение личности Распутина, хотя бы кратко не рассмотрев вопрос о морально-нравственном и религиозном состоянии русского общества.
…В 1932 году издательство «Academia» опубликовало сборник русских народных сказок под названием – «Барин и мужик». То, что сказки, относящиеся преимущественно к XIX веку, имели явную социально-сатирическую направленность, подчеркивалось в предисловии, написанном профессором Ю. М. Соколовым. А цель сборника, по словам ученого, состояла в стремлении показать, что «сказочное творчество никогда не оставалось аполитичным», «ярко выражало чаяния и стремления народных (главным образом, крестьянских) масс, было одним из орудий ожесточенной классовой борьбы, что оно в известной мере организовывало общественное мнение трудовой, преимущественно крестьянской, среды». Классовая риторика – дань эпохе строительства нового мира – нас не должна смущать; не в этом дело.
Хочется отметить иное: сказки, в которых резко высмеивались барская жестокость, жадность, спесь, безделье и глупость (материал и располагался в соответствующей последовательности), никак не высмеивали «главного барина» – царя. Разумеется, это не было упущением составителей: были бы антицаристские сказки, их опубликовали бы в обязательном порядке. В народной мифологии царь не рассматривался как «барин», он – благодетель и отец своего народа. Эта мифология дожила до XX века, полностью не смогла ее уничтожить и революция 1905 года. Десакрализация – сложный процесс, светлый образ царя в одночасье не мог потускнеть и после 9 января. Далеко не все «простолюдины» с тех пор Зимний дворец стали воспринимать как символ деспотизма, а царя – как палача своего народа. Точно так же и «царское отношение» к народу не могло быть рациональным, особенно для мистически настроенного Николая II.
Сын своего времени, он остро переживал те же страхи и надежды, что и многие «богоискательствующие» его современники. «Противоречие ведет вперед», – говорил Г. Гегель. Потому, вероятно, не стоит однозначно оценивать времена кардинальных ломок, когда опасения неизвестности и отсутствие видимой позитивной (с точки зрения «доброго старого времени») перспективы ломали судьбы многих людей и целых поколений, заставляли верить в ложные ценности и всякого рода «пророков». Вера далеко не всегда основывается на страхе, но страх обязательно ищет выхода в вере. Одиночество, как правило, сопровождает такого рода страх.
В своей тюрьме, в себе самом,
Ты, бедный человек,
В любви, и в дружбе, и во всем
Один, один навек, —
писал Д. Мережковский.
Стремление уйти от реальности, которое мы видим в последние годы императорского режима в России, прежде всего было стремлением уйти от самого себя, спрятаться от действительности, найти «точку опоры». Путь к вере был тогда для многих правдоискателей единственной возможностью вырваться из тенет страха. Но этот путь далеко не всегда связывался с официальной церковностью. Д. С. Мережковский и его единомышленники, например, вообще предрекали близкий конец христианства – «потому что оно „исполнилось“, подобно тому, как „закон и пророки“ окончились с пришествием Христа». Подобные заключения однозначно свидетельствовали о кризисе религиозного сознания, о том, что не всякое «богоискательство» ведет к «Храму». И дело было вовсе не в том, насколько прав или, наоборот, ошибался писатель, – подобные высказывания вернее всего рассматривать как тревожный симптом нравственно-психологического характера, когда «ищущий» не только не может обрести желаемое, но и не в состоянии определить, что же он хочет. Это обстоятельство заставляет человека, озабоченного обретением «истины в себе», искать какие-либо иные формы организации религиозной жизни.
Авторитет и влияние Церкви все более слабели и в так называемой «народной массе». Современник тех событий, будущий митрополит Вениамин (Федченков) по этому поводу писал: «Мы [пастыри] перестали быть „соленою солью“ и поэтому не могли осолить и других». А старший современник владыки, епископ Благовещенский Иннокентий (Солодчин) еще более откровенно выражал эту мысль: «Вот жалуются, что народ не слушает наших проповедей и уходит из храма, не дожидаясь конца службы. Да ведь чего слушать-то? Мы питаем его манной кашей, а люди хотят уже взрослой твердой пищи». И в среде русского образованного общества, и в народной среде процессы в своей основе протекали похожие. Ощущение чего-то «финального» (или даже фатального) было общим. «Ах, как трудно, как трудно жить! Так трудно, что и умереть хочется!» – заявила императрица Александра Федоровна, впервые принимая отца Вениамина (Федченкова), ей совершенно до того неизвестного. Апокалипсические переживания, ожидания, неудовлетворенность, религиозные движения, поиск «праведников» свидетельствуют о том, что в обществе происходят серьезные, глубинные изменения, изменяется как сама жизнь, так и ее оценка со стороны современников. Пророчества о близившемся конце мира, появлявшиеся довольно часто в последние годы существования самодержавия, по мнению Н. А. Бердяева, «может быть, реально означали не приближение конца мира, а приближение конца старой императорской России».
Трудно точно обозначить время перехода человека от детства к взрослому состоянию, а от взрослого – к старости. Процесс этот, незаметный на первый взгляд, тем не менее осознается всеми. В истории каждого народа также есть определенное время, когда он вступает в «иной возраст», когда народ как бы становится «другим». Революционные катаклизмы являются лишь последней точкой, которая фиксирует конец давно шедших процессов. В России «фиксация» пришлась на 1905–1907 годы, вызвав к жизни не только бурный социальный протест, но и стимулировав развитие негативных, хулиганских в своей основе, асоциальных явлений, прежде всего – хулиганства, названного современниками полным отрицанием общественно-государственного порядка. Конечно, считать революцию главной причиной усиления хулиганских проявлений нельзя. Скорее, события 1905–1907 годов были своего рода импульсом для тех процессов, которые происходили и ранее, но «на глубине».
Старый мир с его традициями уходил в небытие, а на его место приходила неизвестность. Необразованный человек, вышедший за пределы своего «мира» и столкнувшийся с непонятной ему жизнью, с неясными для него ценностями и стереотипами, совершенно естественно воспринимал только то, что мог воспринять. Некритическое усвоение новых знаний, стремление быть похожим на тех, с кем его столкнула жизнь в городе, характеризовало поведение молодого человека, вышедшего в буквальном смысле «из другого мира». Столкновение с новым часто заканчивалось выступлением против старого. Выражением этого протеста, неосознанного, дикого, и стало явление хулиганства, ведь «сила весенних вод, – как образно выразился Е. Н. Трубецкой, – прямо пропорциональна количеству накопившегося за зиму снега». Неразвитость личности, или, используя слова С. Ю. Витте – «запоздание в развитии принципа индивидуальности, а следовательно, и сознания собственности и потребности гражданственности, а в том числе и гражданской свободы», – стала одной из главных причин первой революции, доказавшей, какая опасность заключается в «предоставленном самому себе» народе.
До поры русское образованное общество могло лишь наблюдать происходившие в стране события, не имея возможности деятельно влиять на ход социальных процессов. Но наиболее дальновидные из них уже тогда разглядели основную опасность, грозившую российской государственности. Речь идет о понятой авторами знаменитого сборника о русской интеллигенции «Вехи» трагедии отчуждения культурных слоев общества от народа. М. О. Гершензон писал: на Западе «нет той метафизической розни, как у нас, или, по крайней мере, ее нет в такой степени, потому что нет глубокого качественного различия между строем простолюдина и барина. <…> Между нами и нашим народом – иная рознь. Мы для него – не грабители, как свой брат, деревенский кулак; мы для него даже не просто чужие, как турок или француз: он видит наше человеческое и именно русское обличие, но не чувствует в нас человеческой души, и потому он ненавидит нас страстно, вероятно, с бессознательным мистическим ужасом, тем глубже ненавидит, что мы свои».
Русские народные сказки о барине и мужике могут служить доказательством заявленной М. О. Гершензоном сентенции (тем более что интеллигента в народной среде традиционно воспринимали как барина). Ранние прозрения – привилегия избранных. Большинство русских интеллигентов, как «богоискателей», так и всех остальных (от агностиков до воинствующих безбожников), встретили «Вехи» в штыки, проверив верность прозвучавшего пророчества через несколько лет, уже после падения царской власти. М. О. Гершензон, говоря о непроходимой метафизической пропасти, разделявшей русский народ на две несоединимые части, не ошибся. Православная церковь – единственная реальная надклассовая сила – тоже не могла быть мостом над пропастью, опираясь «не на самое себя, не на свою паству, а на городового!».
То, что Церковь в то время пользовалась государственной поддержкой, являясь «первенствующей и господствующей» в империи, не облегчало, а, наоборот, затрудняло ее существование. Чем она могла ответить на насущные требования жизни, особенно после того, как 17 апреля 1905 года Николай II подписал указ «Об укреплении начал веротерпимости»? Ничем. Церковь, которая по большому счету и воспитывала народ, все больше не соответствовала тем задачам, которые ставила перед ней стремительно менявшаяся российская действительность. «Мы становились „требоисполнителями“, – писал о тех годах митрополит Вениамин (Федченков), – а не горящими светильниками. Не помню, чтобы от нас загорелись души…» Таких высказываний можно привести множество.
Не разбирая вопрос о «виновности» Церкви, среди пастырей которой было мало «светильников», стоит все-таки отметить, что она была в принципе несамостоятельна, никогда не имела собственной социальной политики, не смела высказывать собственные суждения «о мире и человеке», в конце концов превратившись в ведомство православного исповедания. Ведь были и «светочи», и святые (достаточно вспомнить старцев Оптиной пустыни и отца Иоанна Кронштадтского), но не они, а «требоисполнители» играли главную роль в церковно-политической жизни тех лет. Общая усредненность, «теплохладность» характеризовали православное священство в целом. Еще в самом начале XX века, на заседаниях религиозно-философских собраний В. В. Розанов заметил, что «если храм обернут ко мне так официально, то пусть уже не взыщут, что и я его не держу у себя около сердца, у себя за пазухой. Я ему не тепел, и он мне не тепел».
В подобных условиях каждый, кто горел «огнем огненным», был «факелом горящим», воспринимался прежде всего в самой церковной среде как явление неординарное, выдающееся. Такой человек неминуемо становился центром притяжения для многих «ищущих и растерявшихся». Цельность характера и сила духа воспринимались как Божий знак, тем более что этот цельный человек был плотью от плоти русского народа, мужиком. Его вера, его умение молиться и побеждать страсти, лечить и заговаривать кровь, предсказывать судьбу служили дополнительным доказательством его особой избранности. Так на исторической сцене появляется сибирский мужик Григорий Распутин.
На заре XX века он не стремился играть какую-нибудь «политическую» роль, да и слово это, по всей видимости, вряд ли понимал. Но он появился в эпоху безвременья, когда, по мнению информированных современников, все содействовало росту интереса к новоявленному «старцу»: «неудачная (Русско-японская. – С. Ф.) война, разочарование, сменившее волну революционного подъема, наступившая реакция вызвали в обществе, в особенности в аристократических кругах, повышенную нервную и чувственную жизнь, странное сплетение религиозности и чувственности. Это было как раз время так называемого „неохристианства“, стремившегося соединить „дух и плоть“, „Бога и Диониса“. Распутин пришел на готовую почву, и она его затянула; в свою очередь, он и сам после закреплял ее и развивал делом и идейно» [83]83
Последний временщик последнего царя: Материалы Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного Правительства о Распутине и разложении самодержавия // Вопросы истории. 1964. № 10.
[Закрыть].
Итак, Распутин – лучшая иллюстрация морального состояния российского общества. Вне времени «старец» Григорий, равно как и некоторые другие его современники, подвизавшиеся в роли «провидцев» и «духовных наставников», – может служить объектом исследований лишь для психиатров. Он появился в то время, когда «духовная жажда» ощущалась как «богоискателями», так и венценосным Верховным Ктитором православной церкви. Ощущалась эта «жажда» и многими церковными деятелями, впоследствии горько разочаровавшимися в сибирском страннике.
Он родился в 1869 году в крестьянской семье, нигде не учился и до конца жизни так и не постиг всех премудростей письма: сохранившиеся собственноручные записки «старца» поражают безграмотностью. Почти тридцать лет прожил дома, работал в хозяйстве отца даже после того, как женился. Затем начался период странничества, в течение которого Распутин самостоятельно научился читать и писать, познакомился со Священным Писанием. Природная любознательность и живой крестьянский ум помогли Григорию «выйти в люди», произвести впечатление на мистически настроенных пастырей и искавших религиозного утешения православных мирян. Цельный и волевой (что в дальнейшем не раз отмечали современники), Распутин в тот период не давал повода «к соблазну» – вел себя (по крайней мере на публике) благочестиво и скромно.
Однако уже тогда, на грани веков, проявился его особый дар воздействовать на женщин. Неслучайно именно «духовно утешенная» Распутиным купчиха отвезла его в Казань, где познакомила с православными клириками. Викарный епископ Казанской епархии Хрисанф (Щетковский), непонятно почему, решил дать молодому крестьянину рекомендацию, с которой тот в 1903 году и приехал в Петербург к ректору Духовной академии епископу Сергию (Страгородскому). Последний познакомил с Распутиным инспектора академии архимандрита Феофана (Быстрова), а тот, в свою очередь, – Саратовского епископа Гермогена (Долганева). В дальнейшем именно отец Феофан рассказал о «старце» дочерям черногорского князя Николая Негоша – Милице и Анастасии, которых окормлял духовно. Сестры и поведали своей подруге императрице Александре Федоровне о новой религиозной знаменитости. Первые встречи Николая II и его супруги с Распутиным проходили, как правило, в присутствии сестер-«черногорок». Последующее разочарование сестер в «старце» привело не к удалению Распутина из дворца, а, наоборот, к разрыву Александры Федоровны с подругами. Но почему же внимание всероссийского самодержца и его супруги привлек именно Распутин? Современники, придерживавшиеся порой диаметрально противоположных политических взглядов, при разговоре о феномене Распутина обычно обращали внимание на психологический фактор.