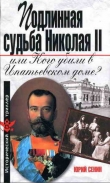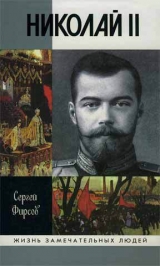
Текст книги "Николай II"
Автор книги: Сергей Фирсов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 43 страниц)
«Напомнили мне сегодня, – записал в дневнике в феврале 1905 года публицист С. Р. Минцлов, – очень давно слышанный мною рассказ об разговоре Николая I с известным Авелем. Николай велел его позвать к себе и спросил, кто будет царствовать после его сына, Александра II.
– Александр, – ответил Авель.
– Как Александр? – изумился император. – Старшего сына моего [сына] зовут Николай! (в то время последний был жив и здоров еще).
– А будет царствовать Александр, – повторил Авель.
– А после него?
– После него Николай.
– А потом?
Монах молчал; царь повторил вопрос.
– Не смею сказать, государь, – ответил тот.
– Говори.
– Потом будет мужик с топором! – сказал Авель. Рассказ этот я слышал еще мальчиком в царствование Александра II».
Апокрифический рассказ, безусловно, не должен рассматриваться как правда (тем более что Авель скончался за двенадцать лет до рождения старшего сына будущего Александра II). Но востребованность такого рода историй показательна сама по себе. В 1905 году «мужик с топором» действительно громко заявил о своих правах на царство. О «простонародном мистике» вспомнили тогда, когда, казалось, его предсказания начинают исполняться. Впрочем, и в дальнейшем, десятилетия спустя, апокрифические рассказы, связывавшие Авеля и последнего русского самодержца, в монархической среде встречались с интересом и доверием. В этих рассказах Николай II выступает в качестве жертвы Богу за грехи России и ее народа. Жизнь и смерть последнего царя якобы были предсказаны задолго до его рождения.
Весьма примечательны воспоминания обер-камерфрау императрицы Александры Федоровны М. Ф. Герингер о хранившемся еще со времен Павла I ларце с предсказаниями Авеля. Сын Екатерины Великой завещал вскрыть ларец через сто лет после своей смерти. 12 марта 1901 года Николай II исполнил завещание предка. После этого «государь стал поминать о 1918 годе, как о роковом годе и для него лично, и для династии». Аналогичная информация содержалась и в статье некоего А. Д. Хмелевского «Таинственное в жизни Государя Императора Николая II», в которой, правда, днем вскрытия пакета «с информацией» названо 11 марта [81]81
См.: Россия перед вторым пришествием: Материалы к очерку русской эсхатологии / Сост. С. Фомин. М., 1993.
[Закрыть]; и в работе П. Н. Шабельского-Борка (убийцы отца писателя В. В. Набокова – Владимира Дмитриевича). Смысл подобных рассказов, достоверность которых проверить невозможно, заключается в том, чтобы доказать предопределенность судьбы Николая II, отведя от него вину в бездействии и слабохарактерности. Получалось, что царь знал о грядущей трагедии и потому не противостоял судьбе.
Это «знание», согласно апокрифическим рассказам, было у него и после посещения Саровской пустыни в 1903 году. Тогда он познакомился с письмом святого Серафима, которое тот составил незадолго до смерти, адресовав тому царю, который приедет, как писал Саровский старец, «особо обо мне молиться». «Что было в письме, осталось тайной, – сообщает мемуарист, – только можно предполагать, что святой прозорливец ясно видел все грядущее, а потому предохранял от какой-либо ошибки, и предупреждал о грядущих грозных событиях, укрепляя в вере, что все это должно совершиться не случайно, а по предопределению Предвечного небесного Совета, дабы в трудные минуты тяжких испытаний Государь не пал духом и донес свой тяжелый мученический крест до конца».
Разумеется, следует учитывать, что подобная литература появляется уже после того, как все произошло. Как правило, сказка рождается после смерти героя и несет в себе видоизмененные, но для некоторой части современников очевидные черты его характера. По данной причине принципиальное значение имеет сам факт восприятия Николая II как человека, изначально обреченного на страдания ( «искупительной жертвы»,как писал Л. А. Тихомиров), нежели достоверность факта. Для одних современников важнее было вспомнить о «мужике с топором», для других – историю с ларцом. Предсказания монаха Авеля оказались востребованы лишь постольку, поскольку они отвечали настроениям современников как «левых», так и «правых» взглядов. Николай II еще при жизни превращался в миф, после екатеринбургской трагедии появление и распространение которого сдержать было уже невозможно.
Впрочем, интереснее отметить иное: революционные события стали катализатором мифотворчества, тем более что 1905 год знаменовал появление «конституции» и кризис монархической государственности. Апокрифические истории начала XX века стали косвенным доказательством, своеобразной иллюстрацией той истины, что, «в сущности, агония самодержавия продолжалась все царствование Николая II, которое все было сплошным и непрерывным самоубийством самодержавия», – писал протоиерей Сергий Булгаков. Но самоубийство – смертный грех. Непротивление ему нельзя оправдать, равно как невозможно отделить историю царствования от жизни царствующего, с раннего детства усвоившего, что русский монарх – помазанник Божий. Выход из затруднительного положения оказывается возможным искать только в религиозной сфере, всячески подчеркивая глубокую приверженность последнего самодержца православным идеалам. Апокрифические истории, появившиеся в 1920-х годах, об этом и говорили.
Тогда и родился миф о желании Николая II в годы Первой российской революции принять монашество и даже возглавить в качестве патриархаправославную церковь. То, что царь «высказал» свое желание именно в 1905 году, – неслучайно. Для главной конфессии империи революция стала временем, когда оживились надежды на возможность проведения давно ожидавшихся реформ, созыв Поместного собора и ослабление власти обер-прокурора Святейшего синода. В церковных кругах было известно, что царь искренне желал восстановления патриаршества, укрепления православной церкви. Не могли не знать об этом и создатели апокрифических историй. Одна из них, составленная эмигрантом Б. Потоцким («К материалам новейшей истории»), полностью приведена князем Н. Д. Жеваховым в книге воспоминаний. Другая появилась в работе С. А. Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». С некоторыми «техническими» отличиями второй рассказ приводит и князь Жевахов.
В сообщении Б. Потоцкого речь шла о якобы имевшем место посещении царской четой митрополита Антония (Вадковского) в Александро– Невской лавре зимой 1905 года. Некий неназванный «свидетель», информировавший Потоцкого, в описываемое время приводил в порядок библиотеку митрополичьего дома. Он и рассказал, что Николай II приезжал просить у столичного иерарха благословения на отречение от престола в пользу незадолго до того родившегося цесаревича Алексея, «с тем, чтобы по отречении постричься в монахи в одном из монастырей». Митрополит не одобрил этого решения, указав царю на недопустимость строить свое личное спасение на оставлении монаршего долга. Следующая попытка, уже по сообщению Жевахова, была предпринята Николаем II вскоре после первой. Нилус, также описавший этот случай, относил его к весне 1905 года. Суть апокрифа сводилась к следующему: в период дискуссии о Церкви, когда речь зашла о необходимости возглавления ее патриархом, царь предложил православным иерархам себя в качестве возможного первосвятителя. Но ответом ему стало «гробовое молчание» князей Церкви.
Характерно, что ни Н. Д. Жевахов, ни С. А. Нилус не приводят имен тех лиц, которые сообщили им эту информацию. Только по некоторым намекам, содержащимся в книге Нилуса, можно догадаться, что полученные им сведения исходили от ближайшего окружения епископа Волынского и Житомирского Антония (Храповицкого). К сожалению, проверить истинность сообщений невозможно, тем более что сам владыка ни разу не обмолвился о «желании» Николая II поменять царский венец на патриарший куколь. О встрече же царя и митрополита Антония (Вадковского) в дневнике Николая II есть только краткая запись о том, что в половине первого дня 28 декабря 1904 года владыка «славил Христа с братией Александро-Невской лавры», а затем завтракал с семьей монарха. Никакие встречи в лавре не зафиксированы. Разумеется, можно предположить, что царь мечтал принять постриг и удалиться от дел, – ведь, по словам Н. Д. Жевахова, «это был прежде всего богоискатель, человек, вручивший себя безраздельно воле Божией, глубоко верующий христианин высокого духовного настроения», но строить на этих предположениях политические заключения нельзя.
Однако один важный вывод из «апокрифов» сделать необходимо. У последнего русского самодержца не было близости с православной иерархией, которую он воспринимал по большей части как «духовных чиновников». Косвенным подтверждением этого и является, видимо, феномен сибирского странника Григория Ефимовича Распутина, разговор о котором еще впереди, В революционное лихолетье «старец» впервые и появился во дворце. «Познакомились с человеком Божиим – Григорием из Тобольской губ[ернии]», – записал самодержец в дневнике 1 ноября 1905 года. Рассуждая о роли Распутина, протоиерей Сергий Булгаков тонко заметил: «Если Распутин грех, то – всей Русской Церкви и всей России, но зато и самая мысль о святом старце, водителе монарха, могла родиться только в России, в сердце царевом. И чем возвышеннее задание, чем пророчественнее, тем злее пародия, карикатура, тем ужаснее падение». Отец Сергий, прошедший сложный путь от марксизма к православию, как и многие его современники, рассматривал предреволюционную историю России (в том числе и историю Церкви) через призму апокалипсических ожиданий. Революция способствовала пробуждению этих ожиданий, воскрешая старые и новые мифы.
Мифомания – старая и – увы! – неизлечимая болезнь, о которой нам придется говорить в дальнейшем, но ее «обострение» обычно происходит в кризисные периоды, когда под воздействием различных социально-экономических и морально-нравственных коллизий происходит перестройка общественного сознания. Революция 1905 года и была таким периодом в истории России, заставляя современников искать подтверждения «своей» правды в легендах. Николай II, волею истории, также становился частью этой творимой легенды, одновременно ее героем и жертвой. Миф растворялся в реальности, на человека смотрели сквозь идею, которую он олицетворял. Пожалуй, лучше всего это показали русские «богоискатели» – Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус и Д. В. Философов, в 1907 году опубликовавшие в Париже сборник статей под названием: «Царь и революция». Для них революция была не только (и даже не столько) социальным, сколько религиозным действием, а русское самодержавие они рассматривали как форму теократии. Нельзя сказать, чтобы это была ошибка, – ведь и Николай II осознавал собственную власть как власть, от Бога данную и, следовательно, сакральную. Неслучайно в те годы по Петербургу ходил анекдот, что царь ничего не имеет против конституции, если она не затронет самодержавие. С политической точки зрения заявленное представляется абсурдом, но с религиозной звучит вполне серьезно. Личность монарха в данном случае в расчет может не браться. Понимали это и «богоискатели».
«Как личность, – отмечал Д. В. Философов, – Николай II глубоко невинен; как император, он настоящее проклятие для России, особенно потому, что, будучи очень верующим, безупречным православным, он прекрасно понимает, что всякая уступка духу времени есть измена принципам самодержавия»(курсив мой. – С. Ф.). Личность царя для Философова особого интереса не представляет, его портрет Николая II для политического оппозиционера вполне корректен, дурного о монархе он не говорит. Даже наоборот: «Николай II – образцовый отец и муж. За ним не числится ни пороков, ни страстей, ни увлечений. Он живет относительно скромно. Его обращение просто и приветливо. Его улыбка обаятельна, его добрый и искренний взгляд хорошо известен» и т. д. Правда, он подмечает симпатию, выказываемую самодержцем «к людям бесцветным, жалким, добрым малым, „полковым друзьям“», но это, скорее, констатация, чем критика – мало ли кому кто нравится! Да, как и все наивно верующие люди, царь суеверен, прислушивается к разным подозрительным личностям типа Клопова, Демчинского и Филиппа; он безволен, всегда соглашается с последним собеседником, только чтобы никому не противоречить, но что из того? Все это – непринципиально.
Но что же тогда принципиально?
Д. В. Философов дает свой ответ. Дело не в личности (по его оценке – довольно средней), дело в идее самодержавия, соединявшего в себе оба принципа – и духовный, и светский. Царь в России, полагал Философов, глава Церкви (ибо самодержавие и православие как двуликий Янус – одно не может жить без другого). И Николай II в этом совершенно не повинен, хотя его царствование – путь от плохого к худшему: «Империя была больна уже тогда, когда он ее унаследовал». Кто же тогда виноват и что делать? Философов исторически точно отвечает: самодержец может лишь остаться, ожидая крушения своего царства и своей империи, он не может дать конституции, так как это будет актом измены православию и самодержавию. Написанные после опубликования манифеста 17 октября 1905 года, слова Философова удивительно точно диагностируют социальную болезнь, переживавшуюся тогда императорской Россией: исследовать самодержавие невозможно, не разобравшись в религиозной природе власти.
«Богоискательствующий» автор, конечно, преследовал иные цели – он критиковал Церковь, пытаясь доказать, что на православии лежит ответственность «за царящий в России хаос», что оно «соблазняло свою паству идеалом ложной теократии, который на деле привел к окончательному извращению нормального развития государства и внушил реакционному самодержавию самые безумные поступки», что в исторической Церкви заключена «неполная истина». Это его убеждения, а с убеждениями спорить бессмысленно. Интереснее (и симптоматичнее) другое – Д. В. Философов, увлеченный размышлениями о религиозной революции, исполненный «праведного гнева» к самодержавию и православию, говорит роковые слова о том, что может ждать впереди русского самодержца: «Конец царя будет, возможно, искупительной жертвой»(курсив мой. – С. Ф.).
Пророчество? Едва ли. Скорее всего – ощущение исторически неизбежного конца русской монархической государственности. Такое же ощущение было и у «правых» оппонентов либеральных «богоискателей», например у Б. В. Никольского и Л. А. Тихомирова. Если согласиться с тезисом, что государства могут быть неизлечимо больны (как социальные и политические организмы), то следует признать: русский монарх, олицетворявший Российскую империю, после 1905 года являлся заложником этой болезни. «Конституция» 17 октября не могла стать лекарством от нее, уничтожить «идею самодержавия», ибо в основе ее лежали религиозные принципы. Ее уничтожение, наверное, и было бы уничтожением «царизма», но, одновременно, это стало бы и уничижением царя – как помазанника Божия. «Богоискатели» начала XX века это прекрасно понимали, демонизируя принцип и, по возможности, абстрагируясь от его носителя. «Их» Николай II – схематичен и бессодержателен, иллюстрация к теоретическим размышлениям. Вопрос о монархе для них вторичен. Царя, то есть человека, волею рождения обреченного нести на своих плечах бремя огромной власти, им не жалко.
Да, самодержавный царь может отречься от короны и остаться человеком, полагала З. Н. Гиппиус. «Но самодержавие не может от себя отступиться. Оно может лишь исчезнуть вместе с тенью того, кого издавна сделало своим символом. Разве не слышали мы уже давно шепот, а теперь уже и крик: „Больше нет царя!“?». Но если самодержавие и его символ – нераздельны и могут быть уничтожены только совместно, то как же царь может отречься от короны?! Никак, окончательное отречение для него означает смерть. Следовательно, борьба с самодержавием немыслима без борьбы с самодержцем. Чем не оправдание террора, требующего «искупительную жертву»? И тем не менее на вопрос об оправданности подобной жертвы З. Н. Гиппиус не могла дать ясного ответа, ибо полагала, что царизм – продукт универсальной идеи «царства Божия на земле», а «в глубине религиозности русского народа еще живет темная вера в царизм».
Как бы ни называли такую веру – «темной» или «светлой» – она оставалась фактом русской истории и не могла существовать без «земного бога». Следовательно, могущество этого «бога» в большей степени зависело не от экономики или политики, а от религиозности народа, его веры в изначальную справедливость монарха. Тем самым З. Н. Гиппиус разоблачала собственную констатацию того, что «больше царя нет». Все запутывалось, извращалось, не помогало даже утверждение о силе царизма, состоявшей в совершенстве его лжи. Ведь как бы совершенна ни была ложь, она есть отрицание правды. Получалось, что царь – символ «лжи», так как народ верит в божественность его власти на земле, над землей.Таким образом, не подвергалось сомнению, что пока «ложь» не будет «разоблачена», надеяться на победу над царизмом не приходится. Революция и должна была способствовать разоблачению этой «лжи», добиваясь удовлетворения религиозных чувств народа на земле.
Цель же, как известно, оправдывает средства. А поскольку развенчать самодержавие невозможно без развенчания самодержца, то стремление оппонентов режима доказать «никчемность» и «ничтожество» носителя верховной власти нельзя признать лишенным логики. С этой мыслью организаторы издательства «Друг народа» в 1906 году опубликовали «Полное собрание речей Императора Николая II», произнесенных им за время царствования. Составленные по официальным данным «Правительственного вестника», эти речи (их было 170) должны были показать полное убожество самодержавного оратора, примитивность его мышления и банальность мыслей. Составители действительно постарались, не пропустив ничего, даже тосты, произнесенные Николаем II по разному поводу.
Какой должен был делать вывод читатель, пролистывая эту небольшую, всего в восемьдесят страниц, книжечку и знакомясь, например, с тостом, произнесенным царем при посещении кронштадтских рейдов 15 мая 1900 года: «Пью за дорогую Мне кают-компанию крейсера „Память Азова“»? Или с тостом на обеде в Зимнем дворце по случаю столетнего юбилея Пажеского корпуса: «От Имени Государынь Императриц и от Своего пью за здоровье дорогих гостей – всех бывших и нынешних пажей, прежде служивших и теперь служащих в корпусе. За ваше здоровье, господа, – ура!»?
Но дело не ограничивалось перепечаткой – речам предшествовало краткое вступление, издевательское по форме и глумливое по сути. «В настоящее время, когда народ через своих представителей призван участвовать в определении судеб страны и приходит в более непосредственное соприкосновение с Верховною Властью, особый интерес приковывает к себе все то, что обрисовывает, отражает в себе духовный облик Державного Носителя этой Власти. И в этом отношении, безусловно, на первом плане стоит живое слово, которое раздается от времени до времени по тому или иному поводу из уст Монарха и разносится по всему лицу земли Русской, в самые отдаленные ее уголки». Хорошо же было это «живое слово», если среди опубликованных материалов сорок пятьречей императора посвящались выпивке за здоровье пажей или успехи кают-компании! На этом и строился расчет издателей: доказать умственную ограниченность «венценосного главы русского народа», в течение двенадцати лет «благополучного царствования» дарившего подданным перлы красноречия.
Издевательство было оценено по заслугам: книжку изъяли из продажи. Издатели достигли своей цели. Миф об умственно ограниченном царе получил новое подтверждение. На самом же деле оценивать интеллектуальные способности последнего самодержца по сборнику его официальных речей было делом бессмысленным. На это обратили внимание давно – еще в 1917 году сенатор А. Ф. Кони, не считавший Николая II умным политиком, отмечал, что речи царя – не доказательство его ограниченности. «Мне не раз приходилось слышать его речи по разным случаям, – вспоминал Кони. – И я с трудом узнавал их потом в печати – до того они были обесцвечены и сокращены, пройдя сквозь своеобразную цензуру. Я помню, как по вступлении на престол он сказал приветственную речь Сенату, умную и содержательную. По просьбе министра юстиции Муравьева я передал ему ее по телефону в самых точных выражениях и на другой день совершенно не узнал ее в „Правительственном вестнике“».
Умственные способности царя безнаказанно осмеивались людьми разных политических направлений. А. В. Богданович в дневнике приводила рассказ редактора «Московских ведомостей», крайне «правого» монархиста В. А. Грингмута о карикатуре на царя, появившейся в 1906 году: Николай II сидел у стола, а царица стояла за ширмами и слушала доклады, которые делали министры ее венценосному мужу. Согласившись с каждым докладчиком, «карикатурный» царь обращался к царице со словами о том, что после всех докладов ничего не понимает, отупел совсем. «На это царица отвечает: „С этим я согласна“». Никакого осуждения подобных картинок со стороны А. В. Богданович, судя по ее дневнику, не последовало. Царя не уважали.
***
1905 год принес в дом Романовых очередные неурядицы. Без разрешения Николая II женился великий князь Кирилл Владимирович, внук императора Александра II. Избранницей Кирилла стала бывшая супруга великого герцога Гессен-Дармштадтского (родного брата Александры Федоровны) Мелитта. Но дело было не только в этом: великий князь и великая герцогиня состояли друг с другом в близком родстве – являлись двоюродными братом и сестрой. Такой брак противоречил церковным правилам и не допускался законом об Императорской фамилии. Еще в начале 1903 года, когда Кирилл Владимирович впервые заговорил с царем о своем желании взять в жены Викторию-Мелитту, последний напомнил ему о действовавших в России установлениях, подчеркнув: «Ни в каком случае и ни для кого я не сделаю исключения из существующих правил, до членов Императорской фамилии касающихся. <…> Если же, тем не менее, – продолжал далее Николай II, – ты настоял бы на своем и вступил бы в незаконный брак, то предупреждаю, что я лишу тебя всего – даже великокняжеского звания».
Очевидно, тогда предупреждение подействовало, и в марте 1903 года Кирилл Владимирович написал монарху, что против его желания не пойдет. Но слова своего он не сдержал и 25 сентября 1905 года женился. Глубоко возмущенный случившимся, царь хотел исключить великого князя со службы, запретить приезд в Россию, лишить всех удельных денег и, наконец, отнять титул. Николай II не мог простить «нахальства» кузена, приехавшего в Россию после свадьбы. 2 октября у царя состоялся тяжелый разговор с отцом молодожена – великим князем Владимиром Александровичем. Днем ранее, желая предупредить появление Кирилла Владимировича во дворце, Николай II поручил министру Императорского двора В. Б. Фредериксу сообщить великому князю о своем решении. Нарушитель семейной дисциплины и церковных правил лишался звания флигель-адъютанта, морского чина и должен был покинуть Россию в течение 24 часов. Объявлялось и о лишении его великокняжеского достоинства.
Владимир Александрович вынужден был заявить государю, что, как отец опозоренного сына, не считает возможным служить и просит отставки. Спустя три недели он получил высочайшую записку о согласии на отставку и уведомление о назначении на его место (главнокомандующим войсками гвардии и Петербургского военного округа) великого князя Николая Николаевича.
Беседовавший с Владимиром Александровичем вскоре после его отставки генерал Н. А. Епанчин вспоминал, как великий князь сознавался в собственной несдержанности: «Меня не уволили, меня выгнали, мне дали поджопника». Эти слова произвели на Н. А. Епанчина тяжелое впечатление: «Ведь если так поступили со старым заслуженным великим князем, дядей государя, то чего же было ждать нам, грешным. Во всяком случае, совсем не следовало в такое время ссориться членам Царского Дома между собой, так как это только увеличивало тот хаос, который тогда господствовал в России».
Для Владимира Александровича желание царя лишить его сына великокняжеского достоинства оказалось сильным потрясением (тем более что это был первый случай в истории дома Романовых). Но и сам Николай II не хотел допускать прецедента, особенно в то время, «когда вообще к семейству относятся недоброжелательно». И воспользовавшись именинами цесаревича Алексея, царь телеграфировал «дяде Владимиру» о возвращении его сыну великокняжеского звания. «Само собою разумеется, – писал Николай II матери, – что остальные виды наказаний остаются в силе. По мнению тех, которых я спрашивал, эти три взыскания достаточны, лишь бы они продолжались долгое время!» (курсив мой. – С. Ф.).
Мария Федоровна в деле Кирилла Владимировича была на стороне сына, при этом, правда, пыталась понять мотивы предпринятого великим князем решения. Императрица была убеждена, что в сложившейся ситуации Кириллу Владимировичу «ничего больше не оставалось, как жениться», ибо свою избранницу он скомпрометировал «в глазах всего света». О необходимости наказания, по ее мнению, спорить не приходилось – самовольно женившиеся и тем самым нарушившие волю монарха великие князья Павел Александрович и Михаил Михайлович ранее лишались мундира. Понимала это и мать герцогини Гессен-Дармштадтской – великая княгиня Мария Александровна (дочь Александра II), – опасавшаяся только лишения Кирилла Владимировича великокняжеского достоинства. «Пусть он потеряет чин, свою службу, пусть он должен будет покинуть Россию, – заявляла она, – ко всему этому мы готовы, но если его лишат звания великого князя, это будет величайший скандал, и Ники не имеет права сделать этого, по крайней мере, без семейного совета».
В итоге Николай II ограничился обычными мерами – высылкой провинившегося за пределы России и лишением мундира. Однако это не разрешало другого важного вопроса – о праве Кирилла Владимировича на престолонаследие (тем более что великий князь среди других членов династии занимал четвертое место – после цесаревича Алексея и великих князей Михаила Александровича и Владимира Александровича). Спустя немногим более года, в декабре 1906-го, Николай II в своей резолюции на журнале совещания по вопросу о возможности признания брака Кирилла Владимировича отметил, что не может его признать. «Великий князь и могущее произойти от него потомство лишаются прав на престолонаследие, – говорилось в резолюции. – В заботливости своей об участи потомства Великого князя Кирилла Владимировича, в случае рождения от него детей, дарую сим последним фамилию князей Кирилловских, с титулом светлости, и с отпуском на каждого из них из Уделов на их воспитание и содержание по 12500 руб. в год до достижения гражданского совершеннолетия».
Казалось бы, самодержавное слово сказано и сложный династический вопрос решен. Но жизнь внесла коррективы. Давление родственников, и прежде всего отца нарушителя династической и церковной дисциплины – великого князя Владимира Александровича – привело к тому, что уже в июле 1907 года царь отправил в Правительствующий сенат именной высочайший указ об именовании супруги Кирилла Владимировича великой княгиней Викторией Федоровной с титулом Императорского Высочества. Родившаяся от их брака дочь признавалась княжною императорской крови с титулом Высочества, как и полагалось правнукам императора. Так закончилась эта история: «взыскания», наложенные на Кирилла Владимировича, были отменены менее чем через два года. Право вернуться в Россию, на похороны дяди – генерал-адмирала Алексея Александровича, он получил в начале ноября 1908 года. В том же месяце приказом по Морскому ведомству великий князь был восстановлен на службе капитаном 2-го ранга с прежним званием флигель-адъютанта, а в апреле 1910 года произведен в капитаны 1-го ранга. В начале мая в Россию приехала его жена Виктория Федоровна с детьми. В Царском Селе им предоставили Кавалерский дом. Брак признали, а отношения с монархом и его супругой восстановили.
Не восстановилась только семейная дисциплина – в отличие от отца, Николай II не умел добиваться безусловного выполнения всеми Романовыми положений «Учреждения об Императорской фамилии»; наказывая провинившихся родственников, он вскоре их прощал. Никакой системы в действиях самодержца не было – он поступал так, как в данную минуту считал необходимым, не всегда сопрягая свое желание с действовавшим в России законом. Ведь император выше закона – он сам закон. Те, кто разделял это убеждение, могли рассчитывать на царское благоволение и поддержку. Впрочем, приобрести эту поддержку было так же легко, как и потерять.
…Однажды великий князь Николай Николаевич задал С. Ю. Витте вопрос, считает ли он государя человеком. Витте ответил, что «государь есть мой государь и я его верный на всю жизнь слуга, но хотя он самодержавный государь, Богом или природою нам данный, но все-таки человек со всеми людям свойственными особенностями». Великий князь, наоборот, не считал государя человеком, как не считал и Богом, находя в нем «нечто среднее». Почитая самодержца как «полубога», Николай Николаевич («Николаша», как звали его в царской семье) долгое время пользовался безусловным расположением царя даже в делах матримониальных. Пытавшийся играть роль «строгого блюстителя» семейных устоев дома Романовых, Николай II принял активное участие в сложном вопросе заключения супружеского союза своего дяди и «черногорской княжны» Анастасии Николаевны, с 1889 года состоявшей в браке с герцогом Георгием Максимилиановичем Лейхтенбергским. С начала XX века она (как и ее старшая сестра – Милица Николаевна) была близкой подругой Александры Федоровны. Царская чета часто встречалась с «черногорками», посещая их дома. Близкие к придворным кругам современники рассказывали, что «у Станы» они занимались спиритизмом, а у Милицы встречались с самыми «разношерстными» людьми. Ничего удивительного в этом конечно же не было: «черногорки» увлекались мистикой, глубоко почитая первого царского «друга» Филиппа. В 1906 году в аристократических салонах Петербурга ходили слухи о том, что Анастасия Николаевна играла у царя и царицы «первую роль», что она «воплотила в себе медиума Филиппа, что он в нее вселился, и она теперь предсказывает, что теперь все будет спокойно». Ради этого предсказания, писала А. В. Богданович, царь и царица верили «черногорке», потому якобы были веселы и спокойны. Доверять слухам, разумеется, невозможно – на то они и слухи, но в одном сообщавшие их современники не ошибались: императорская чета в то время действительно дружила с дочерьми черногорского князя и великими князьями Николаевичами – Николаем и Петром. Желание первого жениться на Анастасии для информированных современников секретом не было. Еще до ее официального развода (последовавшего 10 ноября 1906 года) много говорили о ее грядущем замужестве. Благоволил ему и Николай II. В марте 1907-го, принимая столичного митрополита «по некоторым делам», самодержец спросил его, «что он думает во вопросу возможности Николаше жениться на Стане?». Владыка обещал переговорить с остальными членами Святейшего синода и сообщить их общее мнение. Неделю спустя он приехал к Николаю II с ответом, что поскольку такие браки постоянно разрешаются епископами в различных епархиях России, то синодалы «ничего не имеют против этой свадьбы, лишь бы она состоялась в скромной обстановке и вдали от Петербурга». «Признаюсь, – писал царь матери, – такой ответ меня очень обрадовал, и я сообщил Николаше вместе с моим согласием. Этим разрешается трудное и неопределенное положение Николаши и в особенности Станы. Он стал неузнаваем с тех пор, и служба его сделалась для него легкой. А он мне так нужен!»