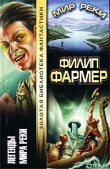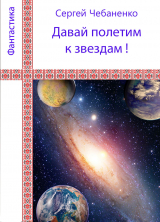
Текст книги "Давай полетим к звездам!"
Автор книги: Сергей Чебаненко
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 23 страниц)
– Но это же тупик! Развитие цивилизации не может остановиться! Иначе она перестанет быть цивилизацией!
– А развитие и не останавливается. Но есть два пути. Обойти препятствие. Или пробить головой стену. “Гагарин” – это именно попытка лобового штурма. Не хватает своих силенок? Ничего, мы создадим в пространстве “темной материи” десять тысяч дополнительных голов и будем лупить лбами в стену всем коллективом. Авось препятствие и рухнет!
– Ты утрируешь…
– Почти нет, – жестко отрезал он. – Большинство цивилизаций, остановившись у социально-технологического порога, начинают исследовать космос иначе. Сначала дистанционные методы, накопление информации, создание математических моделей. А потом резкий качественный переход в новую стадию – создание миров, солнечных систем и галактик, целых вселенных. Зачем исследовать сотни планет класса, например, вашего Юпитера? А почему бы не создать просто его модель?
– Чтобы создать модель, нужна информация, – возразил я. – А ее добыть можно только путем непосредственных исследований. Во время космических полетов.
– А фантазия зачем? А если, зная основные физические законы, начать просто строить фантастические миры? Населять их людьми, животными, братьями по разуму? А потом вообще придумать новые физические законы и совершенно невероятные варианты мироздания.
Он замолчал, может быть, ожидая ответа. Но я не нашелся, что возразить.
– Путь проекта “Гагарин” – это экстенсивный путь в космос, – продолжил он, – создание миров – это интенсивное развитие, с переходом в новое качество, очень быстро и почти сразу. Подавляющее большинство цивилизаций во Вселенной выбрали именно этот путь, интенсивный. Собственно, это и есть ответ на давно мучавший ваше человечество вопрос: почему из космоса не сигналят братья по разуму, а “летающие тарелочки” до сих пор не замечены на трассе Кассиопея – Хацапетовка? Потому что взрослые дяди уже строят большие дома и маленький мальчик на окраине Галактики, стремящийся проложить игрушечную железную дорогу за пределы своей песочницы, им вовсе не интересен!
– Почему же вы, такие умные, нас не остановили? – я саркастически ухмыльнулся.
– Потому что у цивилизаций космического уровня не принято вмешиваться в дела друг друга. Мы думали, что вы все-таки перерастете детские штанишки проекта “Гагарин” и откажетесь от экспансии.
– Но ты все-таки вмешался…
– Не один я. Нас – несколько особей. С разных изначальных миров и даже из разных вселенных. Создание десяти тысяч миров по проекту “Гагарин” практически не влияло на свойства гиперпространства. Но когда были созданы около двух миллионов Солнечных систем, начались нарушения метрики Вселенной. Проблему нужно было как-то решить, чтобы не помешать и планам миростроителей, и сохранить свойства межмирья. Но теперь это все уже в прошлом: благодаря тебе миры выходят из гиперпространства, проблема решена самым радикальным образом, хирургическим путем.
Он замолчал.
– Кстати, не только мы вмешались… Ты помнишь эти геометрические фигуры, которые стали проявляться в вашем мире?
– Белые шары, белые кубы – мы назвали их “гипнотизерами”… Они едва не угробили космонавтов во время полета к Луне, атаковали меня, напали на наши узлы связи. Мы считали, что это пришельцы… Или какие-нибудь жители параллельных миров… Слишком мало информации было, чтобы сделать выводы.
– Это так называемые “спонтанты”, – сказал он. – Спонтанное порождение миров темной материи. С тенденцией к разумной деятельности. С нарушением принципа причинно-следственных связей. И время у них течет иначе, петлями, иногда – почти диаметрально противоположно вашему.
– Как это?
– А ты не заметил, что их попытки помешать полету к Луне постоянно упрощались? Для них сначала была простая гравитационная атака пирамидой на спускающееся в атмосфере “Знамя”. Потом чуть более сложная схема “кубического” удара по “Луннику” на взлете. Затем нападение шара на окололунной орбите. А потом “спонтанты” сообразили, что воюют в противоположном для них времени и начали готовить более сложные атаки. Сначала захват станции наблюдения, потом – запуск “Сервейора”. Покушение на тебя около ущелья оказалось в середине их временной петли, и было попыткой воздействия непосредственно на людей, первым опытом создания модели человека.
– Очень мило. Всегда считал себя образцовым объектом для творчества инопространственной цивилизации, – сыронизировал я.
– Спонтанты не совсем цивилизация – по крайней мере, в твоем понимании. Петлеобразное течение времени в их системе координат воспринимается тобой как изменение причин и следствий. Стакан упал со стола, потому что разбился.
– Нарушение причинно-следственных связей я отследил, а до того, что у “спонтантов” петлеобразное время не додумался… Кстати, а почему же наше время всегда прямолинейно?
– А кто это сказал? Время представляется прямолинейным, поскольку ты находишься внутри временного потока. А для внешнего наблюдателя – оно тоже выглядит петлеобразным.
– Ладно, Бог с ним, с временем… Но согласись, “спонтанты” – агрессивные создания…
– Нисколько. Они возникли как ответ “темного мира” на чрезмерное накопление созданных вами Земель в локальной зоне их пространства. Если тебе нужны аналогии, то “спонтанты” – это силы упругости миров “темной материи”. Упрощенно, конечно. Они сообразили, что лунная экспедиция – ключевой момент в построении этого мира. Поэтому и пытались ее сорвать. Кстати, они воспринимают вас, миростроителей, как совершенно отдельную сущность, не связанную с Землей. Извини, как паразитов, коряжущих вполне стабильный мир. Заметь, они могли уничтожить “Лунник” одним лучевым залпом, но не сделали этого – видимо, из опасения навредить здешней Земле внешним воздействием.
– А как же атака на станцию в Абу-Кали? Марионетками “гипнотизеров” были перебиты десятки людей…
– Люди здешнего мира убивали людей здешнего мира. Внешнее вмешательство “спонтантов” было скрытым. А вот с вами, с миростроителями, – паразитирующей цивилизацией, – они не церемонились. Долбали лучевыми пушками прямой наводкой.
– Со “спонтантами” можно как-то совладать? Или договориться?
– Теперь уже нет смысла. Они исчезли, когда пропал раздражающий фактор: миры, созданные вами, стали выходить из “темного пространства”, напряжение ослабевает с каждой секундой. “Спонтанты” уходят, просто тают.
– Ну, вот и хорошо, вот и славно… И волки сыты, и овцы целы. Все довольны.
– Гм, все довольны, – с иронией передразнил он. – А ты не задумывался о социальных последствиях создания шарового скопления человеческих цивилизаций?
– Знаешь, некогда было, – с легкой издевкой ответил я. – На досуге подумаю… А в принципе, что такого случилось? Ну, вышли мы в большой космос. Почти два миллиона миров – это же ого-го!
– Теперь этим Землям предстоит осознать, что они часть великой космической человеческой общности. Научиться ладить и договариваться друг с другом. Вас ждут острые социальные конфликты. И даже космические войны. Как в ваших фильмах-боевиках. Будут взлеты и крушения космических империй и межзвездных республик. На всю эту кровавую суету уйдут годы и годы. Сотни и тысячи лет. Конечно, вы будете прогрессировать, но гораздо медленнее, чем интенсивные цивилизации.
– Мы – человечество, космическое человечество. Мы выкарабкаемся, – сказал я с уверенностью.
– Да я и не сомневаюсь…
– Представляешь, какая сложная это будет задача: связать в единую семью почти два миллиона человеческих миров? – я улыбнулся. – А вы, интенсивные цивилизации, не будете нам мешать?
– А зачем? С какой стати?
– Ну, не знаю… “Сорную траву – с поля вон!”
– Глупости, – мне почудилась грусть в его голосе. – Большие дяди не верили в способность маленького мальчика проложить игрушечную железную дорогу за пределы песочницы. А мальчик сумел это сделать! Собрал откуда-то группу таких же пацанов и девчонок, и теперь старается, старается, строит изо всех сил. Да, эти сорвиголовы ругаются друг с другом, дерутся – иногда очень жестоко. Но они же растут! Большие дяди по-прежнему строят свои красивые и светлые дома, но нет-нет, да и глянут – а как там дела в этом разросшемся детском саду? Куда вырулила дорожка? Ведь интересно же!
Он помолчал и тихо добавил:
– А еще запомни: в каждом большом дяде где-то глубоко-глубоко все еще живет маленький мальчишка с железной дорогой…
Легкий ветер пробежался по траве, играя зелеными волнами.
– Нам пора прощаться, – сказал он. – Тебе нужно возвращаться в свой мир.
– Прощай. Можно последний вопрос?
– Спрашивай.
– Ты… Ты – кто?
Он зашелся веселым жизнерадостным смехом. Приподнялся над зеленым травяным ковром и медленно поплыл вверх, к хрустальному куполу неба.
– А вот не скажу! – крикнул он с высоты. – Сам подумай!
Он поднимался в зенит все быстрее и быстрее, и уже оттуда, с умопомрачительной высоты я услышал его последнюю фразу:
– На день рождения Аннушки Лисицыной Чеслав Сэмюэль Воля-Волянецкий хотел подарить букет полевых ромашек…
В моей самой первой жизни Аня Лисицына была дочерью богатого купца, писаной красавицей и жила в соседнем доме. Гимназист Воля-Волянецкий сох по ней совершенно безответно. Может быть, Анна и обратила бы внимание на его пылкие чувства, но юный Чеслав робел даже заговорить с ней. На ее шестнадцатилетие гимназист назначил решительное объяснение, для чего утром поднялся спозаранку и за городской околицей набрал огромный букет полевых ромашек. Но так и не решился отправиться в гости к Аннушке…
О букете ромашек знал только один человек во всем мире. Я сам.
– Ты – это я?!
Он не ответил.
– Мы еще встретимся?
Яркая звезда вспыхнула и растаяла в небе.
Мгновение – и я оказался за пределами созданного им мира. Маленькая Вселенная захлопнулась, как прочитанная книга. Сфера снова стала кругом, круг – линией, линия – гаснущей точкой.
Снова вокруг были темнота и тишина.
А потом появились звуки…
…– Он мертв! – услышал я голос Инги где-то в пространстве над собой. – Три пули в спину…
Я медленно раскрыл глаза. Огляделся.
Рядом на корточках сидела Инга с понуро-отсутствующим выражением на окаменевшем лице. На ее щеке постепенно наливался кровью огромный синяк.
Мартын стоял чуть в стороне, широко расставив ноги и сжав виски ладонями. Левую часть его лба украшала здоровенная ссадина.
Леонтьев – бледный, с перекошенным странной гримасой лицом, – помогал подниматься Королевину.
На полу лицом вниз лежал Карлос Донилья. Мертвый…
Мои губы были тяжелыми, как два мокрых каната. Язык похож на старый диванный матрац с растянутыми пружинами. И все же я заставил себя заговорить.
– Будущий курсант Лаукайте, – прохрипел во Вселенную. – Вы не умеете правильно измерять пульс…
Голос прозвучал как шепот человека, на груди которого остановилось колесо груженого “МАЗа”.
Мир испуганно замер, а потом взорвался эмоциями. Едва ли не в одно мгновение эти четверо оказались рядом, в пространстве надо мной. Смешной вздыбившийся хохолок на волосах Алексея Леонтьева. Радостная улыбка на мучнисто-белом, как недожаренный блин лице Королевина. Веселые искры в зеленых глазах Инги. Хохочущий Мартын Луганцев.
И я тоже улыбнулся им. Что-то теплое затопило сердце. В глазах защипало. Расколовшимися льдинками разлетелись прочь одиночество и вечная тоска скитальца между мирами. Они, эти четверо склонившихся надо мной людей, все наши ребята-миростроители в одночасье сделались моей семьей…
И, конечно же, Марго… В первую очередь – Марго. Милая моя, любимая моя… Плевать на все запреты и инструкции, на морализаторство и осуждение коллег. Если Марго согласится, – а она согласится, как же иначе? – я обязательно возьму ее с собой в новую экспедицию, в новые миры и вселенные. Потому что миростроитель Волянецкий – не функция и не бездушный автомат, у которого периодически стирают часть памяти и чувств. Я – человек. У меня есть любовь, и пусть она будет со мной всегда. Я так хочу. И ничего иного больше не будет.
Хотя, какие еще мне нужны новые вселенные? Там, в пространстве, одна за другой сейчас выныривают солнечные системы, населенные людьми, образуя Великую Космическую Цивилизацию Человечества. Никто, кроме меня, – ни миростритель Королевин и космопроходец Леонтьев, ни Инга из ГУРОНа и журналист Луганцев, – никто еще не знает, что наша Вселенная уже стала совершенно иной. Пройдут еще недели и месяцы, прежде чем лучи света донесут весть о рождении в Галактике нового шарового скопления – дома, для будущего объединенного человечества.
Голова кружилась от света, красок и звуков, от ощущения безграничных просторов и свободы.
Мир, человеческий мир, выросший за доли секунд почти в два миллиона раз, станет нашим домом. Нашим большим и просторным космическим домом. Нашей Родиной.
“Нам предстоит трудная работа, – подумал я. – Объединить в единую общность один миллион восемьсот двадцать три тысячи пятьсот сорок семь миров! Пойти дальше, в Галактику, во Вселенную, в бесконечное множество иных пространств и мирозданий. Наверное, в конце концов, тоже стать интенсивной цивилизацией, но уже всего многомирья, всех разумных космических рас! Создавать миры, вселенные и… Что там еще дальше найдется? Ведь обязательно же найдется! А если нет – мы сами, космическое человечество, обязательно построим то, чего не может быть. Потому что мы – человечество. И мы сможем все!”
Новый мир разлетался на кусочки и снова складывался в единое целое, закручивался надо мной стремительными хороводами, нырял в неведомые глубины воронками.
Потом явилась спасательная группа, шумные и возбужденные Михеев и фон Браух. Колокола голосов били прямо в мозг. Световые зайчики молниями носились в глазах.
Мне немедленно вкололи что-то обезболивающее и поддерживающее силы. Осторожно приподняли на руках, положили на носилки и куда-то понесли…
Я закрыл глаза, снова погружаясь в темноту и тишину.
Finis coronat opus. Конец – делу венец .
Пусть один миллион восемьсот с хвостиком миров чуть-чуть подождут. Я имею право на отдых.
И заснул.
ЭПИЛОГ
На конференцию в Дели я улетал из “Шереметьево”.
До посадки в самолет оставалось еще почти два часа. Я немного не рассчитал с дорогой. Добирался до аэропорта на такси и почему-то решил, что обязательно попаду в пробку. Но нынче утром случилось чудо: обычного затора на дорогах волшебным образом не оказалось. Молоденький парнишка-таксист на новеньком “Ситроене” доставил меня из центра Москвы к зданию аэровокзала минут за сорок. И теперь два часа внезапно образовавшегося свободного времени нужно было каким-то образом убить.
На улице было прохладно. Моросил мелкий дождик, апрельский ветер еще дышал остатками зимней стужи. Поэтому от прогулки на свежем воздухе я благоразумно отказался и решил приютиться где-нибудь внутри теплого и сухого здания аэропорта.
Совокупное количество улетающих, прилетевших и встречающих в то утро оказалось не слишком велико, и поэтому в зале ожиданий незанятых мест было в достатке. Я опустился в одно из свободных кресел, поставил рядом чемодан, а кейс с ноутбуком положил на колени.
На случай “почитать в дороге” у меня с собой был припасен новый детектив Андрея Куркова, купленный вчера в “Книжном мире” на Лубянке, и толстенький томик тезисов – выступлений на предстоящей конференции. Беллетристику решил попридержать до начала восьмичасового полета, а сейчас час-полтора вполне можно было уделить ознакомлению с лучшими достижениями отечественной и зарубежной научной мысли в сфере “Проблем перевода научно-технических текстов в области новых технологий”. Достал из кейса том с тезисами и принялся неторопливо его перелистывать, останавливаясь и вникая в текст в тех местах, которые меня заинтересовали.
Впрочем, наслаждаться продуктами интеллектуальных изысканий моих коллег из разных стран мира пришлось недолго. Я едва одолел первые двадцать-тридцать страниц сборника тезисов, когда в пространстве над головой негромко прозвучал вопрос-утверждение:
– Харламов Евгений Кириллович?
Я поднял взгляд. В полушаге от моего кресла стоял, широко расставив ноги, средних лет незнакомец и с высоты без малого двухметрового роста внимательно рассматривал меня. Темно-русые волосы аккуратно уложены на прямой пробор, открывая высокий лоб. В густых усах под довольно крупным носом заметна редкая седина. Глаза из-под черных как смоль бровей смотрят пытливо, весело и чуть озорно. Одет незнакомец был в теплую кожаную куртку, джинсы и ботинки с высокой шнуровкой. Пальцы левой руки сжимали края черной пластиковой папки с застежкой-“молнией”.
– Да, я – Харламов. Чем могу…?
– Чеслав Сэмюэль Волянецкий, – он сделал энергичный кивок. Этот кивок, стройность фигуры и широко расправленные плечи выдавали в нем человека с военной выправкой. – Разрешите присесть?
– Пожалуйста, – я пожал плечами и с легким сожалением закрыл сборник тезисов. Ознакомление с довольно интересной статьей коллеги Пранека из Венского университета придется на некоторое время отложить.
Чеслав Волянецкий присел в свободное кресло напротив меня и сходу выпалил:
– Евгений Кириллович, я хотел бы сделать вам выгодное предложение.
“Наверняка он захочет за определенную плату передать что-то кому-то в Дели, – я с опаской покосился на папку в его руках. – Ни за что не возьму! А вдруг он – террорист, а в папке портативная бомба?”
Неприятный холодок пробежал по спине, и я поежился.
Волянецкий тем временем продолжал:
– Вас как очень хорошего редактора и литературного агента рекомендовал мне Станислав Петрович Коваленко.
– Стас? Он и сам неплохой редактор, а уж по части пристроить книгу на издание – так вообще дока, – у меня отлегло от сердца. Слава Богу, этот Волянецкий – не международный террорист, сующий бомбы в самолеты в багаже слишком доверчивых пассажиров. Хотя… Я снова с опаской покосился на папку. Вполне возможно, что он хочет пристроить в издательство какую-нибудь идеологическую бомбу. Что, иногда, кончается не менее плачевно, чем участие в международном террористическом разделении труда.
– К сожалению, у Станислава Петровича внезапно заболел отец, и он вынужден уехать к нему в Липецк, по крайней мере, на месяц, – сказал Волянецкий. – Мое же дело не терпит отлагательств. Поэтому Коваленко и рекомендовал мне вас как человека, способного его заменить.
Ах, вот оно что! Стас не впервые делился со мной клиентурой в периоды сложных жизненных ситуаций и… и в периоды неодолимой лени, когда ему просто не хотелось работать. Я иногда тоже подбрасывал ему выгодную работенку.
– Станислав в своем репертуаре. Мог хотя бы позвонить, – для приличия буркнул я.
– Сегодня утром он звонил вам несколько раз, Евгений Кириллович, – уголки рта Волянецкого чуть изогнулись в едва заметной улыбке, – но у вас отключен мобильный телефон.
Я хлопнул себя по карману и извлек на свет божий свой видавший виды “сименс”. Телефон действительно оказался выключенным.
– Вечером лег спать пораньше, а утром в спешке просто забыл его включить, – я виновато улыбнулся.
– Мы так и подумали, – Волянецкий энергично кивнул. – Станислав Петрович вспомнил, что вы сегодня летите в командировку, и я решил перехватить вас в “Шереметьево”.
Стас, наверное, достаточно точно описал ему мою далеко не самую выдающуюся внешность, если Волянецкий безошибочно разыскал меня среди пары сотен человек в зале ожидания аэропорта.
– Ваша э… работа у вас с собой? – я снова обратил взгляд в сторону пластиковой папки у него на коленях.
– Да, – он тут же принялся расстегивать папку. Внутри оказалась еще одна папка – потрепанное картонное сборище бумаг, имевшее серый цвет и веревочные тесемки. Сверху на ней лежал небольшой плотный пакет, крест-накрест обмотанный скотчем.
“Графоман”, – про себя вздохнул я. Повадки непризнанных литературных гениев, стремящихся любой ценой опубликовать свои “нетленные” произведения, за годы работы в издательстве я изучил досконально. “Нетленки” они, как правило, приносят именно в таких сереньких и невзрачных папочках. Вот, Стасик, удружил, спасибо…
– Э… Чеслав… Как вас по отчеству?
– Просто Чеслав.
– Дело в том, что я улетаю в Дели, – начал, опуская глаза. С детства не умею врать, а сейчас придется. – Мне будет не совсем удобно тащить ваш труд через границу сначала в том, а потом в обратном направлении… Может быть, мы договоримся о встрече после моего возвращения из Индии?
– Ваш вылет сегодня не состоится, Евгений Кириллович, – Волянецкий уставился на меня немигающим взглядом. – Рейс на Дели будет сначала отложен на три часа, а потом перенесен на завтрашнее утро. Поэтому я рекомендую вам не задерживаться в аэропорту, а взять такси и ехать домой.
“Сумасшедший графоман. Час от часу не легче!” – с ужасом подумал я.
За что же ты подложил мне такую свинью, Стасик? От этой породы назойливых психов с синдромом великого писателя отделаться бывает ох как нелегко. Да, чувствую, всласть попьет моей кровушки этот Волянецкий!
– Я все-таки побуду в аэропорту еще некоторое время, – возразил миролюбиво и кротко.
– Не верите? – левая бровь Волянецкого иронически изогнулась. – Жаль, сэкономили бы пару-тройку часов. Заодно бы и с материалом ознакомились. В домашних, так сказать, условиях.
– О чем ваша рукопись? – я на всякий случай решил перевести разговор на другую тему.
– О проблемах космического будущего человечества, – Волянецкий погладил пальцами продукт своего труда, собранный в бумажной папке с веревочными завязочками.
“Все, правильно, – с горечью мысленно констатировал я. – Чем мельче литературный талант автора, тем за большие темы он берется. Первый признак графомании”.
– Очень хорошо, – я постарался, чтобы мой голос звучал ровно, а на лице не отразилось зарождающееся негативное отношение к чрезмерно назойливому автору. Не стоит портить настроение перед полетом. – Чеслав… э… Сэмюэль, как вы понимаете, редакторские услуги потребуют некоторого гонорара…
“Может заломить страшную цену за редактирование и отшить его прямо с порога? – мелькнула спасительная мысль. – Эх, Стас – Стасик… И зачем же ты сбросил мне на плечи этого писаку с его космической рукописью? Друг называется…”
– Конечно, конечно, – Волянецкий закивал и постучал пальцами по перемотанному скотчем пакету, который лежал рядом с рукописью. – Здесь пятьдесят тысяч долларов Северо-Американских Соединенных Штатов. Этого хватит?
Он именно так и сказал – “Северо-Американских Соединенных Штатов”.
– А… Э… – я сглотнул ком в горле и выдавил:
– Хватит… Вполне хватит.
“Богатый сумасшедший графоман, – с восторгом подумал я. – Спасибо тебе, Стасик. Теперь по-настоящему спасибо. За такие деньги я разобьюсь в кровь, а пристрою в одно из наших издательств опус этого симпатичного психа космических масштабов”.
– Я тоже так думаю, – на лице Волянецкого нарисовалась лукавая улыбка. – За такую сумму в современной России можно издать все, что угодно!
Он произнес последние слова с легкой иронией, и я почувствовал, что почему-то краснею.
– Этого даже многовато, – изрек на всякий случай. Не хотелось показаться жадиной и мошенником даже в глазах почти незнакомого человека.
– Но именно этой суммой будет исчисляться ваш гонорар, – твердо произнес Волянецкий. – Пятьдесят тысяч долларов за общее редактирование рукописи и ее издание тиражом примерно пять – семь тысяч экземпляров. Такого количества, я полагаю, будет вполне достаточно.
– Достаточно для чего? – не понял я.
– Видите ли, Евгений Кириллович, – Волянецкий расслабленно откинулся на спинку кресла. – Ваш мир слегка задержался на пути в светлое космическое будущее. Слегка притормозил, если так можно выразиться.
В глазах его полыхнули искры безумного веселья.
– А эта рукопись, – он похлопал ладонью по картонной папке, – должна сыграть роль небольшого толчка, сделанного в определенное время и в определенном месте. После этого система вашего мироздания снова придет в состояние поступательного движения.
“Точно, он – псих, – с сожалением мысленно отметил я. – Псих, но с хорошими деньгами. Ну, что же… И люди с э… нетрадиционной психической ориентацией тоже имеют право издавать книги. Читатели ведь разные бывают… Так что книга этого Волянецкого вполне может даже получить некоторую известность”.
– Вы – русский? – спросил я, чтобы снова уйти в сторону от довольно скользкого направления нашего разговора. – Э… Я хотел спросить, вы гражданин России?
– Вас смущают мои имя и фамилия? – он слегка прищурился. – Не волнуйтесь, я не инородец. Местный уроженец, но… Из других времен и пространств!
“Так, ни слова больше! Не надо поощрять его болезненное воображение!” – решил я. Мало ли что… Еще передумает издавать рукопись!
– Итак, вы беретесь за работу? – Волянецкий бесцеремонно вперил в меня взгляд темно-карих глаз.
“Ха, он еще спрашивает! За такие-то деньжищи..!”
– Берусь, – с некоторой поспешностью кивнул я. – Сколько у меня есть времени на редактирование рукописи?
– Месяц-полтора, – Волянецкий пожал плечами. – Особенно не спешите, но и не тяните. И вот еще что, Евгений Кириллович…
Он ткнул указательным пальцем в картонную папку.
– Возможно, текст книги покажется вам странным. Отнеситесь к нему просто как к фантастике.
– Хорошо, хорошо, – быстро согласился я. – Фантастика, так фантастика.
Волянецкий протянул мне пластиковую папку со всем имеющимся в ней содержимым. Я взял ее и положил на колени.
– Если есть возможность воздержаться от редакторской правки, – воздержитесь, – посоветовал мой собеседник. – Мне бы хотелось, чтобы подобранные в этой папке тексты не претерпели радикального изменения.
Я закивал. За пятьдесят тысяч долларов можно опубликовать текст даже с явными орфографическими и стилистическими ошибками. Сумма того стоит.
– Вот, пожалуй, и все, – Волянецкий пружинисто поднялся из кресла. – Мне уже пора уходить, Евгений Кириллович.
– Погодите, – слегка опешил я. – Вы что действительно отдаете мне эти деньги и ваш материал просто так? Без заключения официального договора?
– Конечно, – его лицо озарилось широкой и добродушной улыбкой. – Я навел о вас очень подробные справки. О вашей честности и порядочности среди издателей ходят настоящие легенды.
– Гм, спасибо за комплемент, конечно, но… Ну, ладно, – я махнул рукой. Грешно было отказываться от пятидесяти тысяч долларов ради соблюдения юридических формальностей. – А если мне понадобится вас срочно разыскать? Скажем, посоветоваться…
– Евгений Кириллович, – лицо Волянецкого сделалось серьезным, – с сегодняшнего дня материалы поступают в ваше полное распоряжение. Меня интересует только конечный результат. К сожалению, я не смогу давать советы или отвечать на ваши вопросы. Меня уже просто не будет в этом мире.
“Господи, не собирается ли он покончить жизнь самоубийством? – заволновался я. – Мне еще только не хватало связаться с самоубийцей… Хотя за такие деньги…”
– Так вас подвезти до Москвы? – Волянецкий снова заулыбался. – Поверьте, рейс на Дели все-таки перенесут на завтра.
– Э… Нет, спасибо, – я энергично затряс головой. – Еще посижу, почитаю…
– Ну, как хотите! – он протянул мне руку. – Прощайте, Евгений Кириллович!
Рукопожатие его было быстрым и крепким. Он повернулся и зашагал к выходу из аэропорта.
Некоторое время я сидел, ошарашено вертя в руках пластиковую папку с рукописью и деньгами.
Вот ведь подфартило… Пятьдесят тысяч “американских президентов” редко валяются на дороге. Ай, да Стасик! Дай Бог здоровья его папе, но как только Карпенко вернется в Москву, я ему выставлю хороший магарыч!
Так, ладно, хватит о будущем… Вернемся в настоящее. Если я сейчас лечу в Дели на конференцию, то эту пластиковую папочку с рукописью и деньгами тянуть с собой через таможни и границы вряд ли стоит… Сдавать в камеру хранения такую сумму – это безумие, а съездить обратно в Москву до отлета самолета я уже не успею. Что же делать?
– Уважаемые пассажиры! – звонкий девичий голос возник где-то под сводами вокзала. – В связи со сложной метеорологической ситуацией по трассе полета рейс Москва – Дели откладывается на три часа! Повторяю…
Воздух застрял у меня в горле. Я едва не расхохотался. Нелепое предсказание Волянецкого начинало сбываться!
К исходу третьего часа пребывания в аэропорту прогноз Чеслава Сэмюэля сбылся в точности. По радио объявили о переносе авиарейса на завтрашнее утро. Я вышел из здания аэровокзала, поймал такси и поехал домой.
В перетянутом скотчем пакете и в самом деле оказалось ровно пятьдесят тысяч долларов США.
А вот в картонной папке с веревочными завязочками была вовсе не рукопись… Я за всю свою двадцатилетнюю редакторскую карьеру не встречал более странного текста!
Папка Волянецкого на поверку содержала очень качественно выполненные ксерокопии. Бумажные листы аккуратно сложены в определенном хронологическом порядке и во избежание путаницы кем-то пронумерованы от руки.
Ксерокопированные тексты были написаны тремя авторами: журналистом Мартыном Луганцевым, космонавтом Алексеем Леонтьевым и самим Чеславом Сэмюэлем Волянецким.
Записи Луганцева представляли собой что-то вроде мемуаров и изначально были напечатаны на пишущей машинке через полтора интервала между строками.
Тексты авторства Леонтьева были двух видов. Большая часть была скопирована со страниц книги его воспоминаний. Над каждой главкой значилась выполненная от руки надпись: “Из книги дневниковых записей летчика-космонавта СССР Алексея Леонтьева “За лунным камнем”, Москва, 1970, издательство “Мир”. Тем же аккуратным размашистым почерком была написана и меньшая часть текстов авторства Алексея Леонтьева, отснятая, похоже, непосредственно из клетчатой тетрадки его дневника. Один из рукописных текстов космонавта располагался в начале “книги Волянецкого”, а остальные – среди последних страниц.
И, наконец, рабочие записи самого Чеслава Сэмюэля делались на компьютере и были распечатаны с помощью обычного лазерного принтера.
Бегло пролистав все полученное “богатство”, я полностью уверился, что публиковать этот набор ксерокопий ни одно из издательств не возьмется. Разве что, за часть суммы, щедро выданной составителем, – у меня язык не поворачивался назвать Волянецкого автором! – удастся пропихнуть эту макулатуру в каком-нибудь небольшом издательстве где-нибудь в Мухосранске. И то лучше без указания моей фамилии в качестве пусть даже номинального редактора этого бреда. Чтобы потом не краснеть, когда кому-нибудь из знакомых литераторов случайно попадется в руки эта галиматья в печатном виде.
Общее содержание “книги” Волянецкого хоть как-то уложилось в голове только после повторного просмотра переданных мне материалов, с выборочным прочтением отдельных мест в тексте.
Все эти материалы в том или ином ракурсе касались одной и той же темы – высадки советского космонавта на Луну в октябре 1968 года. Высадки, которой никогда не было, поскольку каждый более или менее образованный человек твердо знает, что первым на лунную поверхность ступил американец Нил Армстронг.