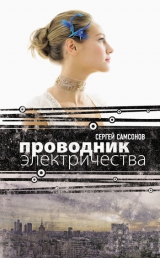
Текст книги "Проводник электричества"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Ивану многое не нужно было объяснять – привык к тому, что взрослые ругают свою страну, народ, самих себя на кухнях, на площадях и перед телевизором: живем во тьме, невежестве, дерьме, самодовольстве, лени, пьянстве, мракобесии, обожествляем силу, кровопийц, тоскуем то по кнуту, то по казачьей, пугачевской вседозволенности, нет в этой стране плана жизни, кроме воровского, и нет законов, кроме людоедских, – кто пещернее, клыкастее, тот всех и подмял под себя, вот тот и царь, отец народов, друг всех детей, спаситель человечества… если хочется жить, набивай кулаки, ставь дыбом шерсть, показывай всем свою крутость, лютость – тогда тебя зауважают, поклонятся, облобызают сапоги, а если – нет, если захочешь вдруг по-человечески, своим трудом, умом, то значит – чмо, терпила, быдло… попробуй с кем-нибудь заговорить о нормах общежития, о снисхождении, о прощении, о милости, поднять упавшего, пошевелить на тротуаре пьяного, подать голодному, впустить в свой дом холодного, дать рубль больному, слабому, ребенку – ты сразу станешь им смешон, юродивый, христосик, идиот… вот и приходится плыть «средним» по течению, держаться середины – закрыть глаза на подлость тут, втихую сподличать вон там, словчить, заприметить, что плохо лежит, и в карман, – чтоб не дай бог не идентифицировали, не отнесли к тем жалким, которых можно стричь и давить безнаказанно, а впрочем, нет таких, которых не давили и не стригли бы, всех можно, каждого, на сильного найдется тот, кто еще сильнее, на всех – пахан верховный, ссылающий миллионы в каменоломни, штольни, лагерную пыль.
Здесь развращают гарантированным подаянием – зарплатой, пенсией, которые не платят месяцами, – и зрелищем лукулловых обжорств и валтасаровых пиров, которые доступны только верхушке этой вечной феодальной пирамиды, и это действует соединением покорности и злобы, и копится, растет, спрессовывается, пока не перейдет однажды в взрывчатую ненависть, не вырвется горением тринитротолуола с первой космической – ни храмам, ни дворцам не устоять, кресты все посрывает разом… и что сюда ни завези из-за границы – рай на земле, парламент, конституцию, свободу… – воспламенится моментально, все и везется только для того, чтобы извратить любую мощную идею, чтоб как дубиной перебить Романовым хребет, чтоб половина половине нации кишки повыпускала, чтоб цвет – под воду пароходами, баржами, чтоб под сурдинку перестройки ли, под пять марксистских ли форте там, наверху, одни сменили прежних – варяги, татарва, германцы, ревкомы в кожаных тужурках… не все ли равно кто – сиятельные дурни, великие мерзавцы, одна порода, поколения не знавших ничего, помимо бесправия и страха… кто был ничем, тот воцарится наверху с одной потребностью – топтать всех, кто внизу, перетирать в песок единым карандашным росчерком.
Здесь ничего нельзя предпринимать – вот бизнес, лавочку, артель, заводик, здесь нет и не было понятия о собственности – вот ни заборов, ни почтения к заборам, здесь все ничье, все государево, здесь сколько ни имей, а все равно как нищий, уж лучше ни кола, чем все отнимут и сожгут – те, кто с собачьими башками, метлами, мандатами. Дашь денег на детдом, больницу, школу – разворуют, пойдешь в милицию, чтобы карать подонков, – сядешь сам, учить крестьян, лечить аборигенов от холеры – порвут на части как разносчика и выбросят в колодец. Нет, надо уезжать отсюда и увозить детей… ну и так далее, и тому подобное.
Все говорили: мать, отец, их круг – вчерашняя научная интеллигенция, выпускники специализированных школ при МГУ (отец окончил 2-ю при физмате), сегодняшние главы банков и концернов, хозяева заводов и нефтедобывающих компаний, врачи, писатели, артисты, адвокаты… и что владело высшими слоями, интеллигентской прослойкой, то разделяли и подхватывали с удвоенной яростью и «нижние» – в очередях, автобусах, трамваях, магазинах, сберкассах, паспортных столах, отделах социального обеспечения… вот эти тетки наши вечные, вот эти наши работяги с жилистыми лапами, с негнущимися, заскорузлыми, неотмываемыми от работы пальцами: просрали и распродали, жидовское засилье в Кремле, вор на воре, на рынке одни черные, и каждый норовит обвесить, суют одно гнилье, стыд потеряли, совесть, божий страх, чтоб устроить дочку в садик – двадцать тысяч, учиться – за взятку, лечиться – за взятку, на операцию без очереди – рак третьей степени – сто тысяч, иначе подыхай, и даже когда знают, что человеку не помочь, то все равно на операцию толкают, как будто сами собрались жить вечно, и так везде, вчера взяла мороженую рыбу, когда оттаяла – что там полкилограмма, думаете?.. а только триста не хотите? В деревню приезжаешь – нет людей, ни человечка днем на улице, все обвалилось и бурьяном заросло, еще и наглости хватает заявлять, что смертность у них по бумажкам снижается… ой, русские люди, ой, русские люди…
Заупокойный этот отовсюдный плач, беспримесное вещество уныния, уничижения, безнадеги Ивану стали сызмальства естественной стихией, в гудение которой он почти не вслушивался: доискиваться, доходить до смысла понятия «проклятая Россия» было таким же глупым и нелепым делом, как растолковывать понятие «мама».
В пустых и выпуклых глазах людей его народа сквозила, стыла, простиралась спокойная и отрешенная готовность раствориться в протяжном покое беднеющих, блеклых равнин, в великой пустоте страны, которая есть будто только одна большая материнская утроба… сойти безропотно с земли, исчезнуть из пейзажа без следа, стать однозвучным звоном колокольчика над неизменной заснеженной степью, стать только палой листвой, жухнущей травой.
Иван и сам смотрел порой вдаль, туда, где сходилось суровое, скудное небо с холмами, такими же – пустыми безучастными глазами, затянутый, казалось, уже невозвратимо в созерцание, в покорность неизменному круговращению вещей, и было вольно, холодно и сладко от такой неотделимости, запаянности будто сознания в пустоту – что можно перейти «туда» и не заметить грани, как не заметила природа твоего отсутствия в пейзаже.
Откуда ж было взяться, – он не понимал, – тогда вот этой стойкости, живучести, неистребимости народа, который все пересидел и превозмог, все строи, все нашествия, все ига… откуда, почему, когда ему, народу, как будто бы и жить не хочется, вот некуда…откуда ж было взяться тогда великой мощи созидательной, которая дала несметь сокровищ веры и искусства, сверкающую прорву доселе небывалых образцов подвижничества, жертвы, служения, труда… откуда было взяться первенству в науке, вот в покорении космоса и микромира – рабы же ведь, зачем оно рабам?.. откуда было взяться тогда вот этой грозной завораживающей силе, которая, железно лязгая, внушая суеверный ужас, военным строем доходила до Берлина… и Гиммлер поражался бессмысленной живучести, упорству примитивных русских, которые как дождевые черви: их рубишь на части лопатой, а они извиваются… и не могла ведь потускнеть, истлеть, ослабнуть, сгинуть эта сила, вечно стыдливая и вечно обреченная на жертву.
Порой он признавал свою нечестность, чувствуя себя скорее вором, чем полноправным собственником представления, идеи о стране; он будто занимал, одалживал у тех, кто родине исправно, безукоризненно служил и оплатил какой-никакой болью, лишением это знание.
«Урусского два вектора, два «само», – писал дед в дневниках, – самоотверженность и саморазрушение, а середина между святостью и скотством ему скучна. Еще и потому так, что просторы наши доходчивее разъясняют тайну смерти, чем все конструкции, все книги, вместе взятые: совсем не надо смотреть на вещи слишком пристально – довольно выйти за околицу, чтобы легко вообразить, как это однообразное пространство способно превратить все возведенное и все живущее на нем в безмолвный перегной и ковыли.
Отсюда тяга дотянуться, шагнуть за край – пространство мучает тоской по соразмерности. Великую цель подавай, такую, чтоб нельзя было сожрать. Вот потому-то русский и заворожен настолько идеей государства, что только государство ему может великую задачу показать, махнуть за горизонт в неясном направлении – там оправдание, там ты нужен, там тебя вынут из земли и воскресят в телесном облике… ну, то есть такой же мощи, такого же веса удельного должна быть идея, а там уж все равно какая – хоть мировая революция, хоть русский стяг над Дарданеллами, рай для рабочих, Иерусалим для праведников. А только государство устранится и цели нет, одна отменена, другая не объявлена, так сразу пьянство и разврат, которые тем и страшны, что удовлетворения не приносят.
Мы хорошо воюем (массой, числом, народу много и поэтому не жалко), мы хорошо сражаемся с разрухой и поднимаем целину, нам хорошо дается изобретение, открытие, создание с нуля (от индустрии до литературы), а дело сбережения и приумножения – душа не принимает. Со средним напряжением, по зернышку, песчинке – вот это не дается. Быть вечно же мобилизованным и рано или поздно не надорваться человек не может, вот он и расслабляется и разрешает себе отлынивать от выполнения долга, и это расслабление, высвобождение наше страшное – с какой силой гнут, с такой и распрямляемся, ни удержу, ни хода обратного не зная».
4Камлаев ждал снаружи, привалившись к капоту желтого такси, курил, выпуская медлительный, сизый, слоистый цветок за цветком, – отменно скроенный, потяжелевший с возрастом мужчина лет сорока на вид, в льняной измятой черной паре, с густой стальной сединой на висках; Иван взглянул на дядьку отстраненно – каленые черты, чеканный профиль, упертый подбородок (дедовский), насмешливый и безнадежный взгляд, всегда как бы смеющиеся губы, так они были у него изогнуты; в глазах, буграх, морщинах, складках этого лица жило нерассуждающее превосходство, невытравимое, непрошеное, прирожденное, приятие изначального и непреодолимого неравенства людей: я вот такой, мне кесарево, львиное, а вам – все остальное. Ударить, да, ударить его хотелось многим нестерпимо – Иван представил это ясно, до ломоты в надбровных дугах, до яростного зуда в кулаках – вот прямо в выпяченный подбородок, стереть, размазать «наглую» ухмылочку.
– А ты чего так смотришь? – Камлаев протянул раскрытый портсигар.
– Я не курю.
– Понятно, прочитал бестселлер «Сто десять легких способов порадовать патологоанатома». Садись, поехали. Я поселю тебя на студии – там звукопоглощающая губка, отличное место для ученых занятий.
– Вот это, кстати, просили передать. – Ордынский спохватился, бросил на дядькины колени кусок картона с лихорадочно накарябанным номером.
– Наша Таня громко хочет. Оставь себе – мож, звякнешь как-нибудь.
– Но это же тебе.
– Ну а тебе-то она как? Отличная девка, живая, настоящая, лицо из тех времен, когда природа ваяла человека набело, отважно, широко и грубо, без пробы, навыка и вечно попадала в точку. Смешение кровей, я думаю, граница России с Казахстаном. А в Голливуде ихнем обосрутся, на ретушь изойдут – даже таких вот скул не сделают.
– Ну да, она красивая, – промямлил Иван, – и что?
– Да ничего. – Камлаев повертел картонку с номером и с выражением «что упало, то пропало» опустил в карман. – Поехали, брат, – сказал он жилистосухому, горбоносому, чернявому таксисту, который устлал приборную доску иконами: не салон, а часовня на стосильном ходу; тот надавил на газ, машина поползла лавировать в мурлычущем, рычащем скопище автомобилей, давившихся за место на парковке; в пределах видимости трасса была полонена ползучим автомобильным игом; машин отечественных марок, тольяттинских «девяток» и «десяток», которые когда-то так выгодно сбывал народонаселению отец, вообще не было видно – сплошь черные и серые седаны детройтского, чикагского, баварского концернов, пикапы, джипы, чьи мощности, огромность, высота по-прежнему соотносились, видно, с калибром хозяина.
– Как мать? – спросил Камлаев.
– Ну как… отлично. Выносит мне мозг на предмет, что надо типа вырабатывать общительность. Не быть таким закрытым, все такое.
– Бери с нее пример.
– Ну да, она общительная. Пожалуй, даже слишком. Не может без мужского общества.
– Ты, братец, бросаешь ей это в упрек? То, что сошлась с Робертом, да? Тебе пришлось несладко, все такое. Показалось предательством с ее стороны? Ты что, хотел, чтобы она тебе принадлежала без остатка, чтобы отражалась в тебе каждую секунду, в своей ненаглядной кровиночке?
– Совсем не это я хотел сказать. Это она тебе сказала, что ли, что так вот все воспринимает?
– А что? Что она сделала и делает не так? Послушай, чувачок, ты же не будешь спорить с тем, что одиночество для человека состояние противоестественное. Для бабы тем более. По самоей своей природе баба не может быть пустой, не заполненной, землей, которую никто не пашет. Ну что ты скорчил морду? Ведь я же не про то, что человек вот в рабстве у собственного низа… я совершенно про другое, брат. Я про обратное. Не может баба быть эгоистичной, ее животный эгоизм, ее потребность, да, в мужчине, в соединении, заполнении – это и есть ее самоотдача. Это одно и то же… как не разрубишь пополам магнит. Она берет крупицу, вбирает в себя капельку мужского и отдает, все отдает, она нас душит своей любовью – так ее много в ней, хватает на детей, на мужа, на нового мужчину. И если б не ее вот эта жадность, себялюбивая, слепая, нерассуждающая жадность, то и тебя бы, может, не было. Как говорил твой дед, мужчина гораздо ближе к человеку, зато любая баба гораздо ближе к человечности. Она умеет быть благодарной, парень, ее моменты удовольствия неотделимы от мучения, настигающего следом… конечно, ты мне можешь рассказать про контрацепцию и тысячи абортов, про чью-то жадность, лень, жизнь для себя, но если все-таки не происходит этого обмана в пределах человеческого естества, тогда мы вот и получаем женщину, которая гораздо ближе к ним, – кивнул Камлаев на иконы на приборной, – чем самый строгий столпник, умерщвляющий грех постом и молитвой. Короче, твоя мать – молодец. Мы, брат, с тобой невероятно, незаслуженно счастливые отродья – вот просто потому, что у нас с тобой такие матери. А ты чего устроил ей? «Отстань от меня», – прогугнивил Камлаев, набравши в рот каши, – «не лезь в мою жизнь», «у тебя теперь этот»…
– Значит, все-таки сказала тебе.
– Сказала, сказала. А то, что с отцом разбежались…
– Так это отец виноват, – Ивану захотелось съерничать, – с ним было жить как с наркоманом, он типа уже больше без этого не мог.
– Видишься с ним?
– Два раза в год. Теперь он вроде в состоянии абстиненции. Похож на волка в зоопарке, так ему непросто.
– Непросто уходить за горизонт событий, для этого необходимо обладать смирением. Ты все еще наследник или как?
– Это так важно?
– Девчонки читают про это в журналах, читают и мечтают о таких, как ты. Серьезно, мы могли бы с тобой разыграть вот эту карту. Я подхожу к какой-нибудь козырной жозе с презрительно кривящимися губками и говорю ей: «Видишь, это сын Ордынского, наследник заводов, газет, пароходов, приехал только что из Лондона, и он без ума от тебя». И все, она твоя. Чего молчишь, брат? Что, мать не положила денежек на карточку? Отец тормозит с алиментами? Так я могу подкинуть – мне для родного племяша не жалко.
– Ты сам-то понимаешь, что несешь? – Он все никак не мог приноровиться, не понимал, как это дядька Эдисон переключается мгновенно с серьеза на такой общепитовский бред.
– Послушай, я, возможно, открою для тебя Америку, но конкуренция мужчин за самок – прежде всего борьба экономическая. Придется примириться с тем, что бабы будут оценивать тебя по всем параметрам, включая и твою способность обеспечить им систему дорогих подарков.
– Мне так, – сказал Иван, почувствовав, что наливается бессилием, – не надо.
– Отлично. То есть, значит, в принципе ты все-таки не против приконнектиться к какой-нибудь девчонке. Сам по себе, без папиных деньжищ и не боясь, что будешь этой девочкой признан унылым чмошником? Отлично. А то уж я подумал, что ты и вовсе обделен вот этой милостью. Признаться честно, я тебе завидую. Перед тобой прорва жизни, огромный лес, бескрайняя земля, тебе еще все только предстоит – робеть, дрожать, брать телефон, который она своей рукой запишет на твоем запястье, на сигаретной пачке… проваливаться от стыда сквозь землю, смотреть в глаза, оглохнув от ее лица, и говорить, не слыша своих слов, узнать вот эту радость, да, когда ее глаза впервые с восхищением остановятся на этом вот твоем, казалось бы, ничем не примечательном лице… ты станешь нужен ей, втыкаешь?… тебя этим пробьет, и ты почувствуешь бессмертие. Электричество первых нечаянных касаний, ее рука, которой она больше не отдергивает, свободно льнущая к тебе ее доверчивая тяжесть… ну да, ты, разумеется, уже играл в бутылочку, но так вспоминаются детские игры, когда повзрослеешь. Замирание, затмение обнажения впервые и выражение жертвенной решимости в ее лице… допустим, будет так… ты станешь огромен, как этот, из легенд и мифов, чьи кости стали горными хребтами, любовь – это продленный призрак бытия, дарованное знание о том, что ты уже родился не напрасно и что так просто, бесполезно ты уже не кончишься. Короче, сам узнаешь. Держись меня, двойной, и я отдам тебе на разграбление этот город. Был бы ты не двойной, не Камлаев – ну и хрен бы с тобой. Но уж коли Камлаев, пристегни-ка ремни – миллион разных женщин ждет встречи с тобой.
– Ну да, мать говорит, ты типа бабник. – Он поразился той готовности, с которой выпалил, и сжался от стыда, от гнева на себя, на эту жалкую свою зависимость, неполноценность, недостаточность, на эту детскую, дебильную, убогую готовность поверить в то, что Эдисон и в самом деле станет той отмычкой… что он действительно ему, Ивану, передаст вот эти властность и свободу, вот это совершенное отсутствие (врожденное, почти уродливое) трусости.
– Нет, я не «типа бабник». Это слишком нейтральное, бедное слово, чтоб передать, кем я являюсь. И дело тут не в крутизне, Иван, не в мировом рекорде по поеданию хот-догов… я же не быдло, чтоб орать, что я поймал вчера нахлестом вот такую рыбину. Дело в качестве восприятия, Иван. Когда ты начнешь заниматься этим делом серьезно, то ты поймешь, что тесные движения – ничто, что это только трение деревянных палочек, чтобы добыть одну-единственную искорку, а согреваемся на самом деле мы не этим. С чего мы начали сегодня, когда зашли в хвост этой эскадрилье стюардесс? Мы начали с искусства женской мимикрии. С классической игры бровями. С того, как они преподносят себя, как бы отваживают нас. С того, как они врут на языке мимических морщин и жестов и как они при этом восхитительно естественны, как запросто, естественным телодвижением дается им вот это сложносочиненное притворство. А мы готовы снова и снова повестись на эту ложь, мы смотрим на них и не можем поверить, что она ходит дома в стоптанных тапочках и байковом халате, что она ест, как все, и подмывается, и прячет в сумочке прокладки. Ну, то есть мы, конечно, понимаем это все умом, но мы убьем любого, кто скажет про нее, что вон побежала потекшая сучка. Мы знаем про них многое, но это наше знание не убивает тайну, а делает девчонку еще более таинственной. Ты должен полюбить их всех, как вид, влюбиться в женственность как таковую, ты должен любоваться ими каждую секунду, бескорыстно, вот просто отдавая дань природе, которая их сотворила такими непохожими на нас бессовестными врушками. Ты должен замечать детали – не жопу и не грудь, не линии трусов и лифчиков, а то неуловимое, что их и делает такими притягательными, да: изгиб хребта, посадку головы, вот это беспримерное отчаяние и самодовольство, с которыми они попеременно глядятся в зеркало. То, как они краснеют, как поправляют волосы, как трогают себя за губы. Различия, Ванек, различия. Перед тобой не тупо носитель яйцеклетки, которую ты должен оплодотворить, – перед тобой бесподобный человек… – Эдисона несло, речь дядьки бурлила и пенилась, хлестала, будто из пробоины, Ордынского вертя, затягивая в мощную воронку, и было совершенно при этом непонятно, и вправду он, Камлаев, настолько воодушевлен или на самом деле только издевается. – Ты должен понимать значение стрелки на чулках, не слишком гладко выбритой подмышки, потекшей туши, смазанной помады, маленького прыщика… да, да, прыщи, расширенные поры, все то, что становится видным вблизи, любой совсем не портящий ее изъян… отполированная, гладкая поверхность довлеет только эстетическому чувству, для возбуждения необходим живой росток, курчавый волос, жировая складка, которую поставщики видений для дрочил традиционно убирают в «Фотошопе». Мы ничего с тобой не отбрасываем – мы все фотографируем, впускаем. Ты должен стать как перегонный аппарат, который постоянно воспринимает чувственный сигнал извне и выдает из краника беспримесное восхищение.
– Да, да, я понимаю, – сказал Иван, – все это очень хорошо, но только дело в том… неясно, как сделать следующий шаг… ну, в общем, как заговорить, как познакомиться.
– Если ты не понимаешь, как одно тут соотносится с другим, то на кой хрен я вообще перед тобой распинаюсь? Мы не на курсах повышения самооценки, чувачок, не на дебильном тренинге по закреплению навыков коммуникации, где учат якорящим фразам и прочей лабуде. Ну-ка скажи мне, что там выдал Google на твой запрос «как познакомиться и уломать девчонку»? Тренироваться перед зеркалом с набитым ртом, быть остроумным, использовать различные клише типа «не можешь мне помочь? Мне кажется, что у меня спина испачкалась»? Твое несчастье, братец, коренится в представлении, что существуют некие волшебные слова, которые мгновенно переключают девок в положение лежа. С таким подходом, брат, ты вечно обречен идти на девушку, будто на танк со связкой гранат, и будешь раз за разом подрываться, так и не вымучив оригинальной первой фразы. Секс, он везде, всегда, он – вещество всей жизни, уяснил? Не где-то далеко, на Джомолунгме, – здесь! Набухшие почки, зеленые листики, которые слепо тянутся к солнцу, вот воробей, который пьет из лужи, – все это он и есть. Ты должен это чувствовать как реку, которая тебя несет. Не надо вычленять, не надо говорить себе: «Сейчас я занимаюсь этим, а сейчас вот этим». Они же ведь чувствуют, когда мы на них смотрим, да? Ну вот пусть и почувствуют. Увидят, что ты в восхищении, увидят, что ты на волне, что для тебя тянуться к ним – естественное дело. Цветок раскроется и выставит на обозрение свои тычинки сам собой. Ты должен быть искренен, безыскусен и искренен, как аппликация для мамы на Восьмое марта – «вот тебе, родная, в женский твой денек цветик-семицветик, ясный огонек». Конечно, есть десятки разных трюков, но все они лишь производное от хищного зрения, от любования, о котором я уже говорил. Да и вообще хорэ нам тут с тобой теоретизировать, сейчас придешь в себя, поспишь немного, и выдвинемся на разведку боем… ну, как тебе такое предложение?
Иван кивнул и окончательно поверил, что промежуточное это состояние, в котором пребывал все эти годы после детства, как куколка, в которой смутно брезжит будущая жизнь, теперь закончилось и начинается под руководством Эдисона что-то новое: родная и чужая небывалая Москва, по улицам которой мать ходила им беременной, великая пустошь привольной и нищей страны, соленый железистый вкус русской речи, которым ты опять ошеломлен, как в детстве – вкусом собственной горячей жирной крови, которая течет из свежего пореза на костяшках или рубиновой капелью шмякается в прах – как будто из испорченного крана, из носа, сокрушенного чужим мосластым кулаком… и женщины, которые проходят мимо, нечаянно, бездумно задевая тебя душистым краем своей здоровой силы и отмытой молодости…
Все это – родина, язык и женщины – соединялось в целое, в единую густую, горячую субстанцию, которая должна была вот-вот прорваться, вспыхнуть, хлынуть из свежего пореза, ссадины, пробоины… прав, прав был Эдисон, когда он говорил про «первобытный синкретизм»… и подхватить его, Ивана, вечной неумолимой убийственной тягой, той самой, которая в осенний гон сшибает лося с летящей по шоссе машиной и торжествует над диктатом разума или защитного инстинкта в каждом существе, будь то сторожкий селезень или себя стыдящийся, пугливый, неуклюжий парубок уже с колючей жесткой щеточкой над верхней губой.








