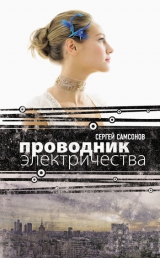
Текст книги "Проводник электричества"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Скажи, как ты воспринимал такое раннее признание? Вот этот венчик вундеркиндства – это вот что вообще такое?
– Ну да, такой «маэстро в красном галстуке». Когда я не прогуливал, я все же занимался как-никак, играл Шопена в основном, которого терпеть за эту вот поганую душевность… ну то есть мне давали Шопена постоянно за то, что он такой вот революционный автор, который как бы против ненавистного царизма, и под него у нас тем более хоронили вот этих всех, с трибуны Мавзолея… ну вот, играл ноктюрны, значит, и вдруг мне говорят: поедешь защищать честь школы на конкурсе московской пионерии. Конечно, мать торжествовала: то, ради чего со мной обошла десятки разных педагогов, сбываться начало с какой-то необыкновенной силой, и я себе под это дело выбивал магнитофон там новый беспроблемно, какой-то туристический там ножик, на который давно уже слюни пускал…
– Прямо какая-то растительная жизнь. Магнитофон-то был зачем тебе необходим? Я понимаю, фетиш поколения. Бобинный, да? «Комета»?
– Ага, он самый, мировая вещь. «Комету» наши ведь слизали с «Грюндига», как «Красную Москву» с «Шанели № 5». И обладание этой штукой делало тебя ну просто существом с другой планеты. Вот что такое был на деле венчик избранности, да. К тому же я тогда как раз услышал «Битлз», и это было как… подобно тектоническому сдвигу, великим приливным явлением, пульсацией, взошедшей откуда-то из глубины земли… по силе выброса в сравнении с этим ничто, конечно, в классике и рядом не стояло. Это как будто дьявол бьется в преисподней и бьет в кору рогатой башкой изнутри, в кору и в стенки твоего вот черепа… ну то есть не дьявол никакой, конечно, а некая энергия, которую и «эросом»-то было глупо называть, настолько она все в тебе мгновенно поднимала дыбом.
– Вот, значит, как? И как же уживались между собой академическая строгость и это рок-н-ролльное бунтарство?
– Я, по правде сказать, тут не видел проблемы. Ты слышал, как, к примеру, тот же Гульд играет баховскую прелюдию до мажор? Если немного взвинтить темп, то это будет самый форменный, отъявленный, чистейший рок-н-ролл. Проблема же совсем не в технике, ведь звук не в ней.
– А сколько быиполет тебе тогда?
– «Тогда» – это когда? Ну, это был 67-й, по-моему… ну или, может, 66-й, еще до появления у нас «Сержанта Пеппера».
– Нет, в смысле – время твоих первых пианистических триумфов.
– Ну, это все, по-моему, происходило практически одновременно.
– В тринадцать лет, в четырнадцать?
– Ну да. Ну то есть это все гораздо раньше началось – «маэстро в алом галстуке», все эти фотографии в газетах, вот в этом фрачке идиотском там, да. Потом уже как поросенка стали возить по выставкам советских достижений в Варшаву там, в Париж, в Брюссель.
– Ну вот и расскажи, что происходит в сознании почти ребенка, когда он видит, что вокруг него царит такое возбуждение, такая истерия вообще.
– Ну, элемент аттракциона во всем происходящем был велик необычайно, вот в этой ситуации с ребенком, да, который еле-еле достает ногами до педалей. Цирк лилипутов, да, такой, когда приходят люди на концерт и говорят друг другу: только вдумайся, ведь он же тоже срет, но только поменьше, чем мы. То есть дело как бы и не в звуке было, а в этой вот табличке, да, «через решетку не кормить».
– Ты это чувствовал?
– Ну да, такую концентрированную похоть, глумливый интерес. Тут дело в чем: ты в ситуации концерта вынужден все время реагировать на эти человеческие примеси, и нужно очень много тишины и одиночества, повторов двух одних и тех же первых тактов, пока… ну, из-под всех вот этих наслоений не покажется хоть краешек чего-то настоящего. То есть я, наверное, с самого начала подсознательно не мог и не хотел считать себя профессионалом, да, который существует в рамках этого театра, вот в этой ситуации, ну, абсолютно противоестественной, когда в специальном месте и в назначенное время, с семи до десяти, специально собираются две тысячи людей во фраках и нарядных платьях, и это у вас всех такая трудная и напряженная работа. И мне это казалось каким-то необыкновенно глупым делом – вот это, да, обособление, выделение, изъятие музыки из мутного, горячего, нечистого потока самой жизни. Как есть, ну, девственные дебри, да, и есть какая-то оранжерея. А мне казалась как? Что музыка, наоборот, должна звучать везде и постоянно… ну так, как это раньше, собственно, и было, на улицах и в церкви, на пашне, на танцульках, на войне. Ну вот выходят, да, крестьяне утром в поле – у них там полоска не сжата, и как-то в лом им впахивать, и жарко, и не хочется… вот тут и надо, собственно, запеть такую будоражащую песню, веселящую, какой-то ритм поймать, дающий понимание, что погодить нельзя, что надо пожинать сейчас, а завтра будет поздно… и все, и руки сами просятся в работу, инстинкт какой-то изначальный оживает, который поколениями врабатывался в мускулы и кровь, вколачивался специальной мобилизующей музыкой. Вот это ощущение незыблемости, да, естественного хода и естественного срока, единства своего с дыханием земли и гибелью зерна. И точно так же и везде, вот тот же рок-н-ролл – девчонкам и мальчишкам, им надо как-то сблизиться, и, значит, время заиграть шизгару, играешь – бац, все намагничены, притянуты друг к другу по принципу разноименности… а для чего еще были нужны все эти вакханалии?.. да это чистый праздник жизни, осеменения, зачатия, чадородия. То есть музыка, она всегда поддерживает что-то, укрепляет, она не может быть не прикладной, и самой большой ошибкой было когда-то превратить ее в самостоятельный продукт, который предназначен для эстетического, да, переживания. Когда ты вырываешь звук из изначального контекста, из ритуала вызывания дождя, то звук утрачивает собственные свойства и превращается во что-то вроде фотографии на фоне сфинксов или Эйфелевой башни… То есть этот момент ритуальности, он очень важен, абсолютно, но мы об этом можем только вспоминать, мы и вспомнить, вернее, о нем теперь толком не можем.
5Это была – теперь воспринимаемая как любительская – запись начала 90-х, а может быть, конца 80-х; сидевший в головатом интерьере деревенского дома худой, темноволосый, еще без сильной седины, гривастый Эдисон казался странно молодым и жутко старомодным – как будто вечность отделяла его, тогдашнего, от нынешнего дня, так глупо, так смешно смотрелись очки на пол-лица, «вареная» джинса, «лакостовская» серая толстовка; совсем не верилось, что люди могли так одеваться, стричься всего каких-то жалких десять лет назад, как будто и не при тебе все это было, как будто предложили вспомнить древнюю «игруху», идущую на самом древнем «пне», в то время как сейчас, на новую «предметную среду», уже и гигабайта ИАМ’а не хватает.
Герой двухчасовой программы неопрятно говорил, как будто постоянно сплевывая шелуху прилипших сорных слов, никак не поспевая за своей беспокойной мыслью, буравящей несчастный мозжечок Ивана.
Крупные планы Эдисонова лица – чеканенного сложным выражением достоинства и отвращения к жизни – и мощных, длиннопалых, хватающих по полторы октавы рук, натруженных, тяжелых и в то же время странно женственных, так было много в них какой-то скрытой антилопьей нервности – душа танцовщицы, живущая в кувалде… все эти сигареты, друг за дружкой подносимые к презрительно кривящимся губам, как будто чем-то запыленные под яркосиней линзой, одновременно хищные и безучастные глаза… чередовались с тихими наплывами сменяющих друг друга старых фотографий… при взгляде на которые, на каждую вторую какой-то странный ветер поднимался в Ивановой душе – предчувствие неотвратимого наката давно уже свершившихся событий, прозрачная колодезная смесь жестокой любопытной жалости и безнадежной, бесполезной нежности, предельной близости и вместе с тем предельной отстраненности: он никогда не думал, что чувство ностальгии может простираться гораздо дальше персональной внутриутробной тьмы, захватывая время, когда тебя еще и в планах не было.
Обстриженный под полубокс, с обритым почти наголо затылком, с дебильно-горделивым клочком поросли на лбу, угрюмый густобровый мальчик лет семи, в матроске, с острыми коленками, с самодовольной мордочкой всеобщего любимца, еще не вызывал короткого, как выстрел, замирания, хотя Иван и тут не уставал дивиться силе крови, проводящей вдоль времени фамильные черты: как все-таки много, как страшно и спасительно, вплоть до бессмертия много остается от человека в детях – строением черепа, фамильным носом, лепкой черт… Один и тот же мальчуган, в котором зрители должны были узнать величину, легенду, небожителя, позировал в различных облачениях – в барашковой папахе, в тюбетейке, в буденовке и с шашкой через плечо, и все мельчал, слабел, круглел и наливался сытой сонной тяжестью, теряя молочные зубы в обратной замедленной съемке, меняя глупые штанишки с помочами на распашонки и слюнявчики с пинетками, все ближе продвигаясь к пограничной полосе, пока не обернулся годовалым карапузом, сидящим на рояльной крышке с открытым ртом и бесконечно изумленными глазами: такую фотографию, конечно, тут нельзя было не показать – вот эту подражательную копию ребенка– Ростроповича, лежащего в виолончельном футляре, как в утробе.
Но вот уже являлась на экране тоненькая девочка, которой он, Иван, совсем не знал и в то же время ближе которой не было Ивану никого, – с льняными волосами, собранными в «дурочкин» султан, с цыплячьими ногами и руками-спичками, она на дление кратчайшее завороженно замерла, удерживая обруч хулахупа на костлявых бедрах и испытующе, прожорливо таращась в объектив… Иван смотрел, не узнавал, не верил, что эта – та же самая, которая… но вот уже мать шла навстречу, двадцатилетняя, с высокой белокурой «бабеттой», в полупальто, с облитыми сапожным глянцем икрами, по первому снежку, приветливо-шутовски вскинув руку в длиннющей кожаной перчатке и, кажется, играя пальцами в прозрачном и студеном воздухе; на мягких, выпуклых губах остерегалась проступить сильнее улыбка любования собой, на скулах – яблочный румянец.
Жестокой нежностью переполняя, проявлялись жемчужно-серые прекрасные исчезнувшие лица супружеской четы: он – в генеральском полушубке и папахе, она – в пальто с чудовищно живой чернобуркой; дед, с угловатой челюстью, скуластый, весь воплощение мощи и достоинства, но в то же время будто и слегка испуганный и неуклюжий; рельефно-резкие черты застыли на своих местах и без приказа вряд ли сдвинутся, как будто каждая морщина, линия и складка – граница между дедовской личностью и миром. Покойная же бабка Анна, Нюша, такая хрупкая и маленькая рядом с мужем, вообще казалась существом нездешним, не знающим себе подобия в человечьем мире и бесконечно отрешенным от него; с точеным алебастровым лицом, со злым изгибом угольных бровей, с миндалевидными жестокими глазами, была похожа бабка на золотую птицу феникс, что наводила в старом фильме морок на Садко своим певучим, ледяным, неодолимо зачаровывающим голосом. Иван ее не помнил, как не помнят прикосновений и тепла всех рук, через которые проходишь в бессознательном младенчестве.
6Дом нашего отца стоит у Трех вокзалов, иду на насыпь – слушать проносящиеся мимо поезда. Смотрю на стылые сияющие рельсы, на шпалы в инее, выхаживая взглядом сложно сплетенную структуру обледенелых проводов, которые расходятся и снова собираются за много километров отсюда воедино; несметь пересечений, связок, перемычек, горизонтальных, вертикальных… отягощенная гирляндами бутылочного толстого стекла, сеть начинает петь, вибрировать, звенеть при приближении электрического поезда – почти неуловимый тонкий звон, идущий из непредставимой дали, заснеженной, простуженной, пустой, не могущей родить, казалось бы, ни звука.
– Стоять – бояться! – вдруг кто-то рявкает мне в ухо. – Камлаев, почему не в школе? – Передо мной предстает с глумливой мордой Пашка Фальконет – в красивом желтом клетчатом пальто с погончиками, хлястиком, кокеткой, как у взрослого, в таких же черной кроличьей ушанке и серых валенках, как у меня; у Фальконета морда вообще всегда такая, как будто он в кармане держит кукиш, и плутоватые глаза все время ищут, чем бы поживиться.
– Пришел-таки, – я говорю, – не обманул.
– Да вот все думал, думал, – говорит. – Такая холодрыга – лучше в школу. Пришел, поскольку слово как-никак. Слышь, Эдисон, а может, ну его сегодня?
– Ну начинается. – Я говорю с презрением. – Давай-ка не сегодня, холодрыга. Не ссы, не замерзнешь – в вагонах тепло.
– Пока пройдут все наши, мы до мозгов костей продрогнем. И что они все на платформу лезут? И Салтычиха со своим хромым, и Ковалевы с Гинзбургами, все. Вот так бы сели и поехали давно. Нет, стой и жди, пока все рассосутся. Давай-ка ткнем пока… – Зубами сдернув варежку, он роется в портфеле, достает и разворачивает карту столицы нашей родины и области: зрачок Кремля, кривая вздувшаяся вена извилистой реки, вихляющие – будто все время спотыкался циркуль, мелко дробя по кочкам, вмятинам ландшафта – границы мелко-жильчатых, рябых Бульварного, Садового, а дальше, вширь – лоскутья укрупняются, Москва жиреет, прибавляет в рыхлой массе, пестрит прорехами промзон, заплатами огромных лесопарков… чем дальше от центра, тем больше прорех, белых пятен… ну вроде как средневековые картографы, довольно быстро выйдя за пределы ведомого мира, детально прорисованной Европки, не знают, чем заполнить дальше пустоту седого океана, разве мифическим зверьем и розами ветров, разросшимися пышно на полкарты… вот так и нам сейчас мерещатся в зияниях нарвалы, киты, левиафаны неведомых складов, товарных станций, электромеханических заводов, запретных, засекреченных; глаза наши блуждают, потом взгляд начинает двигаться по схематично-полосатым веткам-ручейкам – как будто кто-то расколол у наших Трех вокзалов кувшин или бутылку, чтоб дать всем напиться железнодорожной воды – трудягам, дачникам, бездельникам, бродягам, бежавшим из колоний среднего и высшего режима, из тюрем государственного плана и надзора за выполнением государственного плана. Вслепую тычет пальцем Пашка в зеленя:
– Ну, что там сегодня у нас? Опалиха… Подпалиха. Пойдет?
– Пойдет, – говорю я. – Пойдем.
– Не рано? А вдруг нарвемся на кого?
– Ну и чего нарвемся? Мы мало ли куда и по каким семейным обстоятельствам.
– Ага, я, может, вообще на похороны.
Мы ржем: когда на утро следующего дня Амалия Сергеевна нас спрашивает: вы почему вчера отсутствовали в школе? – то Фальконет обыкновенно отвечает: он был на похоронах, точка. Не подкопаешься, даже с родителями связываться неудобно: у вас что, в самом деле похороны были? Опять? Кто умер? Чего-то зачастили у вас родные престарелые на кладбище. Тут надо молча склонить голову пред скорбной вестью и невосполнимой потерей. Беда одна: все родичи, которых можно было бы вот так похоронить, у Фальконета уже кончились давно. Вообще до жути неправдоподобная картина получается – покойники, родня идут на кладбище фабрично-заводским потоком, лососьим косяком… какая-то прям моровая язва в пределах одного отдельно взятого и страшно многочисленного рода. «Пора придумать что-то новое», – я говорю ему.
На площади у Трех вокзалов нас накрывает мощной шумовой волной; Москва глотает нас студеным, хватающим за горло простором многолюдной площади, бьет в перепонки, в грудь ревущими сороковыми своего дорожного движения; четырехрядным, восьмирядным, Гольфстримовым потоком идут заиндевелые машины, обросшие седыми космами крутящегося дыма; со всех сторон нас обступают люди, которых мы раньше не видели и больше не увидим никогда, – сосредоточенные, целеустремленные, ответственно-сознательные люди моей давно проснувшейся страны, они идут встать у мартеновских печей или с указкой у доски, чтоб путешествовать стеклянным острием по красно-синим вензелям системы кровообращения, чтоб выплавлять чугун и сталь на душу населения вполне, и мы разглядываем поднятые их воротники, ушанки, шубы, драповые плечи, пуховые и шерстяные верхние платки… мы поднимаемся на промороженную, белую под плотным слоем спрессовавшегося снега бетонную платформу – ни Салтычихи нет, ни Ковалевых. Косматый белый пар дыхания и речи клубится у прекрасных лиц людей моей страны; мы не идем к окошку пригородных касс; билет, конечно, стоит тридцать пять копеек, но можно ехать так. Конечно, могут быть и ревизоры – и что? поймают и отпустят, охота им возиться с нами.
Мы смотрим, как обходчик в высоких валенках и желтом овечьем полушубке идет вдоль длинного товарного состава, бьет молотками по колесам, смотрит в буксы, и думаем, как долго ему еще плестись вдоль длинных коричневых вагонов, вдоль пломбированных дверей, исписанных меловой цифровой и буквенной абракадаброй.
Взметая, взвешивая, бешено крутя колючую серебряную пыль, кряхтя и содрогаясь всеми сочленениями от морды до хвоста, скрипя рессорами, подходит к замерзающей платформе электричка – заиндевелая, в заледеневших потеках на боках, с игольчатыми звездами и пальмовыми листьями на стеклах, и будто мы войдем сейчас в автоматические двери и в белом ледяном сияющем очутимся полутропическом, полу-Таврическом саду. Но вместе со старухами и бабами в крестьянских клетчатых платках, с румяными плечистыми студентами, морозносвежими студентками в рейтузах мы входим в жаркое стоячее тепло занять пустующую лавку; вокруг нас смех, постукивают лыжами и жесткими ботинками, в проходе на какие-то минуты становится темно и тесно от этих лыж и от громоздких рюкзаков… соревнование у них, что ли, какое-то межинститутское сегодня, и я украдкой посматриваю сзади на ноги взрослых девушек, обтянутые темной трикотажной кожурой, и Фальконет посматривает тоже своим художническим глазом.
У многих красивые гладкие лица, светящиеся матово, – почти как у красавиц с рекламного плаката… ну, знаете таких рисованных и сплошь желтоволосых девушек, которые, сверкая сахарной пастью, советуют питаться консервированным горошком… так вот, я, в общем-то, не прочь жениться на такой, ну, на одной из них. Но вот беда: их много, разных и красивых, а я один, придется выбирать одну и, значит, постоянно жалеть об остальных, которые проходят мимо с кем-то – не с тобой. Даже если жена будет очень красивой, то чувство сожаления об остальных останется, черт его знает, почему так. Я, наверное, хотел бы жениться на всех – поочередно или сразу… сразу нельзя – не в Оттоманской Порте, а вот поочередно… родной отец, к примеру, Фальконета женат четырежды, а отчим – трижды.
Запев колесами и содрогнувшись, наш поезд трогается – чтобы сперва с кряхтением поползти, поплыть из города, потом рвануть с истошным свистом мощного электровоза и полететь, размахивая белым танцующим полотнищем зимы и сыпля колкой серебряной пылью в глаза всем семафорам. Мы оставляем позади сановные высотки и нашу школу среднего режима, и я, простроченный железным битом поезда, надолго прекращаю набирать себе гарем.
7Мне нравится порядок… нет, нет, не послушание, не пионерская линейка, не дисциплина, не военный строй – другой порядок, более высокий. Неукоснительный порядок в расписании поездов – сперва я думаю о нем: что все здесь ни секундой раньше и ни секундой позже, и даже если двое на перроне прощаются навеки, то поезд не станет их ждать – жестокая машина, не имеющая общего со слабой правдой человеческих существ, и машинист свистком, как бритвой, ударит по живому двух сросшихся таких сиамских близнецов, поэтому и столько тихой грусти на вокзалах, так тайно горек воздух над перронами – прозрачный монолит печали… порядок беспощаден к беременным будущим летом, к мужьям, которые уйдут и не вернутся. Ничто не остановит, не удержит летящую грохочущую силу, вот разве что крушение товарняка, оплошность пьяного обходчика, забывшего сменить костыль. Потом я начинаю думать о строгих, раз и навсегда отмеренных, одних и тех же расстояниях между стыками и между, соответственно, ударами колес… о строгих, раз и навсегда отмеренных высотах кованого звука: любой удар, любой поющий, ноющий, визгливый отголосок, любое содрогание полуразвинченного будто во всех своих суставах поезда имеет свое время рождения и смерти, и тембр впечатан в каждый тяжелозвонкий или плачущий аккорд как будто заводским клеймом.
Я думаю о числах, при помощи которых можно сосчитать любое расстояние и привести все интервалы и высоты к таким же общим строгости и чистоте, какие открываются в структуре снежного кристалла.
– …и знаешь, что она такая? И знаешь, что она такая? – орет мне в ухо Фальконет и тычет локтем в бок. – Ты, дубельт, про тебя же говорю!
– Ну и чего она такая?
– «Ну и чыго она тыкая»… Того, головка хуя моего. Не буду ничего тебе рассказывать.
– Рассказывай-рассказывай, – говорю я. – Это я так, задумался. Ну, Становая, – говорю, – чего? Послушай, Фальконет, хорэ изображать тут тайны мадридского двора.
– Ну вот, и тут она такая: у нас, конечно, пацаны все мировые, говорит, но Эдисон вообще-то лучше всех. Ты понял? Нет, ты понял? Открыл глаза на отношение к тебе?
Я, если честно, не сказать, что потрясен. И сердце не разбухло, заполнив весь объем груди. Так, дернулось, скакнуло.
– Ты, Фальконет, – говорю я, – за что купил, за то и продаешь.
– Камлайка, зуб даю – вот это и сказала. Источник надежный… Источник пожелал остаться неизвестным.
– Я сам не слышал, – говорю, – но слышал, как другие слышали, понятно. Этот стон у нас песней зовется.
Ну и чего? – сам думаю. – Ну, я. А кто еще, если не я-то, а? Что, Боклин жирный? Володька Инжуватов с изрытой фурункулами харей? Или вон, может, Ленька Безъязычный, второгодник, с ручищами-оглоблями и лошадиной мордой? Тщедушный, шепелявый Арцыбашев? Басыгин? Берман? Сопливый красноносый клоун Верченко, который объявил вчера, что хочет быть похожим на одноногого Мересьева – класс громыхнул и завизжал, затявкал… специально, что ли, он, для смеха это говорит? Голдовский и Горяйнов, очкастые энтузиасты технических наук, с пеленок чахнущие над своими пыльными транзисторами? Ну, кто еще? Подайте мне достойного соперника.
– Дай слово, – шепчет Фальконет, как бабка в церкви, – что не растреплешь никому.
– Могила, – говорю. – Услышано и похоронено.
– Мне Сонечка Рашевская вот это рассказала лично.
– А что это она к тебе с таким доверием?
– А то, что со вчерашнего у нас с ней тайн нет друг от друга никаких, – Фальконет объявляет с какой-то особенной мрачной гордостью.
– Чего? – Вот тут уж я действительно ошеломлен. – Чего хоть было-то?
– Того. Пойдем, мож, в тамбур, а? Курнем.
Встаем, выходим на площадку – резкий запах железа ударяет нам в нос, колеса под площадкой грохочут так, как будто кто-то лупит огромной кувалдой в днище. Все стекла в ледяных иголках, стены закуржавели. Я достаю из-за подпоротой подкладки пачку «Шипки», а Фальконет – обчирканный с одного бока коробок; полоска серы содрана почти, зато на оборотной стороне оставлена шершаво-плотной, «целячьей». Мы курим «Шипку», «Друг» или «Дукат», а наш с Мартышкой отец все время – ленинградский «Беломор» Урицкого и иногда – «Герцеговину Флор» московской «Явы» в красивой черной, с золотыми буквами коробке.
– Ну и чего… – дав прикурить и затянувшись сам с преувеличенной взрослой небрежностью, неспешно, с расстановкой начинает Фальконет. – Вчера в кино ходили.
– А Славка Васнецов где был?
– А сплыл, динамо ему Сонька. Ему по телефону – что болеет, там сопли у нее, температура, ну а сама со мной. Я к ней домой зашел. Ну как? Как бы за книжкой, за «Таинственным островом».
– Ты что, не читал?
– Сто лет читал, тогда, когда и ты. Но я же ей могу сказать, что не читал? Ну, прокрутил, включил свой счетчик Гейгера? Ну вот, она сказала, заходи. Ну вот, я книжку взял такой и говорю: пойдем в кино, птифур полопаем, не хочешь? Ну, она там сперва, конечно, загнусавила, ну, больше для порядка, понимаешь? Ну все, пошли, но дело-то не в этом, а в том, что было после. Гуляем, холодно, замерзли, как цуцики, оба… ну, мне-то что, а вот она действительно замерзла, на руки постоянно дышит сквозь перчатки. Ну и чего?.. ты дворницкую в третьем доме знаешь… пойдем погреемся, такой ей говорю. Там печка, там тепло, Рустам нас пустит, я ж с ним корешусь.
– Иди ты! – говорю. Поверить не могу, чтоб Сонечка Рашевская, такая вся блюдущая себя чистюля, так согласилась запросто бы обжиматься с Фальконетом на рваном дерматиновом диване с повылезшим наружу сквозь прорехи поролоновым нутром.
– Ну и чего – я такой варежки снимаю, беру ее за руки и раз к себе такой в подмышки под пальто. Она не отнимает… Сидим такие перед печкой, за руки держимся, и тут она ко мне такая вдруг как прижмется вся – я аж весь камнем изнутри покрылся. Ну я полез к ней дальше, а страшно самому, как током бьет, а Сонька вся горячая под платьем, наверное, горячей, чем печка…
– Ну, дальше что? – дышать мне тяжело становится.
– Да ничего, – он сознается. – Она в мою руку вцепилась… ну, там, под рейтузами… вот как клещами мне, не надо, говорит, и все, я дальше никуда. Короче, брат Камлайка, после этого я все дословно и узнал про отношение Становой к тебе. Мне Сонька все как на духу.
Секунду или две смотрю на Фальконета, так, будто раньше никогда его не видел. Скажу вам честно, у меня такого не было, так далеко я не продвинулся. Ну, положить там руку на плечо или впихнуть ладонь в подмышку под протестующее шиканье «дурак ненормальный, пусти!». Ну, было с Людкой Становой: ну, захожу такой на перемене в класс, чтобы достать полпачки «Шипки», которую мы с Фальконетом запрятали под подоконником, ну, за чугунной гармонью отопления, и тут такая Становая откуда ни возьмись. Я говорю: «Ты, Людка, что?» – а у нее вся морда полыхает до самых покрасневших мочек… ко мне как подбежит, как вцепится обеими руками в оба уха и ну вертеть моей башкой, как рулем. «Я, – говорит, – тебе, Камлаев, покажу». Чего она такого мне покажет? Она, конечно, с прибабахом, мягко говоря. То вдруг в упор не замечает, то вдруг на физкультуре сядет мне на спину и ржет: чего, кишка отжаться не слаба? Ну, не слаба, ведь в тебе вес бараний, Становая… Она все время будто бы танцует, вот даже когда не танцует, танцует – когда идет тебе навстречу, да, лупя портфелем по коленкам, когда садится рядом, чтобы скатать твою домашнюю работу под копирку, и это так, как будто ты летишь со снежной кручи… вообще-то, мне не нравится, когда девчонки проявляют инициативу, их дело – ждать, жеманничать и скромно потуплять глаза, пока ты к ним не подойдешь, чтобы позвать куда-нибудь с собой, но только это не про Людку, она вообще на всех бросается, как кошка на добычу: и пикнуть не успеешь, как во все стороны растрепанные перья полетят.
Дышу на стекло, протираю в снежном наждачном напылении цепляющейся варежкой дыру: белый пейзаж несется в ней с безмолвным бешенством, деревья, не давая оценить чеканку, ковань, филигрань, проскакивают мимо; порой проносятся заснеженные деревянные платформы, и на платформах попадаются фанерные буфеты, покрашенные в бледно-голубое; железная машина электрички, отстукивая ритм, грохочет полным ходом. Какой я, для чего я, – думаю. Вон с Фальконетом все понятно, он рисовальщик, это у него наследственное, как будто прямо из утробы вылез с карандашом в руке. Отец у Фальконета всю жизнь рисует жутко достоверные, мучительно смешные картинки к «Крокодилу»: козлобородые американские капиталисты и поджигатели войны в цилиндрах и долгополых сюртуках и еще более противные зеленомордые вредители с щетинистыми черными щеками и крючковатыми носами – такая мразь, что дрожь до пяток пробирает, особенно при взгляде на их руки с погано скрюченными пальцами, которые подносят спичку к бикфордову шнуру, витками уходящему под стену нашего завода.
А я? Что я? Отец, конечно, был бы рад, если бы я накинулся на медицинские энциклопедии и хирургические атласы, которых полон дом… ну да, там вправду есть на что с волнением и даже с кровяным упругим гулом посмотреть – на голых баб с эмалевыми розовыми ляжками и толстыми высокими грудями, не говоря уже о розовом ущелье, скрытом между ног, – глядишь и не поймешь, то ли восторг объял, то ли, напротив, мерзость закружила голову… но кроме путешествий по влагалищным глубинам меня там ничего особенно не привлекло… биологичка наша, Клизма, в ужасе: как может быть, чтоб у такого знаменитого отца, светила, был такой сын-дебил?..
Зато меня математичка любит: мне, знаете ли, нравится порой расшатывать математические крепости, срывать до основания, последней краткой строчки х=. Ну то есть не эти даже крепостицы, а посложнее, для абитуриентов, так, что порой даже чувствуешь свою беспомощность от своевольного, непредсказуемого поведения чисел, которые то разрастаются в похожего на исполинскую сороконожку монстра, то погружаются в иное бытие какой-нибудь минусовой дичайшей степени; мне нравится их подвергать жестоким изощренным издевательствам – четвертовать, дробить, ссылать по ту, минусовую, сторону нуля…
А с музыкальной школой что? Все мать. Я полагаю, ради матери меня бы взяли в эту школу и без слуха; два седовласых старика и тетя Ира как будто помогали мне все время лучисто-восхищенными гримасами, и выражения их физиономий казались мне до жути противоестественными, по ним я понял вмиг, что все, конец всему, оловянным солдатам и матросам в бою, щелчкам буллитов, первой тройке нападения, тяжелой клюшке из слоеной древесины… почти не помню, как держал экзамен и что там было, да, настолько я сосредоточился на предстоящем погребении заживо; два седовласых упыря и тетя Ира согласными кивками приколачивали меня к трехногому залакированному гробу – кандальником перебирать одну и ту же гамму, покуда не добьешься должной четкости туше, – и где-то на краю сознания моего, за снежными горами скучной музыкальной вечности звенели, чиркали коньки по мутно-матовому льду и кто-то без меня, не я, другой бил по резиновому кругляшу с подцепом, с места, без замаха.








