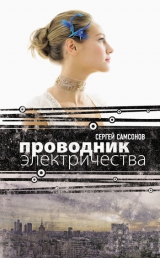
Текст книги "Проводник электричества"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
– Так это… они вроде как танцовщицы. Наверное, даже и балетные.
– Отлично, парень, ты не безнадежен. Поздравляю, ты сделал важный эволюционный шаг, можно сказать, скачок в своем замедленном развитии. Не стриптизерши, не модели, а с малых лет тянули ногу у балетного станка. Теперь ты знаешь, что им вмазать промеж глаз, ты распорол их вдоль, до паха и можешь зацепить теперь за жабры. Теперь иди и пригласи их за наш столик. Сейчас, сейчас, Иван, или они уйдут, они и так торчат там битый час, так что в твоем распоряжении минута. Все, у тебя экзамен, парень, «или-или», крещение боем, понял? Иди зови или упустишь этих девок навсегда.
– Да ну… да как я позову? – Иван налился знакомой отупляющей немощью.
– Сними штаны и покрути над головой. Они нас поедом едят, по-моему, ты им понравился.
– Что я скажу?
– «Подайте Христа ради». Ты идиот, скажи? Сегодня вечер пятницы, они пришли сюда как следует убраться своим излюбленным лонг-дринком, поговорить друг с дружкой о модах, о фасонах, о мальчиках, подружках, о том, как вырваться в солистки из кордебалета. Им нравится вот это место, да, но тут все занято… поэтому подходишь, говоришь: послушайте, мы с дядькой уже уходим, переходите потихоньку за наш столик, он будет ваш, мы свалим, вы останетесь, и все.
– И мы типа не свалим?
– Да, именно, Иван, мы типа все останемся. Ты просто хочешь им помочь, оказать небольшую услугу, которая их ни к чему не обязывает… Твою мамашу за ногу! Ну, все, они уходят, ты их упустил, поздравляю. Э! Э! – Он заорал: – Лопаткина! Надежда русского балета! Сильфида! Айседора! Будь так добра, минутку подожди! Иди, иди сюда. – Камлаев со своей всегдашне-непроницаемой мордой, с насмешливым и безнадежным взглядом, одновременно плутовским и безразличным, нетерпеливым дирижерским жестом подзывал к себе одну, ту, что обернулась на окрик… в Иване все оборвалось: кудрявая, с отливом в рыжину, блондинка с рельефными чертами африкански-свирепого лица уже шла к ним, возвысилась, предстала, опалила, выдерживая взгляд, играя в «кто первым отведет», смотрела испытующе и как бы сострадательно, кривя немного рот от жалости к вот этому полуседому наглому сатиру; вторая – тонкая, темноволосая, с турчанским носиком, с персидскими большущими глазами – мгновенно тоже замерла на полдороге, с кошачьей жадностью выглядывая из-за плеча товарки и почему-то останавливаясь дольше на Иване с какой-то веселой озадаченностью, с какой-то жестокой любопытной жалостью.
– Я тут подумал, – сказал Камлаев, – мы все равно сейчас уходим. Садитесь – мы оставим это место вам. Зачем нарушать изначальные планы на вечер?
– Какая щедрость! – протянула блондинка с издевкой.
– Так вы садитесь или нет?
– И вы такие тут внезапно передумаете? Решите посидеть еще?
– Вполне возможно, – на голубом глазу сознался Эдисон. – Тот вариант, что нам захочется внезапно с вами выпить, конечно же, не исключен. Чего нам врать? Не скрою: когда девушка уничтожает на моих глазах какой-нибудь чизкейк – это одно из самых интересных зрелищ в этой жизни. Не думаю, что нам с Иваном захочется такое пропустить.
– Не думаю, что нам вас этим захочется порадовать.
– Перевожу на русский, парень: если б она хотела нас с тобой отшить, она сказала бы: здесь не столовка, дядя, а я не поросенок, чтоб жрать с тобой из одной кормушки. Но вместо этого она вступила с нами в препирательства и предоставила себя уламывать.
– Пожалуй, мы, наверное, все-таки пойдем.
– Ну-ну, шерсть дыбом, понимаю. Тебе идет вот это выражение, мне нравится. Разгневанность, да? Послушай, перед тем как вы уйдете, вы для начала, может быть, поможете нам разрешить возникший между нами спор? Вот мы смотрели всё на вас, смотрели и заспорили. Иван считает, что вы обе – балерины. А я считаю, нет, мне кажется, что вы танцовщицы в «Нижинском». Так кто из нас прав, расскажи.
– Одно другому не мешает. А как вы вообще узнали?
– Смеешься? У нас с Иваном, вообще-то, есть глаза. Узкая кость, графичный силуэт. Хотя мне кажется, что ты, скорее, тяготеешь к какой-то сложной акробатике, ты мускулистая. Как раз для башенного подиума, да?
– Ну ты даешь! – Блондинка выдохнула как бы возмущенно и, просияв, как будто обессилев от такого потрясения, манерно обвалилась на диван рядом с подземно, тектонически затрясшимся Иваном. – Иди сюда, ты слышала?
– И так далее, и так далее, все очень просто, – пояснил Ивану Эдисон украдкой. – Мели, Емеля, – твоя неделя… Ну здравствуй, детка, – приветствовал с преувеличенным он восхищением вторую, которая, дичась, с сомнением подступала к ним – как будто кончиком ноги сначала пробуя неведомую воду… Ивана то и дело трогая, царапая проворным жестким взглядом, как кошка сильной лапой клубок.
– Ну здравствуй, папочка.
3Ивану казалось мгновениями, что произволом Эдисона и силами вот этих девушек поставлен издевательский спектакль, и он, Иван, в нем – испытуемый и жертва, единственный, кто принимает эту открытость, приглашающую ласку в сияющих глазах за чистую монету, но с каждой минутой близится финал, когда все снимут эти ласково-участливые маски и бессердечно отчужденно расхохочутся. Но эта вот, вторая, с таким живым и честным любопытством смотрела на него, с таким каким-то людоедским аппетитом, что это начисто убило в нем привычную готовность наглухо замкнуться и показать врагу насупленные брови, упрямо сомкнутые губы и прочие ежиные колючки.
– Итак, его, как я уже сказал, зовут Иван, меня родители назвали Эдисоном и на том спасибо.
– Когда-то было модно в честь изобретателей. Это ты такой, папочка, старый?
– Ну, Сталина не видел, но Хрущева застал молодым.
– Я – Маша, это – Джемма. – Девчонка, что играла с Иваном, как с клубком, кивнула на блондинку, которая по-прежнему держалась не то чтоб отчужденно, строго, церемонно, но именно серьезно, почти что без улыбки, со значением «так запросто меня не купишь».
– Ну, значит, мы сели неправильно, – сказал Эдисон. – Мы с нею по идее образуем фракцию собачьих кличек, с девизом «наши предки типа выпендрились», а вы, Иван да Марья, – фракцию простонародья, класс крепостных крестьян… что, скажете, не так?
– Да нет, нормально сели, – вытолкнул Иван.
– Ну да, конечно, – хмыкнул дядька, – бедром к бедру лица не увидать. А так вы с Машей постоянно можете играть в гляделки. Смотри, Ордынский, все по-твоему выходит.
– Ну все, теперь нам всем завидуют, – сказал Маша с плутоватой гримасой, – те, кто у барной стойки. Как мы – раз-раз, и сели. – И вдруг вгляделась в Эдисона с Иваном подозрительно-насмешливо. – Ну и видок у вас вообще-то. Вы вместе очень странно смотритесь.
– А что тебя так напрягает?
– Ну, кое-кто кое-кому почти в отцы годится. Да и вообще вы слишком разные. Ты, папочка, такой прожженный, а Иван… стоп-стоп, мне кажется, я поняла. По-моему, кое-кто тут учит коего-кого знакомиться с девчонками… ну как? Я угадала?
– Зришь в корень, детка, что-то в этом роде.
– Отец выводит сына на охоту? – округлила бестия глаза.
– А что? Такого не бывает?
– Ну да, вы чем-то вправду похожи друг на друга.
– Ну, он мой дядя, – сознался Иван.
– Ну что, мы, может, выпьем что-нибудь? – проворчал Эдисон. – Мохиты-маргариты, чай-кофе там, горячий шоколад.
– Пожалуй, розовый «Мартини».
– Ты, может быть, еще и сигаретку попросишь у меня? Не надо тебе, Марья, разочаровывать Ивана, он – убежденный сторонник здорового образа жизни… Ну что, поскольку мои знания в области балета уже исчерпаны, тогда вы, может быть, расскажете нам что-то интересное?
– Что именно бы ты хотел услышать?
– Ну, расскажите нам о каторжном труде, об опыте преодоления, о жертвах во имя искусства. Скажи мне, это правда, что нет несчастья большего, чем если ты к тринадцати годкам обзаведешься грудью и округлишься в бедрах, то есть станешь, собственно, похожей на женщину? Что, надо, чтобы косточки торчали? Всех жирномясых что, и вправду вышибают пинком под зад и не дают дожить до выпускного? Ну, судя по вашей теперешней тонкости, великая чистка рубежного пятого класса обеих не коснулась совершенно.
– Это он так вот ничего не знает, – сказала Джемма с ложно-негодующей усмешкой.
– Сейчас вы нам все расскажете, детки, – свирепо завращал глазами Эдисон. – Колитесь давайте, как кто проходил контрольное взвешивание. Что, наедались за день до весов фуросемида и каждые пятнадцать минут бегали в сортир? Ходили с синяками под глазами, зато два с половиной килограмма минус.
– Да ну, у нас такого не было – зачем? Мне лично вообще не надо, – напыщенно-самодовольно заявила Маша. – Я хоть быка могу, хоть весь «Макдоналдс», и хоть бы мне хны. Зато вот Джемма… – взглянула на товарку плутовато: «ну, рассказывать?». Та передернула плечами. – Она у нас сидела чисто на твердом сыре и сухом вине и из-за этого всегда была такой веселой… ну и короче, да, такая приходит на экзамен – лай-ла-а-а!..
– Ну, ничего, подобная раскованность ей, полагаю, только пригодилась.
– Нет, стоп, откуда, папочка, ты все-таки столько знаешь?
– Женат был на вашей сестре, – сознался Эдисон.
– Да ну?! На ком? Мы знаем?
– Ну, на Беате, было дело.
– Ни хуяссе себе! – Теперь она таращилась на Эдисона уже в каком-то суеверном ужасе. – Ой-ой, простите. Да-а, попали мы с тобой, подружка. А расскажите… ой!.. это вы как же с ней, когда?
– В период между генералом Семипятницким и космонавтом Ивановым.
– И что, и что?
– Она меня бессовестно использовала, детка, для сгонки лишних килограммов.
– Фу! Ты был женат неоднократно, папочка? – спросила Маша сострадательно.
– Да у него от штампов в паспорте живого места нет, не видно, что ли? – сказала Джемма.
– У меня, – подтвердил Эдисон, – внутри такой вкладыш, и вот когда ты, значит, паспорт раскрываешь, оттуда такая гармошка до пола раскладывается, ну, где-то метра, думаю, на полтора.
– По-моему, у таких мужчин, – сказала Джемма, – тоже не все в порядке, мягко говоря.
– Ну ладно, теперь колитесь вы, – тут спохватилась Маша. – Раздели нас, как липку, а что сами? Ну, папочка, кто ты? Блин, стоп, по-моему, я знаю… знакомое лицо. По ящику, канал «Культура». Да он же этот, блин… – потешно шлепнула она себя ладошкой по лбу, – Камлаев, Эдисон Камлаев, ну типа Шнитке, да, почти такой же знаменитый.
Камлаев фыркнул, поперхнулся.
– А ты, Иван, чем занимаешься? – И бестия впилась в Ивана с такой несгибаемой уверенностью в том, что он, Иван, не может заниматься чем-то пустым и скучно-заурядным, с таким уже как бы готовым серьезным уважением, что у Ивана в горле кляпом встала немота: уверен был, что после разоблачения Эдисона никто о нем ни разу больше и не вспомнит… о нем и раньше-то не очень вспоминали, а теперь… теперь и вовсе примагнититься должны были навечно к великому дядьке. – По-моему, ты тоже музыкант.
– Вот тут промашка, детка, – сказал Камлаев. – Совсем не угадала. Иван хотел бы стать врачом. Причем нейрохирургом, ведь ковыряться в человеческих мозгах гораздо интереснее, чем в коленных суставах или там мочевых пузырях. Ну нормальная такая мечта для еврейского мальчика.
– Так ты еврей, Иван? Еврей Иван, – расхохоталась Джемма.
– Какой аспект еврейства тебя интересует, Джемма? – Опять Камлаев начал свою песню. – Обрезан ли чувак и что это дает тебе при близком знакомстве?
– Нет, погодите-погодите, – воспротивилась бестия. – Мне вот что интересно: ты окончательно уже определился… ну то есть ты не боишься, что тебе придется резать трупы?
– Вопрос неправильный, – сказал Камлаев. – Иван не то что не боится – он уже… он не какой-то там сопляк-романтик. Он с ранних лет поставил перед собой конкретную задачу и начал с самого противного, как раз с того, что кажется тебе невыносимым, то есть с морга. Его мать, тоже врач, устроила его работать помощником прозектора в одной из мюнхенских клиник, – Камлаева несло, – и он вскрывал брюшины, вот этими руками вынимал из трупов внутренности, потом запихивал назад и зашивал. Он должен был проверить себя на прочность, детка, ты права.
– Охренеть!
– Я тоже так думаю, – авторитетно подтвердил Эдисон.
– А в чем ты видишь смысл, Иван… ну, смысл работы врачом?
Что-то тупое, крепкое довольно болезненно ткнулось Ивану в колено: это Камлаев двинул его ногой под столом – не тормози, чувак, твой выход, я задолбался распинаться за тебя, дай мне передохнуть, не то язык сейчас уже отвалится.
– Ну, тут, – он начал жалко, жалобно гнусавить, – по-моему, все довольно просто. Смысл в том, чтобы внести свой вклад в победу над смертью. Да нет, не в том смысле, что все мы, здесь сидящие, когда-нибудь – того, и нужно сделать так, чтобы этого когда-нибудь не стало вообще… однажды повернуть биологическое время вспять и все такое прочее. Тут дело в другом… когда-то люди умирали от всего – от мочекаменной болезни, от оспы, от холеры, от самых примитивных инфекций, скажем, верхних дыхательных путей… вот тупо застудившись ночью в поле или выпив стакан холодного кваса. Вот просто нечаянно порезавшись бритвой. Цари и императоры были гораздо беззащитнее перед лицом таких болезней, чем сегодня – простой рабочий или фермер, живущий в глуши. Вот от чего, к примеру, умер Петр Первый?.. – Ивану больше не было до глухоты, до зуда в переносице неловко, до жаркого прилива крови к пунцовеющим ушам; куда-то делись неуклюжесть, робость, всегдашнее его косноязычие.
– По-моему, от гонореи, нет? – сказал Камлаев.
– Вот именно, – мгновенно подхватил в запале Иван. – Допустим, что от гонореи, от которой сегодня может вылечить любой обыкновенный уролог или венеролог, а там были лучшие лекари, царские, со всех концов света, и они ничего не могли. Наука, медицина огромными шагами движется вперед, и что еще вчера казалось человечеству немыслимым, теперь обычная клиническая практика, унылые будни десятков, сотен тысяч обыкновенных участковых терапевтов. Хирург Пирогов распиливает сотни трупов, чтобы создать топографическую анатомию, теперь мы расшифровываем коды ДНК, определяем пол ребенка еще в утробе матери, и это при том, что какое-то столетие назад каждый пятый ребенок в Европе умирал, не дожив до двенадцати лет… короче, медицина многого достигла, но в том и дело, что все эти достижения в масштабе целого – всего лишь жалкая, миллиметровая дистанция, которую сумела проползти амеба медицинского прогресса… короче, основная работа еще только предстоит… сложнейшие болезни остаются неизученными, у нас нет инструментов, чтобы с ними справиться. А сумма наших знаний о мозговой активности по-прежнему сравнима с представлением ребенка о полете… ну типа он не знает, как и отчего летает самолет. Еще античные врачи умели здорово латать пробоины в человеческом черепе, но вот вмешаться в ход глубинных, центровых процессов и современные врачи не в состоянии зачастую, и человек поэтому теряет зрение, память, слух, дар речи и координацию движений, вообще не может двигаться и превращается в растение, не сознавая сам себя вот в этом промежутке бессмысленной, мучительной не-жизни, поэтому я полагаю, с этим нужно что-то делать. Неясно, сколько лет уйдет на это, пятнадцать, двадцать, сто, но каждый может сделать свой посильный вклад в то, чтобы человек страдал поменьше.
Иван закончил, выдохся, и все молчали… не сказать, чтоб потрясенно… во всяком случае, дядька Эдисон уж точно не услышал ничего оригинального, но вот у девушек на лицах рассеянно мерцало выражение глуповатого и сострадательного изумления – взгляд, обращенный внутрь, как будто они слепо прислушивались к смутному чему-то в глубине, как будто они обе с трудом припоминали что-то… и глуповато-изумленные их лица теперь ему, Ордынскому, казались красивыми, как никогда; Камлаев был доволен тоже сделанным эффектом, украдкой, почти неуловимо кивнул Ивану одобрительно: отлично, чувачок, они слегка поплыли, действуй в том же духе.
– Ты молодец, Иван, – сказал Маша наконец-то странным сочетанием тонов, какой-то многоголосицей как будто, и невозможно было угадать, расслышать, чего тут больше было, в этой моментальной радуге тембров – от снисходительного поощрения «все у тебя еще, щеночек, впереди» до суеверного почтения, от дружелюбно-ровного тепла до некоей будто бы уже мечтательной примерки к нему, Ивану, именно к нему… что-то такое вдруг мелькнуло у нее в лице – такое выражение, словно она сейчас вдевала нить в иголку, еще не зная, как, пролезет ли, проденется… Черт знает что себе вообразил, что-то творилось у него со слухом и со зрением – душевнобольная готовность какая-то принять полушку дружелюбия за неразменный рубль любовного интереса к себе.
– Итак, бескорыстный подвижник науки, – сказал Эдисон. – А как насчет презренной пользы, нужд низкой жизни, а, дружок? Я понимаю, многого тебе не нужно, но это пока ты один. Вот, скажем, наша Маша – это создание, которое все время будет нужно кормить мармеладом.
– Ну и чего? – Ордынский осмелел. – Я лично бедствовать не собираюсь. Хороший врач, он бедствовать не может. Все это, может быть… ну как?.. самонадеянно звучит…
– То есть загородный дом, спортивный «Мерседес», квартира в центре города… все это прилагается? Нам с Машей хотелось бы знать.
– Уперся папочка, – пропела Маша, – упрямо нас сосватать хочет.
– А ты подумай, детка, ты подумай. По-моему, нужно брать. Или чего, ты все, уже навеки несвободна, а?.. – Иваново сердце отчаянно скакнуло и рухнуло… – мы с Ванькой опоздали к раздаче этих пряников?..
– Ну ты же знаешь, папочка, тебе-то как не знать, что даже если мы и занятые, то все равно как бы свободные.
Иван смотрел в ее лицо и ничего не мог сказать наверняка: какая она с ним сейчас – неуловимо-лицемерная или на самом деле оживленно-добрая, как она смотрит на него… резвится, потешается, жалеет… ну, то есть понятно, как он хотел бы, чтобы она его воспринимала… нет, ничего нельзя было понять по этому прилежному вниманию, возможно, издевательскому, лживому, и по доверчиво приоткрываемым губам; совсем неясно было, что ему, Ивану, светит, сколько ни вглядывайся он в глазное каре-золотое солнце, затменное чернильным, как бы расширенным зрачком. Все было для него, к нему тянулось – непроизвольное движение, готовая неподотчетно проступить улыбка, нечаянно сорвавшееся слово – и в то же время – безо всякого учета его, Иванова, существования, само по себе, само для себя… вот, может, для другого вообще, неведомого мощного счастливого соперника, с которым он, Иван, соотносился как сельский гармонист с солирующей скрипкой Венского оркестра. Но как бы ни было на самом деле, вот эта спрятанная правда не меняла ничего; про самого себя ему все было ясно: вот эта девочка, как будто не принадлежавшая обыкновенной жизни, меняла все, полуподвал, погоду, время суток, улицу… ее неизъяснимо-лживое лицо, которое ему отшибло перепонки, и важным было только это – чувство твоей сбывающейся жизни, рождения на свет не просто так, не зря, то, что она сейчас сидит с тобой рядом и это продолжается и продолжается.
Оперативные мероприятия
1Азбука Морзе, точка и тире, два нужных слова, произнесенных голосом забитой изможденной бабы, – осталось дождаться отморозков Вано.
Она подошла, гражданка Зимородкова Светлана Алексеевна – спортивные штаны и кеды, дутый жилет и свитер с горлом – и двинулась к нему через дорогу с поджатыми губами, серьезная и строгая, будто отличница-зануда перед все решающим экзаменом; колени ноют, да и в животе похолодело.
Рука Нагульнова качнулась, взяла за локоть маленькую, слабую.
– Для конспирации, – ухмыльнувшись, пояснил он.
Она не воспротивилась, будто своей в ней силы больше не было, продела свою руку, зацепилась, и он повел ее через дорогу, через трамвайные пути… как ни крути, а получалось, что оберегая…
Сизо-серый налет дождливо-промозглого дня лежал на всем, дорожное движение происходило в стойкой полумгле, висящая в воздухе морось погано сокращала видимость до соседней скамьи, до ближайшего тополя, до чугунного кружева низкой ограды. Секундная стрелка на белой «Омеге» зашла на пятый круг – коллекторы не шли. Скорее всего, смотрят на них с десяти метров – выжидают. Может, не надо было выставляться самому? Ведь он, Нагульнов, – персонаж засвеченный.
Бригада Вано совсем недавно начала осваивать район, с его ребятами Нагульнов не пересекался, но только мало ли – мало ли шушеры, кочующих обглодков, упырей, которые его способны опознать; подставил бы Игоря и был бы спокоен: его пока что на районе ни одна собака не знает.
– …Отправляла людей в Эмираты, в Египет, а вот сама так толком нигде и не побывала… – ей нужно было говорить, чтоб успокоиться. – Потом появилась возможность заняться новым направлением, кредит, конечно, взяли, и тут накатила налоговая, у каждого можно что-то найти, тем более при желании, не получилось в этот раз договориться, пришлите какие-то новые, перетряхнули все вверх дном, достали левые приходники, ну, в общем, все и закрутилось. – И получалось: жалуется, ищет понимания.
Опять протрусил по дорожке бегун в капюшоне – Самылин, не назначенный Светлане в мужья на час, наматывал круги по скверу, посверкивая белыми кроссовками. Немного вроде развиднелось, сквозь морось, сквозь туман, тухлым желтком стало просвечивать расплывчатое солнце.
– Ну, значит, начали… – заслышав фырканье мотора за спиной, он сжал Светлане напряженное, будто на старте, звонкое предплечье; к ним подползала вдоль ограды забрызганная грязью белая «Газель» с глухой тонировкой стекол, остановилась метрах от них в пяти, мотор не заглушили. А по дорожке сквера – бегуну Самылину навстречу – по направлению к ним шагал носач-спортсмен под центнер чистой мышцы, кавказский «греко-римец» с широкоскулой щетинистой мордой… эх, положить бы прямо тут их всех, но так нельзя – отвертятся, «корова не моя…», в карманах чоповские разрешения на стволы, ломать в отделе их так просто не дадут… Нагульнов встал, рывком подняв Светлану, – изобразить подобострастие, потребность жить, готовность умолять, не мордой, в которой у него не дрогнет ни единый мускул, так пусть хотя бы этой псевдорабской поспешностью… – Молчи, все вопросы ко мне.
Греко-римец ускорился… все ясно, сейчас его будут крутить, Железяку, здесь разговора, стопудняк, не будет… и налетел, налившись угрожающей силой.
– Ты, что ли, подъехал решать? – зверски вгляделся – проломить, вогнать по шляпку; в глазах затлелась на мгновение тень подозрения, сомнения, но погасла.
– Да-да, я вас хотел бы попросить… дать время… – заныл Нагульнов от души фальшиво.
– Глохни, баран. – Носач уже вгляделся в пустоту поверх плеча Нагульнова, мотнул башкой, командуя, и дверь отъехала, влепившись до упора, двое метнулись со всех ног к ним со спины… для них ты лишь туша, мешок… уперли в поясницу ствол, загнули, повели, не стоит их разочаровывать… по плану… но только вот – Светлана уйкнула, мяукнула, крик вмиг пресекся. Нагульнов вывернул лицо – ее загнули тоже, повели, поволокли, елозила ногами по дорожке, упираясь… и вмазали острым тяжелым в затылок, мгновенной белой вспышкой качнуло, вниз потащило, лбом к земле… заволокли, втянули, мешок на голову, картофельный, и мордой в пол… ломая, завернули руки, заковали, набились тесно и сорвались с места, взревев движком, зверски стирая завизжавшую резину. Впихнули обоих – пугать женским криком – мол, трахарь, смотри, как твоя баба бьется рыбиной и обессиливает в лапах.
Водила выжимал на полную, микроавтобус встряхивало на поворотах и ухабах… ну, что, каково быть картошкой, бараном, которого везут-везут и выгрузят сейчас в лесу у разведенного костра? Трясись, молись, покайся, поклянись, что больше никого и пальцем… Сознание рывками возвращалось и снова отлетало, как линза черной пашни, как гончарный круг пейзажа в окне несущегося поезда; на повороте дернуло, тряхнуло, Нагульнов коротко перекатился и уперся в глубинно порывисто бьющееся, в живую, сильную и беззащитную покорную женскую тяжесть…
Уже минут двадцать катались, водила что-то часто поворачивал – коллекторы, по ходу, кружили по району… неужто «хвост» почуяли и норовили оторваться? Но вот уже рванули по прямой, погнали… боль нарастала и пульсировала, разламывая череп, мешая прикидывать скорость и время в пути, переводить на километры… коллекторы над головой молчали, порой гортанно-приглушенно переругивались – не разобрать. Еще примерно через полчаса водила сбросил скорость, свернул и покатился под уклон, по ходу, по грунтовке; под днищем близко скрежетало, пощелкивало, всхрустывало, цокало, шуршало, и низко нависающие ветки царапали по крыше… ну, значит, уже скоро, почти у пункта назначения.
Остановились. Подняли рывком и из салона выбросили что-то – Светланину легкую тяжесть, и ойкнула она, заныла, замычала сквозь мешок. За шиворот, за мышку его рванули следом.
– От-тварь, здоровый! Встал, сука! Сам иди, пошел! Перебирай копытами! – нагнули, вели, не снимая мешка, ступать заставив враскорячку, проваливаться в донные ловушки ям и то и дело запинаться о мокрые скользкие древесные корни.
Вели, вели, шагая за майором, как за плугом, и под ногами чавкала и разъезжалась мокрая сопливая земля, сквозь толстый ковер прошлогодних слепившихся листьев обильно выжималась влага. Свели под уклон, пихнули для скорости в спину, и он, Нагульнов, полетел с горы, не устоял, споткнулся на бегу, пал на колени, клюнул носом землю. Как ни крути, а чувствовать себя слепым, безруким, связанным… ну, ничего… сейчас, сейчас… Рванули за ворот опять, стянули мешок, и белый свет раздался, ослепил, мир на мгновение вокруг него стал ветром; деревья врастали переплетенными ветвями в небо, точней, в его белесое отсутствие; сырую, всю курившуюся паром, застеленную палой коричневой листвой низинку надежно, глухо обступили черневшиеся ели, макушки их терялись в сизой мгле.
Майор на коленях стоял перед свежей ямой – отвалы суглинка бурели продетыми мертвыми нервами белесых корешков. Метода наведения страха отработанная. Кавказский мастер спорта, греко-римец, встал перед ним:
– Ну что, баран, тебя предупреждали? Ее предупреждали? Что будем ее пялить, а потом зароем? Теперь смотри… давай ее сюда…
– Стой, стой, прошу тебя… я все отдам, все соберу до вечера… все деньги… – Он потянул, прикинуться терпилой… минуты три – и их сломают подскочившие нагульновские волкодавы.
– Чего ты соберешь? Откуда соберешь? Поздняк метаться – здесь теперь останешься. Давай, давай ее сюда… – Светлану дернули – с бескровным, опрокинутым каким-то терпеливым страданием лицом, глаза остались, но ничего не видела, искала, но не находила. За волосы взял – лицо ее перехватила гримаса боли, затопляющего страха, что сделают сейчас еще больнее, на разрыв; в ней ничего от человека не осталось – лишь ужас ядомого животного с жестоко завороченной головой и открытым натянутым бьющимся горлом. – Сейчас она у нас сосать всех будет. А ты – смотреть.
– Слышь, отпусти ее! – Нагульнов рыкнул собственным, железякинским голосом. Угрозы изрыгать нет смысла – за словом должно последовать дело. Влепили по затылку кулаком, заставив поникнуть, кивнуть, поклониться. В башке потемнело, но он превозмог, распрямился. Лишь бы не спихнули его сейчас в яму – тогда… Где, суки, где? давно быть здесь должны… неужто упустили? – Решай со мной, джигит, – ты разве не мужчина? Ну!
Но тот собой не владел уже – толкнул девчонку на колени, рванул за хвост, открыв ее ослепшее лицо, и с плотоядной ублюдочной блудливо торжествующей мордой – красуясь, вырастая в собственных глазах – схватился за ширинку вывалить под нос пещеристый кусок, налитое кровью бельмо… и это вынуло из Железяки совершенно уже юмористический настрой, в нем подняло звериную, без примесей, потребность давить, ломать, восстановить себя в правах, в господстве над реальностью… все что угодно, только не остаться беззубым, бесхребетным слизнем. О женщине он даже как бы и не думал, свободных сил пугаться за нее в нем не было.
Взревев, он повалился на бок, крутнулся макаром, вработанным в мышцы и кровь, – срубил свободными ногами того, что стоял у него за спиной, рывком поднялся на колени и повалился сверху на подрубленную тушу, башкой, обухом лобешника упал на подбородок мрази… собой придавить и сделать последнее, что оставалось, до конца – с утробным рычанием вгрызться в мясистую грязную шею под ухом. Забытым, древним, изначальным богопротивно-праведным инстинктом, пришедшим из подземной глубины, сквозь тучный перегной эпох, залязгавших, завывших, захрустевших в ушах Нагульнова зубами хищников и ломкими костями жертв.
Бугай завыл, рванулся под Нагульновым, но легче было своротить гранитную плиту. Нагульнов волком впился в мясную тварную податливую сущность, не отпускал, пока у Железяки на затылке не кокнули грецкий орех, удары не посыпались по почкам, по хребту, по шее, по башке цепами, чугунным горохом; в четыре кулака его месили, ярясь и сатанея, чуя чугунную болванку, толстое литье… рвали за волосы, давили на кадык и, как собаке, силились разжать сомкнувшиеся челюсти.
Лес захрустел, захлюпал, затрещал, мир сухо треснул, будто об колено сломали крепкий сук; автоматная очередь вспорола в вышине над головами воздух веером. «Лежать всем!» – посыпались, сбежались со всех ног крутить… рядом с майором тяжко плюхнулась поваленная туша. Еще через мгновение Нагульнова подняли – ощупать, расстегнуть; разбитый, огромный, с ломавшейся от боли распухшей головой, не мог он сразу возвратить себе контроль, господство над дальнейшей жизнью.
Архаровцы его стояли вокруг ямы, задравши к небу автоматные стволы, коллекторы, поломанные, корчились, держались за отбитые бока и окровавленные головы, один свернулся, как в утробе; Светлана стекла по стволу – по ту сторону ямы – в оцепенение, слабоумие, немоту и ела, глотала Нагульнова остановившимся стылыми глазами – его не узнавая, не впуская, не в силах уместить, уверовать и в то же время с рабской, собачьей благодарностью.
Нагульнов с помощью ребят поднялся, вклещился опереться, устоять в могучее плечо Чумы, свободная ожившая рука нащупала рифленую рукоятку «ТТ», который ему протянули без слов первым делом – как соску младенцу, баян наркоману, ингалятор астматику…
– Вы че, охуели? – казня непониманием, неуважением, прошелся мутным взглядом по повинным, осунувшимся лицам оперов, которые боялись прямо посмотреть. – Вы че тормозили, вы где там ползли? Профессионалы, ебаные в рот! Вы ж мне только зубы, уроды, оставили. Я чуть людоедом по вашей тут милости… Не слышу ответа!
– Толян, виноват, – сознался Якут, желваками гуляя. – Я, я поворот промахнул. Он – раз! – повернул… нельзя было сразу за ним. Пришлось покрутиться.
– Эх ты, поворот! – Нагульнов оттолкнулся от Чумы, качнулся вперед, побрел в обход ямы. Слов не было – еще не вполне командуя мышцами, присел на корточки и обвалился на колени перед женщиной, которая пристыла, приковалась к нему взглядом. К себе притянул и затиснул, и в тесноте объятия она немного ожила, окрепла, задышала, натянулась. Помог ей встать и обучиться заново ходить – два-три нетвердых шага.








