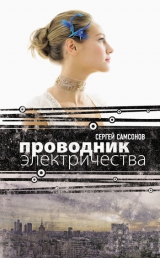
Текст книги "Проводник электричества"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
«Менгрелия» до войны была сияющей высокогорной белизной многоэтажной громадиной, первостатейным пассажирским теплоходом, благоустроенным для граждан, с двумя буфетами, просторным рестораном, огромной кухней на тыщу человек, курительным салоном, комфортабельными люксами, широкими иллюминаторами, дававшими полюбоваться панорамой, – плавучий город гедонизма; теперь же белизна была закрашена свинцово-серой краской, над палубой торчал стволами в небо лесок зениток; тяжелые пушки глядели толстенными дулами в море из серых бронированных коробок.
Каюты были приспособлены для размещения раненого комсостава (в полулюксах по двое, во вместительных люксах – по четверо), часть переборок сломана; курительный салон отдали под аптеку, в буфетах, ресторане были устроены большие перевязочные; в просторной моечной со множеством хромированных раковин и сверкающих кранов стирали бинты, кипятили инструменты; две нижние палубы, 2-го и 3-го классов, собой представляли анфиладу чисто вымытых палат со строгими рядами двухъярусных коек – до тыщи раненых могло тут уместиться (если не брать в расчет хозяйственные помещения и так далее).
Во 2-м классе для Варлама оборудовали покрашенную белой масляной краской операционную с привинченными к полу четырьмя железными столами; такая же была и в 3-м классе, «в самой преисподней», где отделением заведовал полуседой степенный Кабалевский, умелый, многознающий хирург, специализированный на неотложной помощи.
Камлаев обошел владения, пробуя, насколько крепко к полу у него привинчены шкафы с посудой и инструментами, посмотрел, как устроены гнезда для склянок с растворами, перебрал инструменты в корабельных наборах, попробовал, взвесил в руке…
Получил под начало четырнадцать аж человек!.. шестерых санитаров, пятерых медсестер, фельдшерицу и, наконец, двоих хирургов-ординаторов – выпускника Одесского мединститута Рубина и вот Нежданову, которая раскрытую грудную клетку и брюшину лишь с самой верхотуры пару раз и видела. Черт знает что, детсад – штаны на лямках. А Рубин был смышленый парень, начитанный и вышколенный, рьяный, работал ловко, не без щегольства, с какой-то врожденной, потомственной легкостью, свободой.
«План мира» помен-ся: теперъ наш порт приписки – Туапсе; из Сев-ля выходим с грузом ран-х, обратно в Сев-ль повезем два бат-на подкрепл-я, провизию, снаряды, мины, пороха. У нас 7000 водоизм-я, как пояснил мне ком-р БЧАнтошин, – взятъ можем много. Ант-н говорит, «Менгр-я» везучая; почти что за 4 мес. войны ни одного ни получила поврежд-я, кот-е заставило бы встатъ в ремонт. Матросы – народ ясный, но со стран-ми, с набором многовек-х дикар. суеверий: украдкой подкармл-т крыс, хотя приказано давитъ, а если драят палубы, то опускают швабры прямо в море – век будут драитъ, ни за что по сухопут-му не сделают.
Борзыкин, капитан, – какой-то показат-й красавец, с орлин. проф-м, поистине любимец жен-н. Чванл-й и крикливо-вздорный, вечно является с такой миной, как будто вынужден миритъся с твоим непрошен. соседством; скорее всего, зол на то, что принужден команд-ть всего-то санит-м теплох-м, а не крейсером, решать задачу самосохр-я, а не битья врага из тысячи орудий; есть что-то в нем больное, истерич-е, неутолен-ть честолюбия при жутко раздутом самомн-и.
Вторая моя «горе»-ординатор, Нежд-ва, держится отчужд-но и сумрачно («да», «нет», «так точно», «слушаюсь» с издевкой), при этом переносит качку тяжело (не вздумай только предложить ей пойти передох-ть, прилечь – лишь стиснет губы и остан-ся переносить муч-я на ногах, ни в коем случ-е не признает своей слаб-ти).
Вообще я оказ-ся в женском царстве – хожалки, докторши, провизор Тася Рябоконь… «уж я бы тут пошуровал», как Сашка бы сказал (ты только, Саша, будь живым, пусть косая не зарится на вас с Иваном там, на направл-и глав. удара).
Нет, все-таки выход в открытое море – шум дизелей, приведших в движение маховики, на самом нижнем этаже, в нутре «Менгрелии» и равномерный шлепающий шум – чап-чап, тух-тух… – подействовал гнетуще, каким-то сложным сочетанием безнадеги, страха и апатии.
Вот этот момент перехода был страшен: чап-чап, и будто отрубало все земное, значительное, важное: не оставалось ни войны, ни родины… одна вода. От горизонта прущее безостановочной несметью разверстых между волн могил, море Камлаева давило, удушало своей неизменностью. Что совсем худо было ленинградцам, что с напряжением сил держался Севастополь – все это становилось пусть и на мгновения, но мелким… каким-то деловитым кипением в муравейнике, ничтожным перед этой водной неизменностью, давильней горсточки людей, желавших убивать и быть убитыми. С землей хоть что-то можно было сделать – вскопать, вспахать, взорвать, опустошить, а с морем ничего… стихия заставляла взглянуть на самого себя извне, глазами пучины, одной и той же миллионы лет.
Воспитанный в вере преодоления и покорения природы, железно-прочно убежденный в беспредельности возможностей познания и человеческого гения (вопрос о всемогуществе которого есть только вопрос времени),типичный выкормыш эпохи, питавшийся пустыми щами из лебеды, пайковым сахаром, селедкой, хлебом, зато – сполна, невпроворот – восторгами перед научным, инженерным чудом аэрации, нефтепроводов, доменных печей и воцарившегося над великой страной электричества – Варлам не мог так просто, безболезненно принять, что человек – не главный в этом мире, что все создания, изобретения его гения легко смываются, так, будто никогда и не было.
Ведь как его учили, что преподавали? Не столько беспредельность мира, сколь беспредельность человеческих возможностей: сейчас мы знаем и умеем мало, но уже больше, в миллионы крат, чем наши косматые предки, и Амбуаз Парэ, хирург французских королей, – сопля в сравнении с нынешним четверокурсником. Что вот пройдет совсем еще немного времени, и мы еще узнаем больше, чем сейчас, наука разовьется так, что мы чуть ли не всёузнаем, так много, так почти что до конца, что даже вмешиваться сможем, переписать и вымарать извечные законы заболевания, старения и смерти – неприемлемые, оскорбительные для того, кто пишется с заглавной буквы и звучит так гордо.
Всего-то тридцать-сорок лет назад по поводу аппендицита операций вообще не делали – прости, брат, медицина такой болезни не распознает, живи как хочешь, помирай… ну а сейчас склероз сердечной мышцы можно победить, бороться с доброкачественной опухолью мозга – и обреченным людям возвращают жизнь.
И это лишь начало, и скоро мы увидим край, не только молекулярные структуры в микроскоп, но и вот долю грамма вещества, ответственного за воспроизводство жизни, за самый ход биологических часов, казалось, неостановимый и необратимый, и это будет совершенно уже не шарлатанская алхимия с переливанием новой крови в замороженные трупы… Камлаев верил – не в бессмертие, до которого он все равно не доживет, но в то, что жизнь веками неуклонно улучшалась, и дальше будет только улучшаться, пусть с медленным, но верным уничтожением голода, бесправия, бессилия перед лицом природы: пусть и не всей не станет смерти, но все-таки не будет смерти ранней, детской, мучительной, постыдной, унизительной, паскудной.
Он заложился приближать вот этот день, подталкивать и разгонять ползучее, замедленное время – чтоб чуть быстрее, чтобы понеслось… а в чем же смысл еще? Чтоб жизнь после тебя была чуть лучше, чем при тебе… другого смысла нет. Так было всегда. Теперь же море, вездесущая вода, вставая на дыбы, ломало все и опрокидывало веру в темноту – играючи и людоедски-безразлично. Все, что ни делалось, мгновенно становилось черту в задницу, и личная его, Варлама, и общечеловеческая вера в неудержимый, побеждающий прогресс вдруг становилась этой самой… анозогнозией, то есть неспособностью больного объективно, глазами самоей природы оценить свои возможности и состояние. А тут еще и человек, имея от чего страдать, упрямо продолжал страдать не от того; не видя своего реального врага, упрямо придумывал внутреннего, внутривидового, такого, чтобы можно было запросто расправиться, – дрянные расы, низшие народы, поганых евреев, дремучих славян, проклятых буржуев, крестьян-мироедов…
Вид слабой и жалкой человеческой плоти, легко порушенной железом, Варлама возвращал в реальность дела и предназначения. Возможно, смысл в том, что, точно зная о вездесущей и всезатопляющей воде, упрямо продолжать работать в отведенной тебе епархии, бороть и бороть подвластную и управляемую смерть – не тушу сокрушить, так врезать по клешне, чтобы немного отползла назад, затихла, а мы будем жить еще и еще, рожать детей, затягиваться воздухом во всю оставшуюся ширь ушитого, заштопанного легкого.
3Когда шли в Севастополь – «туда», а не «обратно», – вахта была «не бей лежачего»: пустые койки, строгие ряды нетронутых наборов на столах, скучающие санитары и медсестры, давно уже наученные гипсованию; зыбучая каюта, тошнота, корабль, населенный двумя тыщами пока что невредимых человек, нагруженный провизией и порохами, – сиди, лежи и слушай собственное сердце, простукивай неспешно днище и борта, и думай, думай… пиши в тетрадь, чтобы занять себя хоть чем-то, штудируй атласы, вноси поправки в рукопись самопальной методики обработки конечностей; безделье, бесполезность в соединении с непрестанным нервным напряжением душат: минуты тянутся в противном ожидании воздушного налета, явления вражеских судов на горизонте, беззвучно и неуследимо подкравшейся подлодки; ложиться в койку полагается не раздеваясь – чтоб в случае чего немедленно вскочить, напялить пробковый жилет или метнуться оказать подраненному краснофлотцу неотложную. Уже не слышишь шума дизелей, неумолчная ровная работа машин звучит тишиной, зато иной, какой-то дальний слух необычайно обостряется, и начинаешь слышать шорохи и гулы как будто за десятки, сотни метров от «Менгрелии», щелчки какие-то, поцокивания странные.
Услышать первым то, что зазвучит во всеуслышание по радио: «Внимание! Курсовой сто десять – пять «юнкерсов» противника… внимание, курсовой сто пять!» Потом тяжелый мерный гул придавит, и «юнкерсы» закрутят карусель, фрезой над стонущей «Менгрелией» распиливая воздух… нагруженной, вообще-то, под завязку… припомнить на мгновение… снарядами и порохами; пойдут обвалы ноющих, визжащих, терзающих, зубоврачебных звуков; две тыщи человек красноармейского народа, затиснутые между переборками и палубами, начнут яриться неподвижно, готовые вскочить и заметаться при первом же серьезном содрогании, скрежете и крене, рвануться к шлюпкам, к трапам, начать бессмысленно давить друг друга, нигде не находя спасения; вот тут-то и появятся на верхней палубе десятки посеченных осколками бойцов – Камлаеву с сестричками работа, сосредоточиться возможность на собственных пущенных в дело руках.
Дойти до Севастополя, произвести разгрузку и превратиться в госпиталь; в порт входишь либо ночью, либо под прикрытием специально наведенной дымовой завесы, и кажется, что порт, суда вокруг, все мироздание уже горят, густой черный дым полонит небосвод, ползет на расстоянии протянутой руки, в косых прорехах видимы куски бортов, обрубки матч, вода кипит, раскромсанное небо воет; ширококрылая и остроносая машина немца идет на бреющий, ревмя роняет бомбы, как корова – лепешками – дерьмо из-под хвоста, и – водяные исполинские, едва не выше теплоходных труб, встают вокруг кипящие столбы.
Бомбежка стихнет… то есть, как?.. – над бухтой смолкнет, а где-то в глубине земли зачнется с новой силой. Отбит налет на рейд, «Менгрелии», «Червонной Украине» – передышка; одни фашисты отметались – другие эскадрильи «юнкерсов» работают над городом, крушат, утюжат, опрокидывают, до основания срывают; разрывы бомб, снарядов, гул самолетов не смолкают теперь над Севастополем все время; увесистая канонада наших береговых орудий и дальнобойных пушек немцев такова, что будто бы сама земля в движение пришла и дышит, содрогая Севастополь, – словно чудовищных размеров и колоссальных сил ублюдок бьет свой ножкой изнутри и гулко, страшно вздыбливает пузо, разваливая город по кирпичику.
Отбит налет на рейд – разгрузка начинается; сперва на берег сходит пополнение – «десантные» роты с уже омертвелыми лицами, одновременно и угрюмыми, и кроткими; скучны они, обыкновенны, будничны, но в то же время уже странно просветлели, не искажаются мгновенной зыбью-мимикой желаний, и жутко вглядываться в эти малоподвижные простывшие черты: словно какое-то особенное вещество ушло из мышц, из лиц, и каждый в этой свалке, разбирающей винтовки, уже увидел и постиг высокое значение смерти… Да, жутко, но еще и стыдно было глядеть им в опустевшие глаза, как будто он, Камлаев, перед ними виноват в том, что останется на транспорте и обеспечен, защищен своим врачебным ремеслом от самого адова пекла. И хорошо, что времени задумываться больше нет и долго, весь обратный путь, не будет: сейчас начнут спускать за борт на берег ящики с припасами – причал и судно превратятся в умный хаос; деловито кипящая куча муравьев в гимнастерках, в бушлатах быстро вычистит трюм, и врачи с санитарами двинут на берег.
Здоровый, крепкий, невредимый человек со свежим подворотничком, в начищенных сапожках, как будто заключенный в невидимую капсулу удобных должностных возможностей, он ступит навстречу ползучему шарканью оборванных и грязных верениц: хромые, колченогие, отяжелевшие от пыли, от рыжей глины, навернувшейся на чоботы, такие слабые, что с ними совладает и ребенок, десятки, сотни раненых навстречу будут ковылять и помогать идти своим совсем ослабленным товарищам.
Противно бодрым, звонким голосом человека, довольного, что он – не пехота, Камлаев будет отдавать команды, кого куда, в какое отделение; Нежданова в крахмаленном халате начнет всем выдавать билетики на койки; билетики закончатся, пять сотен раненых бойцов поднимут на «Менгрелию» – кого под руки, а кого и на носилках, а перед ним, Камлаевым, останется стоять в молчании толпа: безропотно и смирно, не крича, – лишь трудно вырвется порой из чьей-нибудь груди удушенный, сдавленный стон, когда терпеть на собственных двоих мучение станет совсем невмоготу.
Потом начнешь паскудный торг с эвакуатором Эпштейном, который, как всегда, пригонит вдвое больше раненых, чем было уговорено с Мордвиновым: договорятся на четыреста – пришлет на берег восемьсот. Варлам на берегу за главного, колеблется: не отправлять же раненых бойцов назад – и так уж им все жилы вынули. И заполняет палубу, все коридоры чуть ли не в два слоя, велит усаживать людей под трапами: впритык, плечом к плечу, поджали ноги, потеснимся.
Любой, кто мог стоять на собств-х ногах, не только лез самост-но по трапу, но всей оставш-ся силой помогал другим; бывало, что и ранен-е в грудь шли сами – не только от непоним-я серьезности ран-я, пренебреж-я к боли, но будто бы стесняясь требовать к себе особого вним-я и помощи; не только ни один не вылезал настойчиво вперед, но и порой кое-кто нам предлагал заняться первым делом не лично им – его товарищем, и остав-сь только молча преклониться перед вот этим тихим, несоз-нат-м величием страд-х людей: то было будничнопростое проявление челов-го духа, доселе мне неведомое.
Тем еще гаже смотрятся в сосед-ве с этим мужеством примеры человечьего паскудства. Два дня тому случилось нечто наст-ко унизительно-похабное, что и назв-е трудно приискать. В суматохе погрузки мы взяли на борт двух ублюдков челов-ва. Как только вышли в море, ко мне пришла – против привычки не обращ-ся лишний раз – Нежд-ва, сама не своя, с перекошен-м гневом и страхом лицом, с распух. горлом и губами, шипела и дрожала, объятая таким ознобом, как будто только что ей привелось соприкосн-ся с каким-то смрад-м и холод-м гадом: «У нас тут двое… этих… в отдел-и… бытьм-т, что они вообще не раненые».
Два толстомор-х бугая в подозрит-но чистых бушл-х лежали на двухъяр-й кр-ти и при попытке персон-а к ним притрон-ся принималисъ истошно стонатъ. В их мед. карт-х, прожж-х и гряз-х, нелъзя было ни строчки разобратъ, ни № санбата, ни диагноза, зато глухие плотн. повязки у них на гол-х были ну просто пам-к крахмалу и кропотл. труду – чалмы. Хотел череп-х – получи: оба скота кричали в голос, что у них под слоем ваты «дырка в 10 см» и что санбат-й хир-г им запретил снимать чалмы и что-то делать с этой «дыркой до мозга», пока их не дост-т в тыл.
Оба были на взводе, в сознании, что бежатъ им некуда; один все время щупал что-то у себя за пазухой – похоже, пист-т, и надо дум-тъ, страх заставил этих двух наделать бы делов. Не знаю, как меня хватило на то, чтобы скреп-ся и повести с ублюдками спок-й раз-р, таким уважит-м тоном, как будто я поверил им вполне и толъко хочу поменять им пов-ки. Под чист. бинтами обнаруж-сь промо-чен-я кровью и уже зачерств-я марля, и волосы все были у «ран-х» склеены запек-ся кровью, так что я даже на мгнов-е предположил и вправду щербины на черепах. Но только скапьпы под волосьями и кровью были младен-ки чисты; чужая кровь на них была, погибших их товар-й, кот-й не посовестипись вы-мазаться оба. Что ж, дал команду налож-ть им свеж-е повязки и вымучил в адрес скотов: «отдыхайте, тов-щи». Потом позвал Шкирко и Васип-ко и приказал им глаз с уродов не спускать, а если вдруг заснут, вязать немедно. Дальн-ее – лишь дело времени. В порту их доведут до первой стенки. Наш ком-р Борзыкин, заиграв руками и желвак., хотел их, впрочем, кончить на борту. Насилу удалось с Морд-м его остан-ть.
– Варлам Матвеевич, прошу заняться лично приемкой раненых в порту. По сообщению товарища Эпштейна, много тяжелых, с проникающими в грудь, в брюшную полость. В береговой санчасти скопилось более трех тысяч. На нас и «Грузию». Всех не возьмем – необходима выбраковка. Вопросы есть, товарищи?
Цели ясны, задачи определены. Камлаевские пальцы неуправляемо подрагивают; мелко трясущейся рукой проводит, как гребенкой, по некогда сильным густым волосам: порой на ладонях, на мраморе камлаевского умывальника, как после стрижки, остаются россыпи волос; ночные содрогания «Менгрелии» всем корпусом, когда она на полном, ровном, успокоительном ходу вдруг вздыбится, рванет как будто в водяную гору и рухнет вниз как с кручи, бомбежки под вой корабельной сирены бесследно не проходят; он начал «линять»; давно уже устал бояться, как человек, в котором внешняя слепая воля победила тиранство разума, но туловище продолжало дергаться при каждом смутном шорохе и гуле, грозящем перейти в противный вой немецкой бомбы на излете.
Есть мнение, что мужчины лысеют рано от чрезмерной физической силы… ага, и вся эта его чрезмерная физическая сила сейчас отчаянно не хочет умирать. До баб – горазды ныть по пустякам (страдать морской болезнью еще на берегу), но подлинные трудности, похоже, переносят даже стойче, чем мужчины, срываются гораздо реже; простое, непритворное участие и ласка по отношению к раненым почти пугающе не иссякают в них. Нежданова вчера с усмешкой сказала, что ей ее недуг (укачивало с первой же минуты на «Менгрелии») услугу оказал неоценимую: так с первых дней намучилась, так натравила море, что сил бояться остального уже в ней не осталось.
Растет лишь изумление перед спокойн. силой наших жен-н, кот-е не только делают полож-е дело сноровисто и точно, но и еще при этом неустанно проявляют сестринское располож-е к ран-м, не только морфием их греют, но еще и улыбками, кот-е не менее, м. б., важны, чем твоя техника. Вот это в них и удивительно во всех, худых и слабых, – способ-ть дать любовь, умение находить слова, каз-сь, самые простые, жалкие, наивные, но вот таким хорошим, теплым, верным тоном произносимые всегда, что пересох. обмет-е губы ран-го невольно, через силу раздвиг-ся в признател-й улыбке. «Что, очень больно, милый?» – могут спросить они, но так естеств-но, из самой жен-й сути, что станет ясно, что она и вправду знает, как болит.
Все наши знания о высш. нервн. деят-ти и вся лит-ра не объяснят, как это происходит, но сов-но ясно: легче станов-ся бойцу, когда рука обычн. медсестрички ляжет ему на лоб, и молод. солдатик, не знав-й ласки, кроме материн-й, действ-но ей верит, когда ему вот этим непогрешимо взятым тоном говорят: «Мы тебя еще, родненький, женим».
Бывает так, что ничего не сделать, не поможешь. Они не признают – своим нутром – и тянут умир-го обратно в жизнь, не отдают. Им тяжело приходится. Девчонкам в 19 лет, комсомол-м зелененьким. Весь фартук в гнойн. выдел-х, в крови; зловоние от немытых мужиц. тел, от ран, свищей порой такое… Один не может встать, второй в портки все время валит – они выносят все, любое, до конца. Им, Фросе, Нике, Раечке, Нежд-й, даются сам-е послед. наказы бредящих и умирающих – чтоб написали матери, отцу, сестре, нев-те, девке. Все им – мычание, бормот-е, послед. вздох.
Свет меркнет от вони, слух стынет от крика – не иссякает, держится любовь, без срывов, без истерик, как то послед-е, что никогда не гнется.
И начинаешь думать: мало быть врачу искусным, решит-м, бесстраш-м, что это только часть и что зачета по участию, по раздел-ю боли не сдают в мединст-е. Учиться надо этому в процессе самой жизни – вот убирать себя, професс-й опыт, выучку, железобет-е знание; все профессиональное должно как будто умереть в тебе, человек умереть – вот этот знающий, всевластный, самодов-й, невредим., стоящий над больными человек. И бабы лучше нас умеют это от природы. Мужчины борются друг с др-м и могут взять любую сторону, а бабы борются лишь за своих детей и вечно берут только сторону горя.








