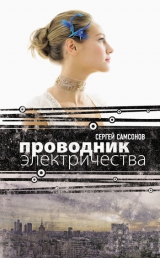
Текст книги "Проводник электричества"
Автор книги: Сергей Самсонов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 57 страниц) [доступный отрывок для чтения: 21 страниц]
Мы выходим на станции, на маленькой далекой станции, она обыкновенная и в то же время необыкновенная. Наверное, это потому, что, кроме нас, никто не вышел на эту деревянную скрипучую платформу, никто не сел в истошно и даже как бы возмущенно вскрикнувшую электричку – ау! а где же люди? – и вообще никто не видит и не слышит все то, что с Фальконетом видим мы: сухой глубокий снег, не тронутый ногой человека, облитую стеклянным мутным блеском табличку с трафаретным названием станции, в которое мы слепо ткнули час назад на карте, заснеженную будку кассы и все, что есть вокруг, стоит, безмолвствует… ну, то есть деревья разные, осины, сосны, ели, которые сейчас уже гораздо ближе к алмазно-твердому, гранено-складчатому царству минералов, нежели к миру дышащей органики.
Едва не задыхаясь от смирения и жути, мы входим в лес окаменелых и одновременно чудовищно живых деревьев: история Земли, создания несметных форм живого проходит перед стынущими нашими глазами каменным штормом тектонических подвижек, накатов, срывов, поворотов, сломов геологических эпох. Перекореженный, нещадно перекрученный, предвечный, новорожденный, одновременно умерщвленный и будто только что зачатый мир сурово, накрепко прошит слепящим белым; жгуты, каскады, низвержения притянутых к земле ледовой тяжестью ветвей – как драгоценности, которые нельзя присвоить, пустить в обиход; все выстудила, вытвердила, вызвончила люто, сковала ледяными связями зима в слепящее сверкающее целое, торжественно-немое, безучастное и к человеку, и к самой своей судьбе, будто стеклянно хрупкое и в то же время несгибаемо, несокрушимо стойкое, как власть последнего царя, против которого никто не смеет взбунтоваться.
Стоим под нависающими кронами, переплетенными в морозной синеве ветвями – будто на дне колодца немоты, оцепенения, зрячего бесчувствия. Лес всей своей высотой, всей прорвой перекрученных стволов и каждой стеклянно-ломкой, оснеженной веткой разглядывает нас, себя не предлагая, не навязывая – втягивая, не то что чтобы порабощая – заключая в свое совершенное целое, в неслышимо звучащий монолит… вдруг крепкий деревянный стук и эхо – та-а-а-х-тах-тах!.. я слепну, накрытый искристой колкой осыпью – то Фальконет с разбегу бьет ногой в сосновой ствол и вызывает низвержение жгучей снежной пыли с расчетом забелить меня всего, застывшего, немого, безразличного к своей дальнейшей участи.
Вчера шел дождь – будто заимствованный у весны, у марта, неурочный дождь, среди зимы, уже накрывшей землю саваном, а к ночи ударил мороз, всю ночь насиловал телесную органику, и каждая ветка запаяна накрепко в прозрачную толщу намерзшего льда; Фальконет говорит, что под тяжестью мерзлой воды, слишком тучного панциря сотни разных деревьев погнулись, надломились и рухнули, оборвав провода по всей нашей столице, Среднерусской возвышенности, приведя в неисправность километры запитанных ЛЭП, обесточив дома, учреждения, заводы, больницы, котельные.
Пол-Москвы этой ночью осталось без света, говорит Фальконет, – его тетка и брат, сотни тысяч людей… посмотри, говорит, это жутко красиво, так красиво, что глупо даже слово такое пустить в обиход – «красота», слов не хватит, Паустовский и Пришвин сотрут языки, чтобы встать с этой силой вровень… только где же здесь мы, человеки, наша слабая, низкая правда, теплокровная наша потребность в электричестве, а?.. только где же здесь мы – в беспощадной вот этой, людоедской красе, сотворенной за ночь не для нас и без нас? – говорит Фальконет или, может быть, я говорю. Промороженный, выстывший город, без света, ледяной, дегтярной затопленный ночью. Как же жить-то? Не жизнь, все отрублено – радио, телевизор, газеты. Батареи – ледышки, отключение воды.
Без пути, без следа, протыкая ногами муаровый наст, с небывалой какой-то ясностью думаю, что в одной только ветке, закованной в лед, больше смысла, прозрачности, силы, откровения, ради чего ты живешь, – чем в несмети людских жалких нужд и потуг: что такого ты делаешь и по радио слушаешь, чтоб давать тебе свет? Даже как бы не жалко никого перед этим снизошедшим на землю безмолвием, перед даром прозрачности, строгого колокольного звона.
Я думаю, что хорошо бы стать метеорологом, сидеть в финском доме на маленькой станции, на самом северном, на самом верхнем рубеже Советского Союза, припав к наушникам и мучаясь от тишины: пеленговать, укладывать в улитку все далекие шорохи, вздохи, завывания, звоны, выслеживать, гнаться за ними, предсказывать дожди и снегопады, предупреждать о шквалистых ветрах и штормах, корчующих деревья из земли, предвидеть подвижки воздушных фронтов и превращения мировой воды, которая сегодня – снег и лед, а завтра – перьевое подушечное белое нутро, насквозь просвеченное солнцем в немыслимо морозной вышине.
Протаптывая путь, дорожку, которую мгновенно заметет, мы заглубляемся все дальше в лес, который нас не привечает и не отвергает, порой пробиваемся сквозь гибкие, упругие, железно-твердые, как прутья арматуры, колючие, бодливые кусты, перебираемся через поваленные мертвые стволы и вырываемся из цепких капканов зарослей, запрятанных в снегу… и наконец находим уголок, похожий на естественный шалаш, сплетенный из орешника, ольховника и волчьей ягоды. Тут делаем привал и по-собачьи начинаем расчищать ничтожный пятачок земли от снега; закончив, собираем и обламываем ветки; еще нужна бумага, много, чтобы занявшийся огонь мог развернуться, захватить наломанный и собранный сушняк… и Фальконет, вздохнув разгульно, лезет в портфель из толстой желтой кожи: «Учебники, конечно, рвать не будем, – говорит, – подумаем о новых поколениях, идущих нам на смену, пусть тоже в свою очередь помучаются, поупрощают функции линейные». И красную большую папку достает, с тиснением по картону «Папка для бумаг» и, развязав тесемки жестом владельца всех сокровищ мира, вываливает кипы карандашных рисунков на снег: куст бузины над накренившейся решетчатой кладбищенской оградой и сваленные в кучу, словно садовый инвентарь или обломки порушенного дома, щелястые гнилые деревянные кресты; весенний лес с большими черными проталинами и ледоходом низких облаков, заросший камышами арматуры котлован и толстые решетчатые стрелы исполинских кранов, и великанские отвальные мосты, и трубы черной фабрики на самом горизонте… поверх ложится лаконичный натюрморт – бутылка водки «Водка», ржаная четвертинка и пучеглазая тарань на старой засаленной «Правде».
– Э, э, ты что? Не надо, – говорю: он, Фальконет, и вправду рисует, как никто, не лучше всех, а по-другому, так, что будничное, близкое, простое становится отчаянно далеким, увиденным как будто в первый и последний раз; непоправимо, невозвратно они отодвигаются, скрываются в какой-то мгле беспамятства – безропотно-пустые лица наших старших дворовых корешей, сиротливые ветки убитой грозой осины… – давай-ка лучше матику пожгем, ответы вон в конце учебника.
– Да ну их на хрен! Их у меня хоть жопой ешь, и все при этом не годятся никуда, – и Фальконет сгребает, комкает листы, бумага протестующе шевелится, будто надеясь, силясь распрямиться. – Вот это разве ветки, а? Скажи мне. Попробуй воздух между ветками нарисовать – вот это дело. И вообще сейчас мы будем избавляться от греха.
– Чего? Какого? – Я не понимаю.
– А вот такого. – Фальконет бросает поверх своих котельных и промзон, мостов и виадуков еще одну подспудную убийственную кипу: жемчужно-серые объемы и беспощадно-плавные изгибы бабьей наготы захлестывают мне сетчатку, горло… – А ну-ка вылезайте, сучки! Смотри-ка, как мы выпялились, а? Чего, не видел никогда?
Нет, это все не алебастр, не камень, не мертвая слепая, обгаженная голубями в парках нагота наяд с бессрочной пропиской на Олимпе – все это мягкие, подвижные, мерзлявые тела, налитые от пяток до макушки кровяным огнем, со складками на впалых животах и нежным мышечным рельефом заломленных над головой рук… круглящиеся груди под собственной тяжестью распластывались как бы, по низу животов шла вышивка, переходящая в пугающую тьму… все было чудом достоверности, все – от лица до круглых ноготков на виноградных пальцах ног – было срисовано или угадано с предельной близостью к живой, горячей правде: ушная раковина, вырез спокойно дышащих ноздрей, рисунок рта, разрезы глаз, пугливых или безмятежных, открытых, круглых или азиатских… тут было каждой твари, все народы, и все они будто хотели инстинктивно запахнуться, прикрыться, только было нечем, и в этом было все – в уловленном вот этом стыдливо-прикрывающем движении.
Я дергаюсь вцепиться Пашке в локоть, но поздно, все, оранжевое пламя побежало по грифельным, стремительно смуглеющим от жара щиколоткам, и сквозь трепещущее густо-розовое зарево смотрели на меня их жалобные ланьи глаза; все девки будто танцевали напоследок и, извиваясь, корчась, становились лишь пепельными хлопьями на крепком не-тающем снегу.
– В огонь, в огонь, бесстыжие, – хохочет Фальконет, подбрасывая в пламя все новых, новых баб; веселье его заражает и, главное, становится тепло, подкладываем ветки; занявшись неохотно, они уже трещат, пофыркивают, щелкают, и можно подставлять свои ледышки, и, зачерпнув немного снега, вешать закопченную эмалированную кружку над огнем.
Когда вскипает талая вода, снимаем осторожно прут с рогатин, и Фальконет бросает в кружку горсть заварки – запасливый, отсыпал дома в клетчатый кулек едва не полкоробки грузинского, сорт «экстра»; он вообще с собой таскает множество полезных штук и безделушек, как то: невероятно ценный ножик ЗСН, со штопором и маленькой отверткой, немного поцарапанную цейсовскую лупу, чертежное стальное «рондо», пенициллиновый, заткнутый серой резиновой пробкой пузырек, налитый красными чернилами, пустую лакированную трубку для пера, через которую плеваться можно жеваной бумагой и, наконец, вообще разумной стоимости не имеющий стальной кирпичик древней бензиновой американской зажигалки.
Мы с Фальконетом смотрим на танцующее пламя, прихлебываем чай поочередно, берем по сигарете… не худо бы сейчас чего пожрать, – говорю я, – не отказался бы сейчас от рыжей, облепленной хрустящим сахарным песком столовской слойки к чаю. А я бы съел дальневосточного краба из банки, – говорит Фальконет, – я краба люблю, вот скоро Новый год, уже запахло мандаринами и елкой, и, значит, скоро будут крабы. Мы курим, длинно сплевываем и говорим о Людке Становой и Сонечке Рашевской, о будущей жизни и будущей смерти.
– Будь готов, – говорит Фальконет, – однажды, через сорок, пятьдесят или там сколько лет, во сне остановится сердце… тебя положат в гроб и заколотят, опустят в могилу, засыплют землей, червяки и личинки обглодают тебя до костей, но тебе-то, конечно, это будет уже все равно, это будет уже не с тобой, только с телом, хотя, наверное, лучше завещать, чтобы тебя сожгли, чтобы осталась только горстка пепла в урне, вместо того чтоб долго гнить в земле… Чего ты морду-то кривишь? А ты как думал? Все люди умирают, Эдисон, за то, что стареют. Но мы не думаем об этом постоянно. Если б мы думали об этом постоянно, то нас бы на хрен парализовало, все самолеты падали в полете бы, потому что пилот говорил бы себе: так и так все умрем. И мы бы не могли ни есть, ни пить, ни зубы чистить да… но мы же жрем, мы курим вот сейчас, и ничего. Я, например, когда вчера гуляли с Сонькой, задумался хотя бы на секунду, что через несколько десятков лет меня не будет? Нет, я вообще не думал ни о чем, не до того мне было. Отсюда вывод – в лучшие моменты жизни мы вообще не думаем. Когда ты занят чем-то вот таким… значительным или приятным… тогда твое личное время не движется… а если бы было не так, тогда бы давно все с ума посходили.
Он прав, – я думаю, – в определенные счастливые минуты вот это знание о предстоящем отступает, да и не то чтоб отступает – становится ничем перед открытой слуху молчаливой природной пульсацией, такой, как будто истинная плоть всех тварей, всех явлений – это звук… ты начинаешь думать, есть ли вообще тот уровень воображения, разумения, на котором возможно было бы посредством грубых человечьих инструментов непогрешимо воспроизвести вот этот строй, порядок, высоту, так, чтобы получить не визг, не стон, не плач, не фейерверк, а именно мерцание, а именно вот это просветление вещества… ты думаешь об этом, лишь об этом, а не о гробе, не о деревянном, подгнившем в основании кресте, который через десять лет завалится… все остальное умирает, сам мир уже не знает времени, и воздух, бережно и свято несущий каждый тихий перелив, питает тебя новым знанием – что ты уже не умер, что остаешься навсегда, такое торжество существования, прочное и чистое, тебя переполняет и замещает тебе кости, мускулы и кровь.
Я бы махнул на всю фортепианную муштру рукой, но только с этим беззащитным невесть откуда взявшимся неубиваемым мерцательным биением необходимо разобраться, и все тут сходится – и умное число, и упражнения для вышколенных пальцев, и наблюдения за атмосферными фронтами, так, будто вещество первоистока – это звук. Звук – та вода, которая была в начале и может расширяться и сжиматься, кипеть и замерзать необъяснимым, превосходящим человеческое разумение образом.
9– Ну хорошо, а если возвращаться к музыке – что запомнилось больше всего? Что ты тогда играл вообще, напомни.
– Ну, много разного. Все эти «этикеточные» вещи, сувениры. А так мне по нутру больше всего концерты баховские были.
– Ну, это твоя вечная любовь. Как раз те исполнения баховских концертов и принесли тебе такую шумную, насколько понимаю, славу. Считалось, замахнулся не по возрасту, по сути, начал с тех вещей, которыми иные большие исполнители, наоборот, заканчивают, да?
– Ну, знаешь, если рассуждать, что можно, что нельзя… Да и чего об этом говорить, когда можно просто послушать?..
Полуденный зной, слепящий свет стоящего в зените солнца поглотили лицо сорокалетнего, живущего в Германии Камлаева, и сквозь пустую белизну экрана пугливо проступило то, мальчишеское, круглое, припухлое…
Скрестив, скрутив худые ноги, как белье, и напряженно сгорбившись, едва не утыкаясь носом в клавиши концертного «Стейнвея», мальчишка стал похож в какое-то мгновение на слабоумного из смирных – страшно гордого тем, что доверили ему такой огромный, драгоценный инструмент; он был готов с ним управляться с тем же видом, с каким ребенок управляется с грузовиком, с расставленной к бою армией солдатиков, пыхтя, урча, под нос себе нашептывая приказы кавалерии, пулеметчикам… с превозмогающим усилием в лице, с какою-то душевнобольной осторожностью, сухим листком, снежинкой, паутинкой коснулся он клавиатуры, уронил прозрачные ледышки первых тактов – скривился, сжался в предвкушении обвала, но не обрушилось, и полетел, наращивая темп, единым духом набирая невесомые и в то же время крепкие, алмазно-твердые аккорды. Столб за столбом вставал в зенит и растворялся, погасал, истаивал в неравновесном колебании мягко-звонких отзвуков фундаментального аккордового тона.
Иван привык вот к этой сверхъестественной летучести, которая маркировалась словом «виртуозность», а тут налитые смирением пальцы переставлялись как в замедленной, такое ощущение, съемке, и был пугающий разлад между вот этой скупостью в движениях и переливчатой лавой прозрачных отголосков, которые рождались будто сами по себе – как будто руки Эдисона лишь будили звук стыдливо-бережным прикосновением, а дальше он сам продолжался, разносясь в вышину и расслаиваясь на долго истаивающие тона фигурации.
Черт его знает, как так выходило: он, Эдисон, звучал небрежно, безучастно, на слух Ивана даже как-то грязно – будто сбивая палкой тонкие сосульки, почти губя бессовестно все дело, ну что-то вдруг происходило в пределах безнадежно загубленного такта – какое-то как будто заикание… как в кирхе, как в органных трубах, и рушилась какая-то исходная симметрия, аккордовое пение смещалось будто за пределы классической Евклидовой вселенной и там, в точке схождения параллельных, разносилось в немыслимую ледяную высоту, которая вдруг становилась не то чтобы очеловеченной – незримо осиянной, и каждый такт свободным духом воспарял и в то же время оставался твердо прикрепленным к своему «подземному», неистребимо-прочному аккордовому корню.
Иван терял ориентацию в пространстве: то, что звучало у него над головой и разносило его сознание по высоте, вдруг оборачивалось мощной рекой, составленной, сплетенной, скрученной из сотни голосов, которые звеняще разбегались из-под пальцев Эдисона, неудержимо расходились, перекликались в страшном отдалении друг от друга и собирались, сковывались вновь в сияющий бездонный монолит. Небесная река несла его, бессмертие шло в расставленные сети косяком, и он, Иван, одною был из этих рыбин, которым больше не было нужды бесплодно биться головой об лед.
Высокие и чистые ребяческие голоса, не предусмотренные будто партитурой, вдруг возникали полноправно, полнозвучно в зияниях, в силовых полях между играемыми нотами. О чем поют – Бог весть. Ивану суждено было вот так ответить и обомлеть в очередной раз от великой точности родного языка. Ни страха, ни уныния, ни отчаяния, ни капли никакого «дай» и «помоги». И на осанну даже не было похоже. Камлаев-мальчик только проводил, исправно, вышколенно гнал всем существом по жилам не свое – чужое пение, не становясь преградой для этого потока. И если что-то человечье и содержалось в этом беспощадном пении, то лишь одно-единственное «дай» – из Боратынского, сосредоточенным рефреном:
Царь небес, успокой
Дух болезненный мой
Заблуждений земли
Мне забвение пошли
И на строгий твой рай
Силы сердцу подай.
Несвободное плавание, несвободное ползание
1В приемной – толчея, военврачи всех рангов, санинструкторы; стучит печатная машинка, клевками в темя, действует на нервы; из кабинета нового начальника санслужбы выходят, выбегают заплаканные докторши, с изломанными, смятыми страданием и обидой лицами.
Старинный белый кабинет огромен, как бальный зал, как половина стадиона; Варлам вошел под сводчатые потолки и оказался будто в ткацком цехе: столы как станки, секретарши – ткачихи, гудят и крутятся железные веретена неумолимо, неостановимо, соединяются, расходятся невидимые нити, плетется будто бы незримая узорчатая ткань; десятки, сотни судеб служивого народа сцепляются друг с дружкой и протекают сквозь, не задевая; тут-тук – отстукивают молоточки приговоры, отсрочки и помилования, растут свинцовые ряды машинописи, каждый – фамилия рода и имя отца, веснушки, оттопыренные уши, курносый нос, горбатый шнобель, пугливые глаза с белесыми ресницами, моргающими жалко… железное перо в песок перетирает все то, что так мама любила… картина жутковатая, монументальная, есть что-то в ней от принесения жертв Ваалу и Молоху, и в то же время скучно-будничное, затрапезное, пугающе обыкновенное.
В глубине, у широкого, во всю стену, окна, за массивным столом восседает старуха, величавая, грузная, с седым серебряным венцом и папиросой, распускающей слоисто-сизоватые цветки… совиные изжелта-карие глаза… а сбоку притулился какой-то желтовато-пегий невзрачный мужичонка с морщинистым лицом, похожим на крепко сжатый стариковский кулачок.
– Ну, значит, так, товарищ военврач, – ему сказали, – ввиду острой нехватки специалистов на санитарных транспортах вы направляетесь для прохождения дальнейшей службы на теплоход «Менгрелия» в распоряжение начсана корабля Мордвинова. Учитывая вашу хорошую работу как хирурга, личные качества и отзывы начальства… имеется решение назначить вас начальником второго хирургического отделения санслужбы корабля. Возьмете руководство персоналом, приемку раненых и выгрузку в порту, определение порядка оказания помощи… короче, полагаю, вам не нужно объяснять. Получите сегодня ваши документики и отправляйтесь на «Менгрелию», прибыть сегодня до нуля ноль-ноль. Вопросы?
«Вопрос один: а кроме гипсования и перевязки в условиях корабля возможно хоть чем-то заниматься?» – хотел спросить Камлаев и отрезал:
– Вопросов не имею.
– Ну вот и славно. Хоть один истерики не начал тут устраивать. Ну ты пойми, – сказала величавая старуха, – необходим сейчас хирург на транспортах, хотя бы один, но хороший. Теряем людей, очень много теряем. И все из-за того, что от передовой до госпиталя десятки миль морем, по суше никак. Ну не две же студентки второго и третьего курса справляться должны.
Теперь стало понятно, почему все докторши отсюда выходили заплаканными, жалкими, кричали, угрожали, сетовали, ныли: никто не хотел на корабль, сходить с ума от этой вечной зыби, от всюдного, разлитого до горизонта вещества непобедимой неопределенности, зеленолицыми стоять у борта всю дорогу, по стенке ползать от гальюна до койки и обратно… какая на хрен хирургия может быть на циклопическом корыте, которое все время черпает бортами воду?.. тут как бы самому не вытравить все внутренности в море… вот только человек не выбирает, когда и где ему быть раненым и целым, и если так случится, что соберется умирать хоть в море, хоть в заднице у черта, то ничего не остается делать: вставай к столу и помогай. Не скажешь же бойцу: что ж ты, дурак, дал себя ранить там, где ты должен быть цел?
Пон-гу уходим под землю. Фриц жмет на Сев-лъ, в воздухе темнеет от стрекота и гнета тяж-х бомбовозов, кот-е теперъ забрасывают город огром. фугасами по многу раз на дню. Состояние подавленности и нарастающей бесомощности. Полным ходом производим переправку тысячран-х бойцов в Батум и Туапсе. Ходят слухи, что госп-ль вот-вот расформируют, всех спишут в санот-л для по-луч-я новых назнач-й, перетас-т, распихают по «корытам» и по штольням. Какой вы гроб предпо-чит-те – подземный или водоплав-й? Подольному, похоже, предложили перебр-ся на Кавказ, зовет меня собой в специал-й госпиталь: «вам надо уцелеть – у вас больш. будущее». Я не могу проситься и не хочу, чтоб кто-то за меня просил.
Дождался документов – двинул в порт согласно данному приказу становиться рыбой, хотя и опасался, что в башке спокойно может помутиться еще у самого причала. Уже смеркалось, задувал сырой, пронизывающий до костей соленый ветер; Камлаев горбился, поднявши воротник.
На набережных шумно шевелились толпы краснофлотцев, курили в рукава бушлатов, переругивались, таскали ящики, тюки, на миг показывая красные обветренные лица и выразительные жилистые руки и пропадая тут же в темноте. Издалека ударил крепкий запах нефти, мазута, солнечного масла, каменного угля, машинного и оружейного железа. Пойдя на запахи, уперся в закрытые железные ворота и начал мыкаться во тьме между дощатых стен и гор неошкуренных бревен; порт встретил его умным хаосом сродни устройству муравейника, в котором может верно ориентироваться только завсегдатай; Камлаев шел на громкий шорох моря и упирался в тупики, в глухие стены нагроможденных выше человеческого роста мешков с припасами, тюков, катушек, металлического лома; все попадавшиеся редкие матросы были заняты с мешками, ящиками, тачками, другие сторожили с трехлинейкой горы таинственного хлама под брезентом и лишь махали в неопределенном направлении рукой… И вдруг услышал в отдалении – «Менгрелия», «Менгрелия», прибавил шаг, держась на голоса.
Две молодые докторши искали нужный ему транспорт, испуганные, злые; видать, прокричались, проплакались и – делать нечего – пошли. Какой-то щуплый мичман с повязкой патруля готов был их препроводить. «Э, э, братишка, стой-ка». – Камлаев козырнул, представился, немногое мог разглядеть, но то, что разглядел, заставило Варлама подивиться, пожалеть: и занесла же их нелегкая. Уж очень были обе какие-то оранжерейные – столица, чистый Ленинград. Одну звали Никой Белинской, другую – Зоей Неждановой. Завитые кудри, точеные бледные лица, смурные, с крепко сжатыми губами, с застывшим выражением испуга и напряженного внимания… сопливые носы, пылающие уши, исчезающе тонкие талии.
Камлаева влекла, притягивала слабость, в нем вызывая жалость, желание спрятать под шинелью на груди и вместе с тем жестокое, сжимающее горло, ведущее смычком по чреслам любопытство… порой женский запах становился нестерпим, случайный промельк наготы… вот шандарахнет бомбой метрах в тридцати и, до костей пронизанный ударной волной, вибрацией земли, придешь в себя, встряхнешься и вдруг неуправляемо звереешь, распираемый безвыходным желанием всеять семя, продолжиться, пока не дотянулась, не срубило.
Он взял у докторш чемодан и вещмешок вдобавок к своему, болтавшемуся за плечом. Зашагали гуськом вслед за мичманом, и с каждым шагом все слышнее становилось подступающее море, как будто ты и не своей волей приближался к невидимой черной стихии – она на тебя надвигалась, готовясь захватить, заполнить весь огромный воздух, ломающе ударить в грудь, в кадык, в похолодевшее лицо, сшибить, смести, все смыть, что помнишь о себе.
Пронизывающий ветер с моря ударил вдруг взахлест, стеной, схватив за горло, вышибая слезы; в кромешной темноте свинцово тяжким зверем ярилась черная вода – еще не косматая, но уже и не ровная. Чернее небосвода и воды лепились смутные громады кораблей, железные незыблемые горы.
«Говорила мне мама: держи коленки в сухости, а голову в тепле», – пробурчал, закрывая своей плотной тушей девушек от жестокого ветра и хлещущей мороси. Мичман долго водил их от одной черной глыбы к другой, совершенно такой же, и кричал в безответную тьму петухом: «Эй, «Менгрелия», слышишь, «Менгрелия»!..»
Шагал, как бы с тактичным участием вглядываясь в лица, мгновенно схватывал сквозь слезы тонкие каленые черты, и море будто затихало, отступало перед плаксивым побелевшим личиком Неждановой, и будто хаотическая звуковая масса, тяжелая, прессованная крепко из прорвы стонов, плачей, шорохов и визгов, насквозь просвечивалась тихой стройной мелодией – нормальные дела. А мичман все кричал, надсаживал: «Менгрелия»!
– Есть, есть «Менгрелия»! – вдруг донеслось в ответ из тьмы и с высоты. – Кто там идет?
– К вам пополнение, слышишь?
Белинская застыла перед трапом, будто перед пропастью, дурнея, задыхаясь, заливаясь уже зеленоватой, какой-то вконец больной бледностью; Нежданова держалась вроде молодцом, вот только губу прикусила. Полезли по трапу. Ладони схватывали жгучие вибрирующие поручни; чем выше поднимался, тем сильнее саднило. Ну, вроде не мутит, в воронку не затягивает. Лишь сердце гулко подступает к горлу.
Ступил на палубу и с непривычки захотел за что-нибудь немедленно схватиться.
Корабль вздыхал, скрипел, поскуливал, постанывал, подрагивал, посвистывал, как будто не было во всем плавучем организме ни одного сустава не расхлябанного; ажурные тени каких-то неведомых смутных конструкций пугающе размашисто и тяжко ходили в темноте. У трапа нес вахту мальчишка с винтовкой; другой краснофлотец, явившись на зов часового, повел их за собой меж бочек, ящиков, канатов, спустились малость вниз, пошли по коридору с железной обшивкой, толкнули дверь и очутились в залитом ровным электричеством зеркально-полированном уюте, с большим ковром и пухлыми диванами; четыре человека в черных кителях поворотились к ним с преувеличенно радушными, как бы растроганными лицами.
Начсан Сергей Ильич Мордвинов оказался лишенным выправки, сугубо, видимо, гражданским человеком, нескладным, полноватым, мягким и застенчивым, казалось, неспособным органически повысить голос и подбавить командного металла.
– Камлаев? Вы – Камлаев? Так вот вы, получается, какой. Наслышан, весьма, ваш метод обработки огнестрельных переломов бедра и голени весьма горячо обсуждался у флагманского… да, да, на совещании, наделали вы шума… вот верьте мне, что это скоро станет у нас на флоте общим направлением. И не только на флоте! Вы даже представить не можете, сколько теперь у вас последователей всюду…








