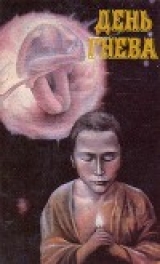
Текст книги "День гнева (сборник)"
Автор книги: Сергей Снегов
Соавторы: Север Гансовский,Сергей Булыга,Александр Бачило,Виталий Забирко,Владимир Григорьев,Борис Зеленский,Вера Галактионова,Бэлла Жужунава,Александра Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Именно поэтому она преследовалась и искоренялась. С трудом допускалось то, что называлось фантастикой научной, а под наукой подразумевались лишь изобретения и открытия не дальше скудного технического прогресса. Фантастика без особой фантазии – таково было требование к узкому кругу допущенных в печать писателей. Нередко подвергалась сомнению и правомочность самого такого названия – научная фантастика. Я сам слышал на съезде писателей РСФСР, как С.В.Михалков, сказав в обширном докладе буквально несколько слов о советской фантастической литературе, вдруг оторвался от писанного текста и заявил:
– Между прочим, я не понимаю этого странного термина – научная фантастика. Если она фантастика, то причем здесь наука? А если научная, го какое отношение к ней имеет фантастичность?
Неудивительно, что в такой душной среде подвергся гонению и на несколько лет был запрещен к печати классик нашей фантастики Иван Ефремов, писатель широкой эрудиции и глубокого философского ума.
Однако никакие преследования фантастики в издательствах, полное игнорирование ее в официальной критике не могли заглушить у читателей неизменного к ней интереса. Она всегда оставалась любимейшим жанром художественной литературы – особенно у юных читателей, жадных ко всему необычайному, ко всему, выводящему чувство и мысль за межи окружающей обыденности. Человеку, только приступающему к самостоятельному творению собственной жизни, жгуче важно знать, что ждет его в грядущем, каково оно вообще будет, это загадочное грядущее, а художественный ответ на такой вопрос могла дать только фантастика, для которой будущее – одна из любимых тем, к тому же трактуемая в форме сюжетно увлекательных повествований. И несмотря на официальные гонения на этот жанр, все больше появлялось молодых писателей, самозабвенно творящих фантастические произведения. В большинстве случаев авторы работали “в стол”, а не для печати. Я хорошо помню, какое уныние охватывало нас, старых писателей, когда мы встречались с начинающими даровитыми авторами на ежегодных, так называемых, “малеевских семинарах молодых фантастов” и в кружках фантастики в разных городах, читали и рецензировали их произведения, признавали их вполне достойными напечатания, обещали авторам соответствующую таланту известность у широкого читателя, а про себя знали, что не будет выхода к читателю, что почти никому не удастся преодолеть запретных барьеров, поставленных свирепой цензурой. Всего, если не ошибаюсь, было проведено восемь ежегодных семинаров молодых писателей фантастики, достойных опубликования произведений признали, по крайней мере, на двадцать-двадцать пять талантливых книг, но ни один сборник этих произведений так и не увидел в те годы света.
Все это, надо надеяться, ныне в прошлом. Положение в фантастике радикально переменилось. Одно ВТО – Всесоюзное творческое объединение молодых фантастов – при “Молодой гвардии” издает в год по несколько десятков сборников, многочисленные издательские кооперативы в Москве, Ленинграде и других городах добавляют к этим еще десятки своих изданий советских и зарубежных фантастов – библиотека фантастики, освобожденная от жестокой цензуры, полнится с каждым месяцем. И соответственно, молодые писатели, ранее творившие ночами после кормившей их основной работы, обычно не связанной с писательским трудом, становятся писателями-профессионалами, забрасывают все остальные занятия, кроме единственно важного – свободно создавать новые художественные произведения. В результате быстро складывается новая советская школа фантастики, со своим художественным стилем, со своим идейным характером, вполне претендующая на то, чтобы стать особым, своеобразным явлением в мировой фантастической литературе. И хотя эту молодую советскую школу фантастики, пока еще тяготят детские хвори разных, чаще всего придуманных, а не реальных направлений, взглядов и вкусов, но все более определяются новые мастера жанра, по одной силе своего таланта становящиеся выше мелочных дрязг местничества и мышиной грызни искусственно противостоящих течений. Новая художественная советская фантастика, все более освобождающаяся от должности служанки идеологии и узко партийных мнений, складывается как отрасль общемирового искусства, соединяющая в себе разнообразие творческих стилей и своеобразных лиц ее творцов.
Эйфория, вызванная внезапным бурным ростом фантастики, невольно заставляет обращать основное внимание на молодые творческие фигуры, нетерпеливо возникающие перед глазами. Но настоящее искусство никогда не бывает сборищем Иванов, не помнящих родства. Никакие новые достижения не отменяют успехов, завоеванных в прошлом, но только становятся в их ряд. Шекспир не отменил Еврипида, Пушкин не опроверг Шекспира и Гете, Маяковский с Пастернаком не затенили Пушкина и Лермонтова. Новые успехи молодой советской фантастики основываются на достижениях тех, кто в труднейших условиях несправедливой цензу-ры и унифицированной идеологии создавал фундамент того, что ныне вправе называться особой советской школой фантастической литературы.
Видным представителем таких предшественников и фундаторов современного бурного развития советской фантастической литературы является замечательный, до сих пор не оцененный в полную меру своих заслуг, писатель Север Феликсович Гансовский.
2
В XX столетии в нашей стране мало кто из старшего поколения может похвастаться безмятежной биографией. Но того конгломерата бед и лишений, какие выпали на долю Севера Гансовского, судьба удостаивает только особо отмеченных. В написанной им, сдержанной по тону автобиографии, он отмечает только основные события, почти не комментируя ни чувств, ни обстоятельств места и времени – я постараюсь кое-что восполнить, черпая из того, что он сам мне рассказывал.
“Я, Гансовский Север Феликсович, – пишет он, – родился 15 декабря 1918 года в городе Киеве. Мать, Элла-Иоганна Ивановна Мей, была дочерью зажиточной латышской крестьянки, училась в гимназии в Либаве (Лиепая). С отцом, Феликсом Павловичем Гансовским, наполовину русским, наполовину поляком, она встретилась в Петрограде в 17-м году. Его я не помню, он умер в 20-м году. В этом же году мать со мной и моей сестрой перебралась в Петроград к родным. Работала кондуктором, вагоновожатым – мы с сестрой ездили вместе с ней в трамвае маршрута № 10. Он ходил в Ржевку, и там в те времена действительно росла рожь. Потом мать окончила курсы счетоводов, после них – курсы бухгалтеров, вышла замуж, и мы, дети, стали жить у тетки с бабушкой. Мать присылала из разных городов деньги, в 1938 году умерла”.
Надо пояснить сообщение о том, что детей – десятилетнего мальчишку и его сестру – забрала бабушка, а мать сперва посылала деньги из разных городов, а потом умерла. Север Феликсович рассказывал мне, что его мать не просто уезжала из Ленинграда в другие города, а была выслана во время великих ленинградских репрессий середины тридцатых годов, потом арестована, а в 1938 году расстреляна в тюрьме. Я спрашивал, почему он умолчал о такой трагедии, он отвечал, что ему страшно даже вспоминать, что его мать, далекую от политических схваток тех лет, так жестоко покарали только за то, что она представлялась классово чуждой по происхождению, к тому же женой репрессированного второго мужа. Он бледнел и сжимался, вспоминая через сорок лет ужасную судьбу своей матери, – можно понять, какой мучительный, какой неизгладимый отпечаток положила эта трагедия на душу впечатлительного мальчика.
“Учился я в 20-й средней школе Куйбышевского района, – продолжает Гансовский автобиографию. – В 1933 году с грехом пополам окончил семь классов. Поехал в Мурманск – там были знакомые, работал матросом, электромонтером, грузчиком. В 1937 году решил поступить в Морской техникум в Ленинграде, но из-за нерусской фамилии, вероятно, не прошел мандатную комиссию. С горя отдал документы в Ленинградский электротехнический техникум на Васильевском. Кончил отличником два курса, понял, что не люблю эту специальность. Ушел из техникума, работал опять грузчиком, монтером и ходил в вечернюю школу для взрослых. В армию в положенный срок меня не взяли – думаю, что снова из-за фамилии. В 1940 году поступил в ЛГУ на филфак. Проучился год, началась война. Тут уж на фамилию не обращали внимания, просто пришел во двор университета, где формировалось народное ополчение, и отправился на фронт”.
И опять в краткой сводке событий самостоятельной жизни юноши Гансовского нет того, что наполняло эту жизнь драматическими переживаниями. Пятнадцатилетний мальчик не просто уехал в Мурманск искать работы, а бежал после высылки матери из охваченного репрессиями Ленинграда, чтобы самому не угодить в ссылку, а в Мурманске попутно добыть несколько лет рабочего стажа, гарантирующего иной социальный статус. Современному юноше непонятны такие термины, как лишенец, социально чуждый элемент, сын репрессированного, но в годы юности Гансовского они определяли все возможности жизни. И накопив три года рабочего стажа, то есть перейдя в иное социальное положение, молодой Гансовский с радужными надеждами возвращается в Ленинград. Но тут встает новое – и неожиданное – препятствие – неблагонадежная фамилия. В устных рассказах Севера Феликсовича отчетливо звучало то, что лишь упомянуто в написанной автобиографии, – овладевшее им тогда отчаяние, чувство обреченности – всегда оставаться человеком не только второго сорта, но хуже того – вообще нежеланной для общества человеческой категорией. И вступление в ополчение, после отказа призыва в армию, Гансовский воспринимает с облегчением, – теперь он снова как все, допущенные к вольному существованию люди.
Война была общей трагедией всего советского народа, частной трагедией каждого фронтовика. Север Ган-совский внес в нее и свои особенности. Он пишет: “Часть нашу – 169-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон – разбили скоро. Попал в новую, такую же недолговечную. Осенью 41-го года на подступах к Ленинграду отступали, держались, снова отступали – незначительная контузия, легкое ранение в счет не шли. Присоединился к морской пехоте, воевал под Ораниенбаумом, возле нового Петергофа. В конце августа был ранен посерьезней. Лежал в госпитале в университете, в здании исторического факультета. Оттуда, уже “законно”, в составе 4-й морской бригады КБФ пошагал на Невскую Дубровку. Там было чрезвычайное происшествие. Приданная бригаде рота, сформированная из уголовников, во время атаки пошла сдаваться в плен. Мы стреляли по ним. Прибыла потом комиссия, построила тех, кто после боя остался в строю, стали на выдирку беседовать. Обнаружили мою польскую фамилию, имя, сказали, что должен ехать в Киров, где формировалась тогда польская армия. Мне неловко стало перед товарищами. Киров-то из Невской Дубровки выглядел санаторием – попросил остаться. Тогда было приказано в краснофлотской книжке переделать национальность с поляка на русского – им и являюсь. Через несколько дней в новой атаке был тяжело ранен. Блокадная зима 1942 года прошла в госпитале. В марте вывезли в Тюмень, там зимой 42-го демобилизовали по инвалидности. Так кончилась для меня война – отвоевал ее в пехоте и морских частях рядовым”.
Но если фронт для молодого инвалида кончился сравнительно благополучно, то другие жизненные испытания пошли густым строем. Еще не вполне оправившийся от наскоро залеченных ран, будущий писатель метался по Сибири в поисках посильной работы и защиты от голода, царствовавшего во всем тылу. И хоть физических сил оставалось не густо, неистощимая жизненная энергия принуждала почти непрерывно менять места обитания – своеобразный рудимент того, что в иное, более благополучное, время называлось “ветром дальних странствий”. Он со сдержанным юмором так описывает свои тогдашние географические скитания. “Въезда в Ленинград тогда не было. Взял направление в Узбекистан. В Фергане поступил было в Московский институт восточных языков, проучился несколько месяцев и решил поехать в Алма-Ату, где был тогда филфак Московского университета. Но заболел тифом, оголодал, пошел работать почтальоном в совхоз № 1 НКВД под городом. Был там год. Надоело. Был и учителем семилетки, потом поехал в горы, на конный завод № 55 “Дегерез”. Был там секретарем конной части, ездил по табунам зиму и лето, жил в юртах, все время верхом. Но уже шел 1945 год, Россия была освобождена, по селам местные девушки и женщины пели: “Голубчик ты мой, возьми меня с собой!”. Всех тянуло на запад, начинался обратный исход инвалидов и эвакуированных в родные места. Но в Ленинград пропуска все не давали. Захотелось к морю, решил посмотреть Одессу. Добрался туда, провел в Одессе два года, то там, то здесь работая как инвалид 2-й группы, но больше тянул на пенсии. В 47-м заскучал по Ленинграду, решил возвратиться в университет. Родные, кто был, погибли в блокаде. На старой квартире вселившиеся туда соседи дали мне присланные по адресу две похоронки на меня – одна, с Невской Дубровки, до сих пор сохранилась. Вдруг нашлась сестра. Она воевала, теперь была больна и с маленьким сыном. Снова стал студентом, к стипендии пришлось прирабатывать грузчиком. А с 1949 года начал печатать в газетах статьи и рассказы”.
Последняя фраза в автобиографии, звучавшей в этой части как исповедь, а не только как сводка обязательных сведений о себе, особо знаменательна: Гансовский делает, вероятно, самый крупный поворот в своей жизни – становится писателем. Все жизненные обстоятельства подталкивали именно к такому решению своей судьбы: во-первых, огромный жизненный опыт, накопленный в жизненных передрягах до войны, во время войны и особенно в послевоенных скитаниях по разрушенной, оголодавшей стране – этим опытом, которого с лихвой хватило бы на десяток, а не на одного, жгуче хотелось поделиться с другими людьми; и во-вторых, молодого инвалида всегда тянуло к литературе, он с жадностью читал, мечтал о литературе не только как о профессиональном занятии, но как, что было еще важней, о духовном самовыражении, о единственном способе донести до всех те мысли, те чувства, те надежды, которые бурно наполняли его самого.
И студент Ленинградского университета Север Гансовский, рекомендованный в аспирантуру, отказывается от научной карьеры, оставляет без защиты уже написанную диссертацию “Исторические романы Говарда Фаста”, бросает предложенную чиновничью должность и весь погружается в литературную работу – пишет очерки, рассказы, рецензии, одноактные пьесы, которые неоднократно получают премии на конкурсах. Сперва все это – чисто реалистические произведения, некоторые – особенно одноактные пьесы – в той лакировочно-парикмахерской манере, которая получила наименование “социалистического реализма”. Но все больше Гансовским овладевает тяга к фантастической литературе, она постепенно становится главной, а потом и единственной темой его литературного творчества.
Для такого поворота к фантастике были важные социальные психологические предпосылки.
Гансовский в который раз остро сталкивался с проблемой, искусственно и безжалостно раздуваемой сталинизмом, – проблемой национальности.
С чувством глубокой горечи, с сознанием творимого ему и миллионам таких, как он, жестокого, ничем не оправдываемого оскорбления, он так пишет об этом в очерке, выразительно названном “Государственная неполноценность”:
“Шел февраль 1953 года. В стране после первых арестов “убийц в белых халатах” с целью отделить “чистых” от “нечистых” негласно проводилась кампания “по установлению истинной национальности”. Воздух тогда повсюду сгустился, в нем зависла напряженность, ожидание катастрофы. На улицах, в учреждениях люди замолчали. Только по коммуналкам шепотом передавали слухи, будто в Ленинграде и других крупных городах уже приготовлены составы, чтобы вывести евреев, поляков, полуполяков, латышей и всяких такого же сорта инородцев в дальневосточную тайгу… Народ к этому времени был окончательно разделен на две части. Принадлежность к первой, малой, делала данное лицо всегда и во всем правым. Отнесенные к части второй, включавшей едва ли не всю нацию, были постоянно виноваты. Прежде всего в том, что плохо стараются расплатиться за величайшее, только советским людям выпавшее счастье иметь такого руководителя, как Сталин. Каждый на своем рабочем месте обязан был сознавать, что в ответ на ниспосланное ему сверху почти божественное благо он не делает все, что надо. А если делает, то не так, и по справедливости должен когда-нибудь понести наказание – может быть, вплоть до расстрела… В счет не шли героизм на прошедшей войне, отлично выполняемая работа, талант, совесть… На банкете в честь победы Генералиссимус произнес двусмысленный, с усмешечкой тост за долготерпение русского народа. Тотчас существенным для выживания сделалось быть или числиться чисто русским. Однако, если в анкете были пометки “состоял”, или “имел колебания” или, к примеру, тетку, родившуюся на бывшей румынской территории, они отбрасывали владельца испачканного документа неизвестно куда”.
В этом сильно написанном горьком документе прояснены давние причины того неистовства национальных распрей, недалеких от прямой гражданской войны, которые раздирают сегодня наши окраинные республики. Национальная политика сталинизма, гонение на нежеланные ему народы, высылка целых республик с родных искони мест, разделение наций на низшие и высшие – создавали почву для глухой внутренней вражды, которая теперь проявляет себя жестокими национальными раздорами.
Гансовский продолжает свою исповедь:
“С 47-го года, когда вернулся в университет, постоянно привыкал к мысли, что низший сорт. И привык, понимал, что виноват во многом. В том, что не комсомолец и не член партии, что имя-фамилия не русские, что родился в городе, а не в селе – тогда особую цену получили выходцы из деревни как наиболее близкие к народу – и в том даже, что во время войны не дошел до Берлина, а демобилизовался в сорок втором”.
Гансовский получил повестку, вызывающую в милицию для выяснения “истинной национальности”. “Допрос в кабинете вел майор, примерно моего возраста, крепкий, широкоплечий. Когда нагибался, выдвигая ящик стола, или тянулся к телефону, на груди тихонько звякали боевые ордена”.
Гансовский с мрачным юмором описал картину допроса:
“– Твоя фамилия – Гансовский?
– Да, Гансовский.
– Тебя звать – Север?
– Север.
– Отчество – Феликсович?
– Да.
– А в паспорте – русский. Как же так?
– Ну и что? Не африканец, не индеец. Родился в России. Все мозоли, все шрамы местные, потому что жил, работал, воевал здесь и нигде больше. Родной язык – русский, только на нем говорю и думаю. Раз такое положение, меня же никакая другая нация в свои не примет. Куда же мне податься, ответь?
– Но подожди! Твоя фамилия – Гансовский?
– Гансовский.
– Звать – Север, отчество – Феликсович. Какой же ты русский?
– А кто я?
– Вот это и надо выяснить”.
В ходе дальнейшего выяснения майор узнал, что латышка бабушка Гансовского вышла замуж за цыгана, что мужем матери, полулатышки-полуцыганки, был полуполяк-полурусский и что в крови самого Севера смешались гены латыша, цыгана, поляка и русского, – и совершенно растерялся: какую же национальность внести ему в пятую графу анкеты допрашиваемого?! И еще он узнал, что среди прочих мест на фронте Гансовский воевал и на Невской Дубровке, самом кровопролитном пункте Ленинградского фронта, был там тяжело ранен, получил орден Отечественной войны, несколько медалей, имеет и две похоронки, потому что его, вынесенного с поля боя без сознания, сочли погибшим, – и уже не растерялся, а растрогался. Боевое сердце майора не могло не почувствовать родного товарища в человеке с непонятной национальностью. И еще погоняв Гансовского по разным местам в поисках нужных документов, он потом набрал по телефону номер и доложил своему начальнику, закончив:
– Считаю, что если солдат стал русским во время блокады в сорок первом на Невской Дубровке, значит, так и есть.
На далеком конце провода держались, однако, иного мнения. Майор начал разговор сидя, а теперь стал подниматься, выпрямляясь. Долго слушал, потом сказал:
– Но я, товарищ полковник, уже закрыл дело. Отпустил человека.
Снова что-то гневное неслось из важного кабинета. Лицо майора окаменело. Стоя в положении “смирно”, он лишь изредка вставлял:
– Понятно, товарищ полковник… Слушаю, товарищ полковник… Никогда, товарищ полковник…
Опустил наконец трубку, сел, посидел, глядя в стол. Затем поднял голову.
– Все в порядке. Иди… И не думай больше об этом. Счастливо.
И я пошагал через мост к университету, чтобы успеть на последнюю лекцию”.
Счастливо наконец утвержденная душевным майором “истинная национальность”, которую биологически гарантировала лишь четвертая часть имевшихся в теле генов, положила конец загадкам происхождения, мучившим писателя-инвалида. И во многом определила его влечение к фантастической литературе, самому интернациональному, самому свободному от националистических предрассудков художественному жанру мировой литературы. Герои его главных произведении прежде всего просто люди с общечеловеческими лучшими чертами, с тем, что называется “человечностью”, а конкретная их биологическая национальность скорей формальное название, а не существенная черта характера. И это вполне совпадает с природой и духом фантастической литературы.
Почти сорок лет Север Гансовский работает как писатель, с каждым годом приобретающий все большую популярность у широкого, особенно у молодого, читателя. Каждый год-два появляются его рассказы и повести в разных сборниках и авторских книгах.
Перечислю только главные напечатанные им книги, не включая отдельные брошюры с одноактными пьесами и очерками.
1. “В рядах борцов”, рассказы. Детгиз. 1951 г.
2. “Надежда”, рассказы и повесть. 1955 г.
3. “Шаги в неизвестное”. Детгиз, повести и рассказы. 1963 г.
4. “Шесть гениев”, повесть и рассказы. Знание. 1965 г.
5. “Три шага к опасности”, рассказы. Детгиз. 1969 г.
6. “Идет человек”, повести и рассказы. Мол. гвардия. 1971 г.
7. “Человек, который сделал Балтийское море”. Мол. гвардия. 1981 г.
8. “Инстинкт”, повести. Мол. гвардия. 1988 г.
В 1967 году Север Гансовский был принят в Союз писателей СССР, но не как создатель фантастических произведений, а как автор военных рассказов и пьес (в приведенном списке их почти нет).
Севера Гансовского, автора почти десятка фантастических книг, широко известного писателя, ни разу не выпускало официальное издательство Союза писателей “Советский писатель” – видимо, по твердому убеждению тогдашних руководителей издательства, что фантастика стоит вне пределов художественной литературы.
Зато почти все книги Севера Гансовского переводились на иностранные языки и нашли своего читателя во многих странах.
3
Первые фантастические произведения Гансовского относятся к тому жанру, который называется научной фантастикой и даже уже того – научной фантастикой “ближнего прицела”, то есть опирающейся на научные свершения довольно частного характера. Вначале их было трудно отличить от обыкновенного научно-популярного очерка, если не обращать внимания на важную творческую особенность писателя – они всегда художественны, в них всегда главным героем является человек, совершающий открытие, а не открытие само по себе. Даже в этих первых фантастических произведениях герой никогда не рисуется лишь деловой, научно-технической функцией с человеческой фамилией – это обычно своеобразный характер, живой человек среди жизненных обстоятельств места и времени. Главная особенность “большой” художественной литературы – человековедение – составляет отличительную характеристику письма Гансовского даже в первых, “чисто научных” произведениях.
Типичным в этом смысле является один из самых ранних рассказов Гансовского “Новая сигнальная”. Солдат Коля Званцев видит “вещие” сны. Он вдруг превращается в приемник телепортируемых ему издалека чужих переживаний, молчаливых надежд и тайных действий разных людей на невидимом отдалении. Проблема психологического телесознания, естественно, из разряда чисто научных, недаром на этот рассказ откликнулись со своими оценками специалисты психологи, но и для писателя – и для читателя – еще важней сами герои рассказа – и Коля Званцев, внезапно превратившийся в ясновидца во время подготовки к бою и в бою, и старый крестьянин, и его глухонемая дочь, хитро замаскированные немецкие шпионы из местных жителей, и товарищи Коли, воспользовавшиеся его видениями для успеха в сражении, – рассказ воздействует на читателя и острым сюжетом, и четко выписанными характерами персонажей, а не только умело использованным явлением из разряда “научных проблем”.
Еще острей зависимость технического открытия от характера героя видна и во всех дальнейших повестях и рассказах. Так в “Ослеплении Фридея” сам Фридей, многократный изобретатель разных механизмов, придумывает темновидение, умение различать предметы в полной тьме, но зато при дневном свете сам слепнет. Его товарищ Беккер пытается применить изобретение для военных целей ради наживы, но Фридей, узнав об этом, уничтожает механизм темновидения, заодно погубив себя и покалечив Беккера. Изобретение ночного видения – кстати первые приборы такого рода реально разрабатывались еще во время войны физиками, которых я лично знал, а ныне приняты на вооружение в главных армиях мира – служит для писателя лишь отправной точкой для раскрытия двух борющихся характеров – бескорыстного изобретателя и корыстного приобретателя.
Точно так же в “Шагах в неизвестное”, напоминающем известный рассказ Г.Уэллса “Новейший ускоритель”, разряд шаровой молнии порождает у интеллигента Коростылева и уголовника Жоры ускорение всех их движений сперва в 300, потом в 900 раз. Они становятся практически невидимы для окружающих. Но все, что случается затем с ними, определяется различием их характеров. Коростылев выхватывает девчонку из-под колес паровоза, Жора уносится грабить магазины и банки, но затем, измученный собственной стремительностью, мчится к Коростылеву просить спасения от себя самого. Все действия совершаются в течение обычных тридцати минут, но для героев они растягиваются на десятки часов их мучений, совершенно особых у каждого.
Север Гансовский написал не один десяток рассказов, в сюжетной основе которых лежит какое-либо техническое изобретение, либо открытие, но само развитие сюжета в каждом представляет взаимодействие и борьбу разных характеров их героев. Человек в фантастических обстоятельствах – таково их литературное содержание. От этого строгого художественного канона “большой” литературы Гансовский никогда не отступает – и потому даже самые ранние его произведения являются продуктами настоящего искусства.
Но если он никогда не изменял законам художественности в своем творчестве, то его отношение к тем научно-фантастическим фактам, какие он делает отправной точкой сюжета, непрерывно и закономерно меняются – от восхваления и признания до критики и осуждения. Оценивая его литературное наследие в широком плане, можно сказать, что Гансовский начал с восхищения техническим прогрессом и постепенно пришел к мысли, что в современном его исполнении он способен принести больше горя для человека, чем радостей.
Такое категорическое суждение нужно дополнить важным разъяснением. Дело в том, что Гансовский никогда не выступает примитивным противником технологического развития. В наше время в литературе появились открытые враги НТР, современные продолжатели луддитов, – древних, XVIII века, разрушителей машин в Англии. Гансовский с такими узколобыми людьми не только не имеет ничего общего, но, даже включая последние свои произведения, является их принципиальным противником. И в ранних, и в поздних его вещах чувствуется глубокое уважение к человеку, обладающему способностью к техническому творчеству, он открыто любуется его созданиями. Таков, например, рассказ “Идет человек”, где пещерные люди, изобретая рог, имитирующий рев пещерного льва, спасают этим себя от уничтожения гигантскими свирепыми обезьянами. Или “Соприкосновение”, где некий Коростылев создает способность дышать в воде, открывающую огромные возможности для расширения границ человеческого существования. Или “Пробуждение”, где герой Пряничников, заглатывая изобретенную кем-то пилюлю, развивает дремлющие в нем таланты живописца, музыканта и математика. И даже если изобретение видимой пользы не приносит, как создание черного пятна, поглощающего все волны видимого спектра в одном из лучших рассказов Гансовского “Шесть гениев”, то он все равно восхищается этим творением физика Георга Кленка, как образцом вдохновенных усилий гениального человеческого разума.
Таких примеров можно привести десятки. От начала своей писательской деятельности до последних вещей Гансовский неизменно восхищался творческими способностями создателя необыкновенных вещей, удивительных открытий, поразительных изобретений. Человек, умножающий активные силы природы, реализующий таящиеся в ней потенциальные возможности, – такова любимая главная тема всех фантастических произведений Гансовского.
Но изобретения человека – каждое плод его творческого гения – осуществленные начинают жить своей собственной жизнью, и эта их новая жизнь очень часто отлична от той цели, какую ставил перед собой их творец. Восхищение создателем необходимо должно соединиться с общей оценкой результатов его творчества. Индивидуальное любование изобретателем превращается в философское понимание последствий общего числа непрерывно творимых изобретений. Гениальный одиночка поглощается тем общим явлением эпохи, которое называется научно-технической революцией – НТР. И тут перед писателем раскрывается неожиданная картина. Тысячи создателей по-прежнему покоряют Гансовского силой своего интеллекта, но общий итог их деятельности – эта самая НТР – все больше вызывает в нем сперва мучительные сомнения, потом прямые опасения, наконец, открытую критику.
Эволюцию Гансовского в понимании НТР можно отчетливо проследить в цепочке последовательно печатающихся его произведений.
Сперва он начинает с сомнения в практической нужности некоторых изобретений, хотя они сами по себе по-прежнему восхищают его своим остроумием и творческой изощренностью. Особенно это видно в рассказе “Электрическое вдохновение”, который сам Гансовский считал настолько важным для себя, что несколько раз переиздавал в разных сборниках. Изобретатель гарантирует режиссеру театра, что при помощи излучения сконструированного им волнового прибора он вызовет в бездарной актрисе, играющей старуху-мать в “Бешеных деньгах” Островского, такое вдохновение, что она станет вровень с великими мастерами сцены. И точно, актриса играет вдохновенно и мастерски. Но потом выясняется, что волновой прибор тут ни при чем, он был даже не включен, а удивительный подъем у старой актрисы вызван счастливыми событиями у ее сына, а еще больше тем, что всегда ругавший ее режиссер – для облегчения испытания прибора – впервые похвалил ее перед спектаклем.







