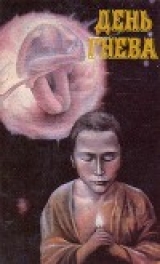
Текст книги "День гнева (сборник)"
Автор книги: Сергей Снегов
Соавторы: Север Гансовский,Сергей Булыга,Александр Бачило,Виталий Забирко,Владимир Григорьев,Борис Зеленский,Вера Галактионова,Бэлла Жужунава,Александра Богданова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц)
Annotation
Сборник, составленный по материалам семинаров Всесоюзного творческого объединения молодых писателей-фантастов при ИПО “Молодая гвардия”. Здесь публикуются также произведения известного писателя Севера Гансовского и новые переводы зарубежной фантастики.
СОДЕРЖАНИЕ:
РУМБЫ ФАНТАСТИКИ
Александр Бачило. Место встречи
Александра Богданова. Освободите площадку лечу-у-у!..
Сергей Булыга. Железное кольцо
Вера Галактионова. Тятька пошутил
Сергей Снегов. Памяти Севера Гансовского
Север Гансовский. Хозяин бухты
Север Гансовский. Спасти декабра!
Север Гансовский. День гнева
Владимир Григорьев. Паровоз, который всегда с тобой
Белла Жужунава. Нежно Зеленеющая На Рассвете
Виталий Забирко. За морями, за долами, за высокими горами…
Виталий Забирко. Сторожевой пес
Борис Зеленский. Экспонаты руками не трогать
Борис Лапин. Ыргл
Геннадий Прашкевич. Ловля ветра, или Шпион против алхимиков
Геннадий Прашкевич. Счастье по Колонду
ПЕРЕВОДЫ
Персиваль Уайлд. Цепочка огней
Составитель:В.В.Федоров
ДЕНЬ ГНЕВА
РУМБЫ ФАНТАСТИКИ
Александр Бачило
Александра Богданова
Сергей Булыга
Вера Галактионова
Сергей Снегов
1
2
3
Север Гансовский
Север Гансовский
Север Гансовский
Владимир Григорьев
Белла Жужунава
1
2
3
4
5
Виталий Забирко
Виталий Забирко
Борис Зеленский
ПРЕДЫСТОРИЯ
Глава 1. НАЧАЛО ИСТОРИИ
Глава 2. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Глава 3. ИНТЕРЛЮДИЯ
Глава 4. ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОДОЛЖЕНИЯ
Глава 5. НАЧАЛО КОНЦА
Глава 6. КОНЕЦ ИСТОРИИ
Борис Лапин
1
2
3
4
5
6
7
8
Геннадий Прашкевич
1
2
3
4
5
6
7
8
P.S
Геннадий Прашкевич
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПЕРЕВОДЫ
Персиваль Уайлд
1
2
3
4
5
6
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ДЕНЬ ГНЕВА


РУМБЫ ФАНТАСТИКИ

Александр Бачило
Место встречи
Бон-Киун бросил взгляд на часы и покачал головой. Что-то случилось, подумал он. Слишком мало в нашей работе простых случайностей, слишком близко у края мы ходим. Ролли должен был появиться еще в гостинице, он передал, что вылетит утром, и вот его нет, а до начала заседания осталось всего двадцать минут.
Спокойно… Не надо паниковать Нервишки, конечно, разгулялись за эти годы, но ничего, мы еще крепенькие. Спокойненькие мы еще. Умненькие. Мало ли что могло произойти? Начальство задержало или поклонники. У него в последнее время что-то особенно много поклонников. Настырные, как раковыдры, и ведь не соображают ни черта, а за автограф готовы отца родного… Ну вот, я опять волнуюсь, это никуда не годится.
Ну, раскусят кого-нибудь из нас, не убьют же? Хотя, конечно, дело не в этом. Нам здесь, естественно, ничего не угрожает. Уровень развития здешнего общества довольно высок. Довольно, но недостаточно. И поэтому наше разоблачение опасно не нам, а им. Слишком легко многие из них могут превратиться в бездельников, в нахлебников более развитой цивилизации. Допустить этого мы не можем. Не имеем права. А потому никто здесь не должен знать о нас слишком много…
Где-то хлопнула дверь, и в пустом коридоре гулко раздались шаги. “Наконец-то”, – облегченно вздохнул Бон-Киун и тут же подумал: “Это удивительно, я уже узнаю его по шагам…”
В комнату вошел резидент службы Односторонних Контактов, верхний инспектор Роллис. Быстро оглядевшись по сторонам, он в знак приветствия шевельнул ухом Бон-Киуну, снял шляпу, бросил ее на стол и принялся расстегивать плащ.
– Все в порядке, – ответил он на вопросительный взгляд прогрессора. – Я задержался из-за “Кадавра”.
Бон-Киун оживился:
– Ну и как?
– Они согласны, но не раньше будущего года… Я думаю, нам это подходит.
– Разумеется!
Роллис сел за стол и, подперев голову рукой, надолго задумался.
– Знаешь, Ки, – сказал он наконец. – Мне сегодня вдруг вспомнились дом и наша школа, и Згут, и все-все… Сколько мы там не были?
Бон-Киун промолчал.
– Я иногда задаю себе вопрос, – продолжал Рол-лис, – не зря ли мы торчим здесь все эти годы? Мы хотим заронить в их мозги маленькое зернышко мысли, мы дошли уже до самых определенных намеков, а для них все это остается набором забавных побасенок.
– Ты просто забегался, Ролли, – сказал Бон-Киун. – Вспомни, ты же сам говорил, что придет время, и они все поймут, начнутся события, и они обнаружат, что такая ситуация уже предусмотрена нами!
– Обнаружат, если начисто не забудут нас к тому времени. Легенда связала нам руки, и теперь мы для них – самые обычные работяги индустрии развлечений.
– Брось, Ролли. Я боюсь, что нам, как раз наоборот, не удается слиться с массой этих “Работяг”, несмотря на все усилия.
Бон-Киун замолчал и посмотрел на дверь. Она сейчас же открылась, и в комнату вошел невысокий улыбающийся юноша.
– Все в сборе, – сообщил он радостно. – Можно открывать заседание.
Роллис и Бон-Киун поднялись и последовали за ним в конференцзал. При их появлении из-за длинного, уставленного цветами стола поднялся председатель и, обращаясь к публике, заговорил:
– Дорогие друзья! Сегодня на заседании нашего клуба присутствуют почетные гости. Это хорошо всем вам известные писатели-фантасты…
И до отказа переполненный зал взорвался аплодисментами.
1983 год.
Александра Богданова
Освободите площадку лечу-у-у!
Только к Новому году письма с заграничными штемпелями перестали приходить на крупный железнодорожный узел Кузятин, и почтальонша Вера Никифоровна, дважды подававшая из-за них заявление об уходе, вдруг к удивлению своему обнаружила, что без писем ей чего-то недостает. То же ощутили и другие жители крупного железнодорожного узла, а наиболее дальновидные поняли, что эта непопулярность их городка – только временное затишье перед очередной бурей. Ибо кузятинцы, несмотря на малочисленность – вот уже полвека они безуспешно стараются произвести на свет рокового двадцатитысячного жителя – были людьми к славе привыкшими.
Хорошенький южный город, зимой пушистый от снега, а летом от вишневых садов, Кузятин как стоял десять веков назад на пути “из варяг в греки”, так по сей день и стоит, и трудно припомнить какую-нибудь перетурбацию на юго-западе страны, которая бы его не коснулась. Каждая перемена оставляла на памяти городка новую зарубку, а в учебниках истории укладывалась двумя – тремя скромными строчками, но зато по соседству с Екатеринославом, Киевом, а иногда и Москвой. Нет такого кузятинца, который бы, выехав на отдых или по делам службы за пределы города, не преминул между прочим сообщить людям непосвященным, что с обратным билетом ему придется туго: экспресс “Париж – Кузятин – Москва” битком набит французами, а скорый “Вена – Кузятин – Москва” идет через Братиславу и свободные места расхватали чехи.
Вообще, средоточием всей жизни города является вокзал. С тех пор, как в его фундамент был заложен первый кирпич, кузятинцы сохраняют привычку прогуливаться по перрону, как по проспекту, и узнавать здесь новости дня прежде, чем о них сообщит программа “Время”.
Местная публика избалована отголосками больших событий и чужой славы. Испугать ее ничем нельзя, удивить почти невозможно. Почти… Ибо раз уж мы начали рассказ о Кузятине и кузятинцах письмами с заграничными штемпелями, нам придется поведать историю, удивившую даже этот крупный железнодорожный узел юго-запада страны.
История началась в июле месяце, когда вокзальный перрон особенно хорош, когда вперемешку с джинсами и маркизетами отпущенной на каникулы учащейся молодежи мелькают здесь серые юбки их бабушек рядом с вишневыми и черничными ведрами, а вокруг фонтанчика – голопузого мальчугана, раскрашенного сочными красками, из которого пил, говорят, Симон Петлюра, удирая от большевиков, – вокруг этого фонтанчика живой клумбой выстроились цветочницы, и в букетах их розы “Мери Пикфорд” перемешались с подвявшими васильками. В те дни васильков и вишен потребовалось особенно много, а три репродуктора, подвешенные к вокзальной стене в стиле псевдоанглийской готики, распевали день и ночь напролет бойкие молодежные песни.
Все вообще было организовано здесь в наилучшем виде, потому что в июле месяце через Кузятин на Москву пошли не какие-нибудь там парижские экспрессы, а поезда дружбы, увозившие в столицу на фестиваль юных французов, немцев, венгров, греков, болгар – словом, всех тех, кто предпочитал ненадежным воздушным линиям стальные рельсы и четкое расписание. В крупном железнодорожном узле поезда ненадолго останавливались, и разноликая, разноцветная, разноязыкая толпа высыпала из вагонов, как спелый горох из стручков. За десять-пятнадцать минут стоянки она успевала протанцевать пару танцев в кругу, скупить цветы и вишни, перезнакомиться со здешними джинсами и маркизетами и даже обменяться с ними адресами. Потом бил вокзальный колокол – кузятинцы, слава Богу, отстояли это свое право – перрон пустел, фестивальные гости махали из уплывающих окон, а бабуси торопились домой за свежими вишнями, потому что до следующего поезда оставались считанные часы.
Так было день и два, и три, и городу уже начинало казаться, что атмосфера праздника сохранится здесь навсегда и поэтому следующий фестиваль Всемирная федерация демократической молодежи постановит непременно провести в Кузятине.
Но за день до открытия фестиваля с последним поездом дружбы из Рима, затесавшись со своей гитарой в веселую итальянскую толпу, уехала в Москву кузятинка Лариса Семар. С перрона проводил ее одобрительным лаем черный пес Бурбон, по праву рождения призванный спасать людей в Швейцарских Альпах, но по иронии судьбы вынужденный сторожить кузятинские сады. Отсутствия Ларисы никто поначалу не заметил, к вечеру всполошилась мать, а утром следующего дня, часов в десять, телеграфный аппарат на почте отстучал срочную телеграмму: “я на фестивале тчк мне нравится тчк целую зпт ваша ляля”.
Город пришел в волнение. До сознания кузятинцев, убаюканных весельем фестивальных поездов, только теперь дошло, что они прозевали и не выдвинули на мероприятие своего официального представителя и что самовольный поступок Ларисы Семар может подорвать сложившийся в мире авторитет крупного железнодорожного узла, потому что Семар девочка необычная (так говорит о ней классная руководительница Маргарита Евгеньевна) или девочка “с пунктиком” (так говорят все прочие кузятинцы, за исключением Бурбона и еще одного человека, о котором речь пойдет ниже).
Разве нормальная, без “пунктика” девочка, скажем, Зоя Салатина, могла бы написать в сочинении по “Герою нашего времени”: “Если бы Печорин слетал в космос, а Онегин занялся генетикой, у них не возникли бы вопросы “как жить?” и “стоит ли жить вообще?” Они бы поняли – жить стоит. Жить, но не прозябать. Иначе не стоит”.
Маргарита Евгеньевна, женщина молодая, но сдержанная, проверяя сочинение, пожала плечами и подумала: “Девочку, конечно, заносит, но обсуждать сочинение в классе не стану; это может сказаться на ее психике. Зачитаю-ка я лучше выдержки из умненькой Салатиной”. И стала зачитывать: “Типичный представитель своего класса, Печорин переезжает с места на место, ищет ответ на вопрос: “стоит ли жить?” Он человек хотя и образованный, но знания применить не может и потому оказывается “лишним человеком”…
На дворе стоял тогда октябрь, в оконных рамах жужжала муха, недалекие пути стонали под тяжелыми товарняками, а голос Маргариты Евгеньевны и то, что она читала, сливался в монотонный осенний гул, от которого сами собой выплывали изо рта зевки и глаза слипались в электрическом желтом свете, тоже ненужном и скучном. Лариса за последней партой слышала только этот осенний гул и пыталась переложить его на стихи и одновременно на музыку. Припев выходил ничего, смесь “лишнего Печорина” с колесным тарарамом, и поэтесса так увлеклась, что Маргарита Евгеньевна из другого конца классной комнаты вдруг услыхала довольно мелодичное, задушевное пение. Она на полуслове прервала выдержку из Салатиной и выразительно посмотрела на последнюю парту. Проснувшийся от тишины класс дружно обернулся в том же направлении. Мечтательная Семар продолжала напевать, рисуя на запотевшем стекле октябрь, Маргариту Евгеньевну и далекую страну Элладу, где сочинения детям разрешали писать стихами.
Вообще, если бросить на чашу весов все то, что пережила и перестрадала из-за Семар Маргарита Евгеньевна, то на другую чашу придется положить десять лет жизни и тысячу седых волос. Из ее сочинения “Пусть всегда будет солнце” Маргарита Евгеньевна, к примеру, поняла, что не сегодня-завтра Лариса собирается в Америку, чтобы серьезно поговорить с президентом по поводу предотвращения ядерной катастрофы. Вызванная в школу мама-Семар слезно клялась, что никаких денег на билет дочка у нее не просила и разговоров о заграничных поездках в последнее время не вела.
Но даже эта история оказалась цветочком по сравнению с той ягодкой, которую преподнесла Маргарите Евгеньевне Семар однажды весной, когда весь Кузятин утопал в абрикосовом розовом цвете и дразнящих запахах. Они вливались в распахнутое окно учительской, и непреклонная Маргарита Евгеньевна позволила им себя одурманить. Поэтому, когда прозвонил телефон, и прозаичный голос из районо потребовал ее, она сначала игриво хихикнула в трубку и, только узнав, откуда звонят, пообещала прийти к назначенному времени. В районо ей пришлось позабыть весну со всеми ее прелестями. Листок из школьной тетрадки, исписанный ЕЕ почерком, в довольно витиеватых выражениях просил получше думать над названиями сочинений, прежде чем давать их старшеклассникам, потому что такое название, как “Чацкий – передовой человек своего времени” или “Жизненный путь Онегина” скоро им вообще “опротивеет” и они откажутся писать.
– Вас понять трудно, – сказали в районо и пристально взглянули на Маргариту Евгеньевну. – Почему вы вдруг решили пожаловаться нам на себя? Названия сочинений ваши?
– Мои…
– Почерк ваш?
– Почерк мой, но…
– И к тому же вам, передовой учительнице района, стыдно делать три ошибки на одной страничке. Не “опротивеет”, а опротивит… Как вы можете?
Маргарита Евгеньевна не могла. Но она знала человека, который мог и который не знал, что названия сочинений дает учитель, а не районе И этот человек решил, что к авторитетной Маргарите Евгеньевне прислушаются скорее, чем к никому неизвестной школьнице. Он захотел сделать доброе дело, воспользовавшись одним из талантов, которыми его так щедро одарила природа. И этим талантом было безупречное подделывание почерков. А этим человеком была Семар.
В каком мире, какими понятиями жила эта “чокнутая”, никто толком не знал. Она была бы даже ничего, если бы аккуратно постриглась “под пажа” или еще под кого-нибудь на манер прочих кузятинских старшеклассниц, если бы не пялила на себя необъятные балахоны, в которых могли уместиться сразу три Семар, и если бы зимой и летом, в жару и дождь не таскала за собой повсюду гитару и пса Бурбона, как какой-нибудь средневековый бард, а не нормальная советская школьница. Ежедневно она оглядывала себя в сотне зеркал, витрин и автомобильных стекол, но ни одно из отражений не подсказало ей, что следует немного преобразиться, чтобы люди перестали показывать на нее пальцами. Она жила с матерью, добропорядочной, усталой женщиной, и со старшей сестрой, усталой, добропорядочной и незамужней. Обе ее жалели, стыдились – и совсем не умели оправдывать перед соседками, которые говорили о Ларисе разное.
В начале каникул их вывезли в совхоз “на клубнику”. Поле раскинулось впереди такое вкусное, что Ларисе захотелось лежать на нем ничком, снимать губами ягоды и не делать над собой никаких усилий, потому что всякое усилие портит наслаждение. Но под строгим взглядом Маргариты Евгеньевны Семар взяла свой ящик и двинулась с ним к горизонту, стараясь не отставать от спорой Салатиной. Ряды, как рельсы, не имели конца, и если бы сейчас, по прошествии времени, кто-то сказал Ларисе Семар, что клубника ягода вкусная, она бы трижды рассмеялась тому человеку в лицо.
Поначалу рядом с ней что-то мурлыкал окопавшийся в клубничных зарослях Кактус. В младших классах он был не Кактус, а простой Репей, заработавший свое прозвище за прилипчивость и любопытство. В Кактусы он переименовался год назад, когда на орбиту тяжелого рока, от которого теряли пульс многие юные кузятинцы, вышла группа с таким незаурядным названием. Напев две-три мелодии из репертуара группы, Кактус куда-то направился с ящиком, потом вернулся, набросал в него клубнику с верхом и понес на весы. Со вторым ящиком он проделал то же самое, и с третьим тоже. Тогда Лариса Семар, у которой пот со лба капал прямо на ягоды, отчего они блестели, как лакированные, решила проследить, куда это он ходит. И проследила. Оказалось, метрах в тридцати от поля на проезжей дороге насыпан желтый речной песок, и половину ящиков Кактус набивал этим песком, а сверху притрушивал клубникой, и когда он насыпал очередной ящик и уже распрямился, чтобы его поднять, Лариса Семар загородила дорогу и сказала:
– Слушай, Кактус, сам будешь высыпать или тебе помочь?
Не то чтоб Кактус был трусоват, просто ему не захотелось связываться с этой “чокнутой”. Поэтому он только собрался высыпать обратно песок, как рядом оказалась яростная Маргарита Евгеньевна. За ее пунцовой, раскаленной на солнце косынкой маячили ласковые глаза Салатиной, которая тоже видела, как Семар поднялась с грядки и отправилась куда-то следом за Кактусом.
– Кто?! – вскричала Маргарита Евгеньевна и брезгливо толкнула ящик ногой. – Кто?! Она насыпает, а он, видите ли, таскает! Да таких вредителей совхоз к себе больше на пушечный выстрел не подпустит!..
Семар не понимала, что говорит Маргарита Евгеньевна, хотя знала – классный руководитель всегда справедлив и тысячу раз прав. Она просто слушала вибрации ее голоса и думала: эта женщина похоронила в себе великого прокурора. В ее речи было столько пафоса, блеска и благородного гнева, что Ларисе хватило бы этого запаса на целую жизнь.
– …Им честь школы не дорога! А если бы эту клубнику прямо с машины отправляли на варку джема и выбрасывали в чаны с сахаром!
– А разве ее перед варкой не моют?
Ну скажите, какому нормальному человеку пришла бы в голову мысль задать такой вопрос в такой момент? А Семар задала. И тогда косынка Маргариты Евгеньевны из пунцовой сделалась багровой, а сама она спросила, глядя в карие Ларисины глаза:
– И это интересуешься ты?
– Я, – ответила Лариса, глядя в холодные глаза Маргариты Евгеньевны.
– Вот и чудненько. Вместо того, чтобы шататься по ярам со своей гитарой, будешь теперь совхозу убыток отрабатывать.
И пошла прочь. Ласковые глаза Салатиной и честные Кактуса тоже переглянулись за учительской спиной, а Маргарите Евгеньевне показалось, будто какая-то догадливая птица на дереве у дороги прокаркала ей вслед:
– Позор-р-р!!! Позор-р-р!!!
Так что весь июнь и половину июля Лариса проторчала то на редиске, то на укропе, и там же, посреди грядок, сочиняла она грустные куплеты про неумеху, которая хочет сделать как лучше, а выходит черт знает что, и только нечаянно может получиться что-то стоящее. Все сочиненное на грядке распевала она потом в глубоком пустом яру, где прежде кузятинцы с окраины выпасали скот, а теперь росла высокая, в пояс, трава, которую некому было жевать. Частные дома недавно снесли, а в новостройке корову можно держать разве что в гараже. Кое-где из земли выходили на поверхность гладкие, как дельфиньи спинки, рыжие от дождей валуны. Ларисе было известно одно место, где они располагались друг за другом рядами, ее вечные, терпеливые слушатели. Перед ними она и усаживалась в траву и, воображая себя великой француженкой Эдит Пиаф, то скорбно, то весело напевала валунам обо всем, что случилось с ней сегодня, вчера, и что завтра, вероятно, случится, если за ночь на земле не произойдет какой-нибудь глобальной катастрофы.
Конечно, жители новостроек слышали ее песни. Конечно, мальчишки подкрадывались сзади исподтишка и стреляли в Семар из рогаток или выпускали неожиданно из-за спины голубей. Каждый считал делом чести дернуть ее за длинные лохмы или попасть по гитаре из рогатки. Но это мало кому удавалось. Пес Бурбон, лохматое чудовище без опознавательных признаков начала и конца, дружелюбно клал им на плечи мягкие лапы, и от этого касания “герои” чувствовали себя Ильями Муромцами, наполовину ушедшими в землю. Семар их почти не замечала. Куда больше злила их упорная непонятливость, от которой хотелось поднять к небу голову и завыть, как пес Бурбон, грустно и протяжно.
А следующей весной на старой заброшенной колокольне десятиклассник Сева-Севастьян начал репетиции рок-группы из числа самых одержимых кузятинских “рокеров” и пригласил к себе в солистки Ларису Семар. Прочие незадействованные претендентки, удивленные нелепым выбором, поджали нижние губки и сказали: “Он еще на коленях перед нами поползает”. Зоя Салатина, выучившая за два месяца ради Севы-Севастьяна весь репертуар “Айрон мэйден”, 1отказалась пропускать его впереди себя в буфете на большой переменке. Остряк Боря из строительного ПТУ прозвал ее “железной девчонкой”, ибо только железные мозги зубрилы могли выдержать такую нагрузку, а Кактус, влюбленный в Салатину с додетсадовского периода, и тоже за свой объект обиженный, решил действовать более тонкими методами. Лариса же приняла приглашение с достоинством, будто ничего другого и не ждала, будто ее каждый день зовут солировать в какой-нибудь группе.
Забравшись впервые на колокольню с собственной гитарой и псом, она деловито потрогала инструменты, прочитала начертанные на стенах имена кумиров тяжелого рока и, подняв кусок угля, добавила к “Black sabbat” 2букву “h”.
– Так будет правильно, – заявила она и перегнулась через перила вниз. – Ну и высотища! Десятый этаж! А впрочем…
Ответственный за надписи Кактус, человек весьма рассудительный, прежде чем связаться с “чокнутой”, приоткрыл свой “кейз” и взглянул на обложку диска. Так и есть: “sabbath”. Будь она неладна, эта грамотная солистка…
А солистка об ошибке уже и думать забыла. Она увлеченно обсуждала с руководителем репертуар и все пыталась его убедить, что петь для кузятинского зрителя по-русски куда интересней, чем по-английски, потому что магия песни не только в синтезаторе или, скажем, бас-гитаре, но и в хороших словах.
– Да ты что, Ларка, немытой редиски объелась? – не выдержал наконец добродушный Сева-Севастьян. – Не думаешь, что слова твои публике до лампочки? Их и слушать никто не станет.
– Никто?
– Никто.
– А что тогда на нашем концерте делать?
При этих душеспасительных речах Кактус отбросил назад белобрысый чуб – “попер” и сплюнул с досады через передний зуб и через перила колокольни прямо на девственный в ромашках луг, еще не ведающий, что за муку ему придется вскорости претерпеть из-за этого дьявольского оркестра. А Сева-Севастьян взял себя в руки.
– Значит так, – обратился он к Семар, – или ты подчиняешься нашим законам, или забираешь свою семиструнную и вперед, в яры! Распевай там куплеты камням и лютикам!
– За позволение спасибочки.
Семар согнулась в три погибели, и блуза ее, со всех сторон подхваченная ветрами, надулась, как парашют. Севе-Севастьяну вдруг показалось, что если она обидится по-настоящему, то не пойдет по длиннющей лестнице вниз, а возьмет и улетит на персональном воздушном шаре и еще сделает им на прощание ручкой. В душе Сева-Севастьян был настоящим артистом, и не стой сейчас рядом ехидный Кактус, он бы, пожалуй, согласился с Семар. Но ударить лицом в грязь перед единомышленниками из-за этой “чокнутой”…
– Сейчас все группы исполняют что-то такое… ну, человечное, что ли… чтобы их поняли, поддержали, и сами хотят понять… чтобы не просто так, – вела свою, линию Семар.
– Ищут дешевой популярности, – снова сплюнул на луг Кактус и подумал при этом, что еще пара таких заявок и путь Салатиной в группу будет расчищен.
– А как вы собираетесь называться?
– “Звонари”, – гордо произнес Сева-Севастьян, потому что название это – плод его бессонной ночной фантазии – соответствовало месту репетиций и сочетало в себе что-то в стиле “ретро” с чем-то в стиле “а ля рюс”.
– Ха! – сказала насмешливо Семар. – И правда – звонари. Звону много – толку чуть. Ну, я пошла.
Как будто договор может утратить силу только потому, что солистке не нравится название группы. И хотя они не были связаны контрактом и этой выпендрехе не грозила неустойка, у Севы-Севастьяна нехорошо екнуло сердце. В самой глубине его творческой души жила уверенность, что лохматая поэтесса – единственная в Кузятине личность, способная вместе с ним приблизить “Звонарей” к уровню мировых стандартов. У него даже мелькнула мысль: а не спеть ли ей на пару с Бурбоном? У пса определенно имеется слух, он так красноречиво и вовремя подвывает своей хозяйке. Нет сомнения, дуэт пришелся бы по вкусу пресыщенным кузятинцам. Но как все хорошие артисты, Сева-Севастьян был плохим администратором, и он ответил Семар так, как совсем бы не стоило отвечать:
– Скатертью дорожка, мисс редиска, – сказал обидчивый Сева-Севастьян. – Идите и пойте свои идейные песни где-нибудь в другом месте. Желаю успеха.
И приподнял при этом хипейную кепочку с козырьком, привезенную на прошлой неделе из Риги услужливым Кактусом.
И тогда случилось непонятное. Нет, если об этом рассказать, так нормальные люди в жизни не поверят. Кузятинцы по сей день не верят и утверждают, что это Сева-Севастьян с Кактусом вместе договорились и плетут небылицы, потому что Лариса утерла им нос. Но это не так. Ребята, они тоже себе не враги и врать бы такое не стали, такое и придумать нельзя, потому что кто бы это интересно додумался, что кузятинская девочка-как-девочка Лариса Семар может раздуться в шар диаметром один метр, взять под мышку громадину Бурбона, сунуть ему в зубы шнурок от гитары, встать на перила колокольни и со словами “я пошла” нырнуть втроем сначала в облако, а потом преспокойно опуститься на девственный ромашковый луг.
Свидетели минут на десять потеряли дар речи, а когда его вновь обрели, Кактус взглянул исподлобья на руководителя и полусказал-полуспросил:
– Hy, так я за Салатиной сбегаю? Она по лестницам… ходит.
И побежал. А Сева-Севастьян продолжал смотреть на опустевший луг и размышлять, что лучше: летающая солистка с собственной точкой зрения или ходячая по лестницам Салатина Зоя.
Теперь, читатель, когда вы немного вошли в курс дела, можете понять, что пережили кузятинцы, узнав, что их крупный железнодорожный узел будет представлен на фестивале Ларисой Семар. Они с повышенным вниманием следили за прессой, радио и телевидением, чтобы не пропустить сообщения о какой-нибудь ее выходке. Маргарите Евгеньевне, к примеру, мерещилось воззвание к молодежи мира, написанное якобы рукой Переса де Куэльяра, а на самом деле – Ларисой Семар. Кактусу так и виделось, как она “увековечивает” свой город прыжками-полетами с Останкинской телебашни, а Зое Салатиной так и слышалось, как Семар распевает на всех подряд московских эстрадах от Лужников до Большого театра шутовские куплеты о том, что она делала вчера и что станет делать завтра. А гости фестиваля посматривают на нее ласковыми глазами и хихикают украдкой в кружевные платочки, как это любила делать сама Салатина. И только задумчивый Сева-Севастьян и привязавшийся к нему в эти дни пес Бурбон не осуждали Семар и надеялись, что все обойдется.
Каким поездом, в котором часу вернулась она в Кузятин, установить так и не удалось. Но факт остается фактом – на следующий день после торжественного закрытия фестиваля по улице Конармии, главной улице города, шагала как ни в чем не бывало Лариса Семар и, что-то напевая, разглядывала себя во всех витринах и автомобильных стеклах. Рядом трусил счастливый Бурбон, язык его от гордости и жары свешивался куда-то вбок из черных зарослей, и кузятинцы, наконец, установили, где у этого зверя находится голова. Вызывающая дневная прогулка и Ларисино пение под вечер на пустыре, словно ничего не произошло, словно никто никуда не ездил, вынудили городок прибегнуть к крайней, не свойственной ему мере. Делегированные смельчаки остановили Ларису по дороге домой и спросили напрямик:
– Где ты была?
– Везде, – сказала она.
– Что ты там пела?
– Все.
Исчерпывающие ответы Семар вернули кузятинцам покой и, вероятно, этот фестивальный вояж так бы и числился в истории города событием волнительным, но последствий не имевшим, если бы…
О, это “если бы”! Все неприятности в жизни начинаются с него, но и все приятности тоже.
Утром седьмого августа кузятинский телетайп отстучал следующий текст: “Организуйте завтра вокзале 12 часов встречу общественности делегацией Великобритании тчк Обеспечьте явку певицы Семар тчк Комсомольским приветом зпт Комитет фестиваля”.
Городское начальство вполне могло понять, что делегация Великобритании, проезжая транзитом через крупный железнодорожный узел, намерена воспользоваться случаем и получше познакомиться с его историко-архитектурными памятниками, ибо народная мудрость гласит: лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Администрация могла также понять, что англичан интересует рядовой кузятинец, условия его жизни, труда и отдыха. Но администрация никак не могла взять в толк, почему это непременно следует делать в присутствии Семар и на каком основании официальный телекс называет ее певицей. Решено было проконсультироваться с Маргаритой Евгеньевной, как с человеком, больше других пострадавшим от этой незаурядной личности. Маргарита Евгеньевна сразу все поняла.
– Я предупреждала, – сказала она голосом, в котором звенела сосулька, – Кузятин будет расхлебывать эту поездку еще не один год. В телексах не принято ставить кавычки. Имелась в виду “певица” Семар.
Но так или иначе в одиннадцать тридцать следующего дня вся кузятинская общественность выстроилась на перроне в ожидании делегации из Великобритании с флажками, шарами, гладиолусами, абрикосами и яблоками. Кактус блестел на солнце грудью-иконостасом из местных значков, которые он собирался выменять на заграничные. Сева-Севастьян нервничал потому что, во-первых, знал из газет, что в английской делегации едет король тяжелого рока Джей Риверс со своей свитой, а, во-вторых, ему не нравился зеленоватый оттенок лица Ларисы Семар, установленной как раз по центру перрона между Маргаритой Евгеньевной и Салатиной.
Но вот три репродуктора объявили, что поезд прибывает, и общественность, вздохнув с облегчением, подняла вверх флажки и гладиолусы. Гости высыпали из вагонов точно так же, как по дороге на фестиваль, – шумно, весело и многолико. Они сразу смешались с хозяевами и превратили установленный на перроне порядок в полную неразбериху. Кузятинцы задарили их цветами и фруктами, они нюхали, жевали, показывали на часы, что-то кричали и в отчаянии, что их здесь не понимают, хлопали себя по бедрам и поднимали к небу глаза. Наконец, очень высокий и очень кудрявый молодой человек, в котором Сева-Севастьян узнал Джея Риверса, сложил руки в умоляющем жесте и произнес, как заклинание, имя Семар. Тогда все всё поняли, и между молодым человеком и Ларисой Семар образовался узкий коридор и, увидев Ларису, Джей Риверс закричал от восторга так, как не кричал даже в Лас-Вегасе, когда завоевал первый приз. А потом заговорил быстро-быстро, обращаясь уже не к ней, а к Кузятину, и где-то к середине речи подоспел переводчик и тоже заговорил быстро, но, к удовольствию кузятинцев, понятно.







