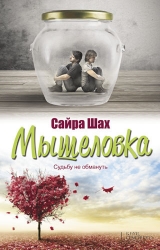
Текст книги "Мышеловка"
Автор книги: Сайра Шах
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 22 страниц)
Я на цыпочках возвращаюсь к Тобиасу.
– Думаю, нам не стоит волноваться по этому поводу, – шепотом говорю я. – Она рассказывает ему о некоторых своих взглядах на жизнь. А это способно отпугнуть любого, даже самого завзятого охотника за богатством.
***
Мы купили Фрейе серебристый, надутый гелием шарик в форме рыбки. Тобиас привязал его к пеленальному столику рядом с ее головой. Она поворачивается лицом к нему. Я верю в то, что она внимательно рассматривает его. Когда я вставляю его нитку в ее туго сжатый кулачок, кажется, что она держит его. Она двигает кулачком, и шарик дергается вверх-вниз.
– Случайность, – говорит Тобиас.
– А я думаю, что она может делать это осознанно.
– Нет, чепуха. Ты фантазируешь. Просто очень хочешь видеть, что она развивается, – ты это и видишь.
– А вы что думаете об этом, Жульен?
В последние дни я ловлю себя на том, что все чаще и чаще обращаюсь к нему, чтобы услышать его мнение. Он отвечает не сразу. И мы все несколько мгновений следим, как маленький кулачок вместе с шариком синхронно поднимается и опускается.
– Я не уверен, знает ли она, что ее рука соединена с ниткой, – наконец говорит он, – но мне кажется, она понимает, что, когда шевелит рукой, шарик тоже двигается.
– Вот видишь, Тобиас!
Жульен улыбается.
– Я пришел, чтобы пригласить вас на вечеринку, – говорит он. – У меня дома. Кажется, вы там еще не были. Это будет празднование прихода весны. И, пожалуйста, возьмите с собой Фрейю – в конце концов, она ведь тоже одна из нас.
Я до смешного тронута. Я склоняюсь над Фрейей и перекатываю ее к себе; кулачок по-прежнему сжимает нитку. Она поднимает руку, и мы с ней оказываемся связанными.
– Разрешите, – говорит Тобиас. – Дайте-ка мне распутать свою семью.
В какой-то момент, когда он пытается ослабить нитку, рука его соскальзывает, и мы, расположившись по кругу, оказываемся связанными уже втроем. Я с некоторым удивлением вдруг думаю: мы – семья.
***
Вечером, вместо того чтобы идти спать одной, я сижу рядом с Тобиасом в студии и смотрю на его сосредоточенное лицо, а он прослушивает в наушниках свою музыку. Оказалось, что на самом деле насчет «Мадам Бовари» ничего еще не ясно. Это какое-то совместное производство, и они не укладываются в смету финансирования. Снимать уже закончили, но нужны еще деньги на послесъемочные этапы работы над лентой. Салли хочет, чтобы Тобиас написал – и как можно дешевле – фрагменты музыкального сопровождения, а они продемонстрировали бы их потенциальным инвесторам.
– Что ты здесь делаешь? – спрашивает он.
– Жду тебя, – говорю я. – Не хочешь дать мне немного послушать?
Он снимает свои наушники.
– Оно… еще не готово. Не сейчас. Потом.
Однако он, похоже, не собирается занимать оборонительную позицию. В кои-то веки. И я решительно двигаюсь вперед.
– Почему до тебя так трудно достучаться в последние дни? Я тебя раньше никогда таким не видела, когда ты работал над музыкой.
– Это большая работа. Она действительно очень важна для меня.
– Но дело ведь не в этом, верно?
– Я не могу объяснить. Ты все равно не поймешь.
– А ты попытайся.
– Когда я в последнее время попадаю в студию, меня не покидает ощущение, что я пишу музыку ради того, чтобы выжить. В буквальном смысле этого слова. Что я уже поглощен и уничтожен, и только если я смогу удержаться и справиться с этой работой до конца, у меня может появиться какой-то шанс. Все это идет очень непросто: половину времени я пишу и переписываю одну и ту же сцену только для того, чтобы Салли написала мне по имейлу, что они ее вырезали в угоду какому-то потенциальному клиенту. У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть в патоке. Как будто я… корабль, получивший пробоину ниже ватерлинии и изо всех сил старающийся дотянуть до берега. Но я все равно тону, просто сам еще этого не знаю.
Он обнял меня и тихонько говорит это мне прямо в ухо. Я чувствую его дыхание, которое легко касается кожи моего лица.
– Понимаешь, Эмма Бовари попала в западню и окончательно запуталась. Не имело значения, кто она такая, насколько она красива, талантлива или, наоборот, порочна, насколько жив в ней мятежный дух, на что она надеется, о чем мечтает. В этом удушающем окружении она была обречена. Я чувствую то же самое. И это ощущение удушья… оно просачивается в мою музыку.
Я не могу уловить его мысль, но заставляю себя сочувственно кивать.
– Анна, мы с тобой оба сейчас в одиночестве на ощупь движемся в темноте, пытаясь по-своему справляться с проблемами Фрейи. Я знаю, что я уходил, отдалялся… но мне было это необходимо. Мне нужен какой-то способ скрыться от всего этого, даже если оно только в моей голове. Знаешь, я так боюсь… Я все время пребываю в страхе.
– Чего ты боишься?
– О, множества разных вещей. Я боюсь, что ты влюбишься в нее, а я не посмею последовать за тобой. Потому что, чем больше мы позволяем себе любить ее, тем большую боль она нам причинит. Я боюсь будущего. Боюсь, что нужно будет навещать уже взрослую Фрейю, всю в пролежнях, в какой-нибудь больнице. Я боюсь, что наша жизнь скроется в… в водовороте страдания по ребенку, который даже не будет знать, кто мы такие. Я чувствую себя все более и более одиноким. Ты мечешься, постоянно что-то делаешь, а я просто сижу здесь, бьюсь над музыкой, которая не выходит, и мучаюсь от постоянно нарастающего чувства, что если я не решу эту трудную задачку, то просто исчезну – исчезну без следа.
– Ш-ш-ш, – шепчу я, словно успокаиваю ребенка. Я крепче прижимаюсь к нему, и мы долго сидим, обнявшись. – Ох, Тобиас, я люблю тебя, – все так же шепотом говорю я. – Думаю, что без тебя я вообще бы не смогла жить. Я мечусь только потому, что мой метод преодоления кризиса – это уладить его. И все свое время я провожу за тем, чтобы попытаться… решить проблему с Фрейей. Упорядочить, казалось бы, несовместимые вещи, сообразить, как мне сохранить своего ребенка, своего мужа и при этом еще и не потерять рассудок. Как мне вернуть контроль над своей жизнью. Я тоже все время боюсь. А что, если мы не будем любить ее?
– Ох, Анна, ты так и не поняла. – Тобиас крепче обнимает меня, и его искренние голубые глаза испуганно расширяются. – Гораздо важнее, что получится, если мы будем любить ее?
***
С каждым днем наш шарик потихоньку сдувается, рыбка с виду становится какой-то подвыпившей. Постепенно она тонет. И в один прекрасный день я ее выброшу. Но пока что я не могу заставить себя сделать это.
Я просыпаюсь рано, и восходящее солнце гонит меня из дома. Я оставляю Фрейю, спящую в своей колыбели, и Тобиаса, похрапывающего в постели.
На улице все золотистое и мокрое от росы, птички поют, как мне кажется, с каким-то удовлетворением, как будто знают, что впереди их ждет несколько месяцев хорошей погоды.
Время от времени я думаю, что на самом деле мне следовало бы вернуться в дом. Но чуть дальше по тропинке на глаза мне попадается что-то свежее и захватывающее: дикий нарцисс, черная с желтым саламандра, удод с абсурдно-экзотическим хохолком и искривленным клювом, похожим на ятаган.
На подходе к памятнику жертвам войны, в лесу я слышу далекие голоса. Это меня озадачивает: сейчас слишком уж рано, чтобы встретить тут еще кого-то.
Впереди я вижу группу пожилых мужчин в какой-то униформе. Среди них Людовик, грудь его увешана медалями. Пройти просто так, мимо, мне кажется неприличным, но я как-то не чувствую, что имею право навязываться. Так что я останавливаюсь вдали от группы и просто наблюдаю. Старики кажутся болезненными, а их медали – бесполезными перед лицом истории.
Когда группа немного распадается, Людовик замечает меня.
– Ah, bonjour, la parisienne! [45]45
А, здравствуйте, парижаночка! (фр.)
[Закрыть]
– Что вы здесь делаете?
– Вспоминаем. В этот день в 1944-м здесь произошло сражение. С бошами[46]46
Презрительная кличка немцев во Франции, появившаяся во время Первой мировой войны 1914—1918 гг.
[Закрыть].
– Не может быть, чтобы вы были таким старым, что успели повоевать! – Глупо было говорить такое: звучит как-то снисходительно.
– В 1944-м мне было пятнадцать лет. А разные поручения от макú – французского Cопротивления – я выполнял с тринадцати.
– Это было опасно?
Еще один дурацкий вопрос. Людовик не обращает на него внимания.
– Вы идете домой? – спрашивает он. – Я тоже. – Некоторое время мы идем молча, а потом он добавляет: – Это был очень важный для маки район.
– Вы тоже участвовали в том бою? Ну, который вы все вместе вспоминали?
Он только качает головой.
– Посмотрите на этот лес, какой он густой, – говорит Людовик. – В 1944-м там был лагерь, жили люди – прятались среди сосен, как дикие звери. Никаких удобств, сплошная антисанитария. О, и еще этот запах: дым костров и дерьма… У каждого животного есть свой запах. У нас тоже. Я свистел особым свистом из двух нот, и на него из ниоткуда появлялись люди. Я приносил им еду – всего понемножку: немного масла, немного хлеба, немного сыра.
Мы сошли с тропы и углубились в сосны. Мы с Тобиасом всегда обходим этот лес стороной: он слишком мрачный и слишком бесплодный. Деревья растут очень близко друг к другу, заслоняя солнечный свет даже своим нижним ветвям. Под ними ничего не растет. Удручающее место.
– Прямо здесь, вот под этим деревом, лежал большой рюкзак со взрывчаткой, – говорит он. – А сюда Бенедикт притащил зеркало в оправе из красного дерева. Мы подшучивали над ним, потому что он каждый день брился. Его не стоило осуждать за это: у него была красивая молодая жена.
– И что же случилось?
– Какой-то подлый осведомитель рассказал бошам про этот лагерь. И те провели операцию. Меня в тот день здесь не было, вот я и выжил.
Он мотает головой, а я стою рядом и глупо пялюсь на его медали, сияющие под утренним солнцем так, будто их только что отчеканили. Похоже, что сказать мне на это просто нечего.
– Я думал о вашей проблеме с мышами, – наконец говорит Людовик. – Может быть, это у вас и не мыши. Вероятно, это loirs. – Он изображает руками быстро бегающее животное. – Такие маленькие зверьки с большими глазами и толстыми хвостами. У меня на чердаке как-то завелись эти loirs. В итоге мне пришлось взять цемент-пушку и пройтись ею по всем стенам и потолку – единственный выход.
– О, думаю, что нам бы не хотелось этого делать.
– Если это loirs, то это единственный выход, – повторяет Людовик.
***
– Соня-полчок, – говорит Тобиас, роющийся в интернете.
– Что?
– Loir. Соня-полчок, их еще называют «соня съедобная». Смотри, вот она на картинке. – Похоже, что его заинтересовала только определенная часть рассказа Людовика.
Несмотря на титанические усилия Керима, всякий раз, когда я захожу на кухню, меня издевательски встречают свежие катышки помета. Совершенно очевидно, что эти грызуны все равно находят, как пробраться сюда.
– Выглядят такими симпатичными.
Соня-полчок – это почти бурундук. И иметь на кухне их, а не мышей, намного приятнее.
– Они вырастают до двадцати сантиметров в длину. Это может объяснить, почему их помет великоват по размеру для мышиного, – говорит Тобиас. – О, взгляни-ка: эти сони когда-то считались деликатесом! Римляне держали их в больших глиняных горшках, которые назывались долиум, и откармливали их на диете, изобиловавшей грецкими орехами. Подавали их на десерт, залитыми медом с маком.
– Что ж, хороший рецепт для моих будущих кулинарных учеников.
– Не хотелось бы мне быть животным, – говорит Тобиас, – в название которого входит слово «съедобный».
Мы дружно смеемся – впервые, кажется, за целую вечность. В хорошие дни у меня хватает резервов мощности быть великодушной к Тобиасу и дать ему помокнуть в ванной, пока я кормлю Фрейю. В хорошие дни мне удается дождаться, пока он выйдет из своей студии, чтобы мы с ним могли пойти спать в одно время. В хорошие дни он благодарен мне за это и, соответственно, очень мил со мной. Мы с ним оба чувствуем себя на лезвии ножа и балансируем на пределе того, что в состоянии выдержать.
***
Ивонн начала работать в нашей кухне для обработки дичи. Она приходит и занимается своим таинственным делом без всякой суеты. Время от времени из этой кухни доносятся манящие аппетитные запахи, но сам процесс закрыт завесой секретности.
Мы с ней становимся подругами. В отличие от остальных темпераментных личностей, время от времени появляющихся в нашем доме, она – величина постоянная: надежная, предсказуемая, заслуживающая доверия. Она всегда готова помочь присмотреть за ребенком и часто работает, блаженно прижав Фрейю к своей пышной груди.
– Вы как-то говорили, что хотели бы, чтобы я помог вам по саду? – спрашивает Жульен вскоре после ее первого визита. – Я тут подумал, что пара монет мне, в конечном счете, не помешает. Но из-за особенности моей ситуации, я, конечно, должен работать неофициально.
За свои услуги он называет цену, демонстрирующую удивительно точное знание им расценок на рынке труда в современном мире.
«Не обольщайся, – говорю я себе, – он здесь исключительно потому, что на нашей кухне для дичи трудится Ивонн. Наконец-то у меня появилось то, что ему нужно».
***
Этим утром в нашем почтовом ящике находится письмо для Керима. С написанным от руки адресом. Пока мы ждем юношу к завтраку, моя мама рассматривает его.
– Возможно, это от его матери, – говорит она.
Минуты проходят за минутами. Появляется Керим.
– О, Керим, дорогой, вот и вы! – выводит свою трель моя мама. – Здесь для вас письмо. Откройте же его! Мы томимся в неизвестности.
Керим смотрит на конверт. Краска начинает заливать его от самой шеи и доходит до границы волос. Затем он быстро распечатывает его и жадно пробегает содержание.
– Ко мне приезжает fiancée[47]47
Невеста (фр.).
[Закрыть]. И школьный друг тоже. Oh, putain![48]48
Ох, черт! (фр.)
[Закрыть] Сегодня! Это на них похоже. Мне нужно бежать на вокзал прямо сейчас. Можно мне одолжить вашу «Астру»?
Лицо его сияет. Мы уже привыкли к его улыбке в тысячу ватт, но сейчас все по-другому: у него как будто меж глаз горит лампочка.
– Конечно, вперед! – говорю я.
– Я привезу их познакомиться с вами сегодня на вечеринку к Жульену.
Мы сидим ошеломленные и слышим, как хлопнула передняя дверь и во дворе завелась машина. В конце концов молчание нарушает моя мама:
– Вот это номер! Проклятье. Я знала, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой…
***
Моя мама вся как на иголках. Сегодня она особенно тщательно занимается своим туалетом.
– Дорогая, ты не могла бы помочь мне уложить волосы? А я могла бы помочь тебе. Я думаю, нам следует постараться ради молодой дамы Керима. Она может подумать, что он попал в банду головорезов.
Тобиас понял ее абсолютно неправильно. Да, она любит пофлиртовать, но только до известной степени. И теперь она по-детски искренне возбуждена возможностью познакомиться с невестой Керима.
– Я очень надеюсь, что она хорошая девушка. Мне бы не хотелось видеть, что он разменивает себя на кого попало. Как бы то ни было, мы должны на некоторое время оставить ее у себя. Мне так хочется произвести на нее хорошее впечатление! Интересно, почему он о ней никогда не упоминал? Только о своей матери. Мне это так в нем нравится – что он столько говорит о своей маме!
Сразу после полудня мы засовываем Фрейю в перевязь и карабкаемся по гряде скал, которая соединяет нашу гору с соседней.
– Мне всегда казалось, что она похожа на хребет дракона, – говорит Лизи.
– Не смеши меня, – возражает моя мама, но Лизи права: именно так все это и выглядит.
Мы представляем себе, что идем по спине какого-то спящего чудища. На полпути я вдруг спрашиваю:
– Что за изумительный запах?
Мы останавливаемся и стараемся определить местонахождение источника благоухания, такого знакомого, связанного с детством и почему-то пожилыми дамами. Однако вокруг, кроме зазубренных скал, ничего такого не видно.
– Вон там, – говорит Лизи, показывая на горную расселину.
Когда я в последний раз заглядывала туда, бока каменного дракона были коричневыми, с пятнами зеленого мха. Сейчас же они поразительного фиолетового цвета.
– Фиалки!
Они кажутся невозможно хрупкими, растущими прямо из камня, а их аромат одновременно и нежный, и всепроникающий.
У «заводи с невидимым краем» Лизи ведет нас по крутой тропе. Мы подходим к громадному белому дубу, у подножия которого лежит большая каменная плита, опирающаяся на две другие. На ней сидит большой серый кот с янтарно-желтыми глазами и, не мигая, как сова, смотрит на нас.
– Да это же дольмен! – возбужденно говорит Тобиас, внимательно рассматривая каменную плиту. – Посмотрите – на нем изображение чаши и кольца. Поразительно! Подумать только, этот камень пролежал здесь многие тысячи лет!
– Священное место, – с придыханием говорит Лизи.
– Это домашний очаг, – говорю я. – Кухня. Здесь горшки и сковородки, а под ними место для огня.
Я замечаю деревянную лестницу, рядом с которой вверх по стволу дерева, как поручень, уходит живая вьющаяся лоза. Я прикрываю глаза от солнца ладонью и смотрю вверх: там дом. Не просто шалаш на дереве. Настоящий дом. С окнами. И кровельной дранкой на крыше вместо черепицы. И с верандой.
– Нет-нет, дорогие мои, – говорит моя мама. – Нам явно не туда. Вечеринка будет проходить вон там.
Она показывает за дуб, в сторону вишневого сада с прекрасным открытым видом на горы. Под деревьями на козлах стоят столы со скамьями вокруг них.
В саду шумно. Он заполнен какими-то дерущимися собаками, детьми, носящимися, как пули, людьми, курящими травку, танцующими язычниками; здесь и оркестр музыкантов с диджериду[49]49
Музыкальный духовой инструмент аборигенов Австралии, представляющий собой деревянную или бамбуковую трубу длиной около двух метров.
[Закрыть] и другими заморскими инструментами. Вокруг полно медных котлов с тушеным мясом, на открытом огне жарится целый барашек, стоят пластиковые ведра с медовухой. Сад до краев полон жизни.
В самом центре событий, где плотность биомассы людей и животных наивысшая, мы замечаем Жульена. Он явно целое утро пробовал медовуху и теперь очень рад нас видеть.
– Я не думал, что вы все вот так сделаете, – постоянно повторяет он.
– Жульен, как вы, черт возьми, оказались здесь? – спрашивает Тобиас.
– Я здесь родился. В юрте. Дом на дереве я построил сам. Давайте я вам покажу.
Он бросается в сторону дуба. Я удивляюсь, как он собирается подниматься туда в таком состоянии, но он ловок, как горный козел. За ним, как верный пес, следует его кот. Мы пыхтим следом, цепляясь за лозу-перила, спотыкаясь на неровных деревянных ступеньках. Когда я бегу, Фрейя глухо бьется о мою грудь в своей перевязи.
– Добро пожаловать в мой дом! Здесь открывается самый лучший вид на горы – ну, возможно, за исключением вида из вашего дома.
– Вау! – говорю я. – Очень… впечатляет. – Я имею в виду лозу.
– Это glycine, – говорит Жульен. – Глициния.
На ней еще нет листьев, из темной древесины, как дымка, проступают лишь намеки на те места, где скоро будут цветы. А сама лоза похожа на гигантскую руку, схватившую хижину своими корявыми черными когтями.
– Что за дом? – Тобиас удивлен.
Хижина гнездится на изгибе дерева между стволом и большой веткой. Здесь нет никаких прямых линий: стены изогнуты, даже окна скруглены, а оконные стекла разделены раздвоенными ветками. Крыша из кровельной дранки, спускаясь, соединяется с верандой на глицинии.
– Здесь есть все современные удобства. Передняя дверь из настоящего дуба, ключ не нужен, потому что она никогда не запирается.
Он распахивает дверь. Внутри мы видим единственную комнату с печью, которая топится дровами. Никакой мебели, кроме деревянной кровати, подвешенной на живой ветке, каким-то образом входящей в конструкцию дома. Стены, пол, потолок, – все сделано из дерева.
– Здесь трудно понять, где заканчивается комната и начинается дерево.
– Я построил его на дереве и из дерева, – говорит Жульен.
– А кухня? – строго спрашивает моя мама.
– Внизу – отвечает Жульен, провожая нас обратно к дольмену.
– Я догадалась, – говорю я.
– Очень практично, – говорит Жульен. – Я не разрушаю камни и могу приготовить любое блюдо, какое только захочу.
– Ванная комната? – продолжает допытываться моя мама.
Жульен указывает куда-то в сторону тропинки.
– Моя ванная – это заводь с невидимым краем. Немного холодновато зимой, но, согласитесь, вид оттуда все компенсирует.
– Вы оригинальный горный человек, – говорит Тобиас. – Приходите к нам принять горячий душ в любое время, когда захотите.
– А вы родом из этих мест? – спрашиваю я.
Он качает головой.
– Мои родители переехали в Лангедок из Парижа после 1968 года. Думаю, что вы могли бы назвать их представителями поколения хиппи. В те времена была масса людей, которые пробовали вернуться обратно к земле. Потомственные крестьяне сначала относились к ним подозрительно.
– Должно быть, это было жесткое противостояние, – заметил Тобиас.
– Многие люди этого не выдержали и вернулись домой. Мои родители упорно работали и остались здесь. Они в принципе не верили в частную собственность. Один старик одолжил им этот участок земли в обмен на то, что они будут собирать вишни у него в саду. Они поставили здесь юрту, и в конечном счете родился я. Никаких свидетельств о рождении, никакой регистрации, никакого налогообложения. Сейчас мои родители уже умерли, как и тот старик, но его сын позволил мне остаться здесь на тех же условиях.
Через его плечо я замечаю Ивонн, которая в лакированных розовых туфлях на невысоком каблуке пробирается через грязь; на ней белая узкая прямая юбка и блузка с глубоким вырезом, подчеркивающая ее формы, соломенно-желтые волосы перехвачены вызывающей банданой в розовый горошек, а аксессуары – блестящие пластмассовые сережки, пластмассовое ожерелье, сумочка и даже губная помада, – все подобрано в том же цвете ядовито-розовой жевательной резинки, что и ее туфли.
Я замечаю ее раньше Жульена. А он тем временем рассказывает еще один случай из своей жизни:
– Местная школа была настоящим адом. Дети… короче, с ними было нелегко. Однажды я пас овцу моих родителей, мне тогда было одиннадцать. Меня увидел один из местных paysans. Его сын учился в той же школе, на несколько классов старше меня – один из моих главных мучителей. Он тогда как раз уехал в город искать работу. Так вот, в тот день его отец спросил у меня: «Такое утро, Жульен, как у тебя дела?» Только это, ничего более. Но это ощущение я не забуду никогда: впервые местные признали меня своим в одиннадцать лет. От этого на душе стало очень тепло.
Он усмехается. Когда он вот такой, расслабленный и задумчиво-непроницаемый, перед ним трудно устоять. Затем в поле его зрения попадает Ивонн в своей бандане в розовый горошек и узкой юбке, и он забывает, о чем только что говорил. Рядом с ней он становится косноязычным и скованным, теряет все свое обаяние и уверенность в себе.
Несмотря на нелепый наряд, Ивонн выглядит красивее, чем всегда. Она похожа на искусно раскрашенную фарфоровую куклу. И это должно было стоить ей немалых усилий. Без сомнений, это означает, что она его тоже любит.
***
Жульен уходит суетиться вокруг Ивонн. Чары разрушены.
Мимо нас неровной походкой, попыхивая косячком, проходит бородатый хиппи.
– Вы пришли или уходите? – спрашивает он.
– Я ухожу предсказывать всем судьбу по линиям руки, – объявляет Лизи.
Я вижу, как вокруг нее сразу же собирается небольшая толпа из потенциальных клиентов, протягивающих к ней свои раскрытые ладони.
Я угнетаю бедную Лизи своими требованиями выполнения домашней работы. Я настолько погружена в свои собственные планы и разочарования, что совсем забыла, какая она на самом деле свободолюбивая и жизнерадостная.
– Я не могу читать судьбу по всем рукам сразу, – смеется она.
– Мне, мне следующему, – настаивает Тобиас, хотя не верит ни в какие гороскопы.
Она берет его руку и, продолжая смеяться, переворачивает ее.
– Я должна посмотреть на ваши ногти, – говорит она, – чтобы узнать, есть ли у вас характер.
Он улыбается:
– К этому времени ты это и так должна была бы уже знать!
– Я действую без предубеждения. Просто читаю то, что вижу на вашей руке.
– Ну так как же?
– Что?
– Есть у меня характер?
– Посмотрите – вот здесь холм Венеры. Вы очень страстный человек. И творческий. И добрый.
– И неотразимо привлекательный? – подначивает он ее.
Она внимательно изучает его ладонь.
– Это кто как думает. На руке этого быть не может. Вот это ваша линия головы.
– Умный?
– Ленивый.
Она, по сути, всего лишь подросток, но ведет себя спокойно и очень уверенно. Мужчины могут легко влюбиться в Лизи. Тобиас, похоже, испытывает к ней слабость. А если еще и она будет испытывать слабость к нему – что ж, тогда мой плохой характер очень все для нее упростит.
Внезапно мне ужасно хочется убраться подальше от этого предсказания судеб. Я беру свою медовуху и иду через сад.
Ивонн сидит на бревне, поджав ноги и подтянув свою белую прямую юбку до самых бедер, чтобы уберечь ее от грязи, которой и так уже забрызганы лакированные розовые кожаные туфли. Жульен принес ей стакан с медовухой, но она сердито оттолкнула его руку. Ее лаковая сумочка такого же розового цвета – видимо, тоже самая лучшая у нее – лежит рядом. Бандана в розовый горошек на ее опущенной голове висит, как поникший флаг побежденной армии. Такое впечатление, что она изо всех сил старается сдержать слезы.
Я сажусь рядом с ней.
– Вы замечательно выглядите, – говорю я.
Она смотрит на всю эту вакханалию.
– Это… неподходящая публика. И Жульен тоже… Я думала, что когда-нибудь… Но он никогда не станет правильным. Все дело в его воспитании.
– Я наблюдала за ним, – говорю я. – Когда он видит вас, он ни на чем не может сосредоточиться.
На мгновение мне кажется, что я зашла слишком далеко. В конце концов, это совершенно не мое дело. Но ее вдруг прорывает:
– Мой отец взял бы его в помощники. Мы смогли бы урегулировать проблемы с его бумагами… Лет через десять он мог бы стать в нашей деревне мясником. У него появилось бы положение в обществе. Мы могли бы купить участок земли и построить хороший особняк на краю города. С оборудованной кухней, а может быть, даже с бассейном…
– Ах, Ивонн, не думаю, что он мог бы быть счастлив в особняке.
Она издает какой-то глухой хрип, идущий откуда-то изнутри, который начинается всхлипыванием, а заканчивается скорбным воплем души:
– А как, скажите на милость, я могу быть счастлива, живя с ним здесь, на дереве?
***
Садится солнце, зажигаются штормовые фонари, вовсю играет неистовый оркестр, медовуха течет рекой, завывают собаки и дети, а грязь взбивается ногами в пенящееся месиво. Моя мама танцует с лучшими мужчинами. Сначала ее кружит Жульен, затем – пожилой мужчина с длинной седой бородой и наконец какой-то новоявленный кельт в непонятном войлочном одеянии и с охотничьим рогом, болтающимся на цепи, которой кельт подпоясан.
– Дорогая! Это все равно, что танцевать просто твист, – кричит мне она, и я вижу ее молодой, неотразимой, переполненной joie de vivre[50]50
Радость бытия (фр.).
[Закрыть].
Затем она кричит:
– Керим! Керим! Ох, дорогая, он здесь. Ее я не вижу, но с ним его школьный друг. Керим! Где же ваши манеры, дорогой мой? Представьте нам вашего друга. И где же ваша fianсé?
– Позвольте представить вам Густава.
– Здравствуйте, Густав. Я очень рада познакомиться с любыми друзьями Керима.
– Это и есть fiancé.
Кажется, что в этот миг музыка с грохотом обрывается, танцоры замирают на ходу, а на поляну обрушивается мертвая тишина. Это, конечно, не так, но следующие слова моей мамы почему-то звучат очень громко, и их слышат буквально все.
– Боже мой! – вскрикивает она. – О, это просто ужасно! Какие вы оба отвратительные мальчики!








