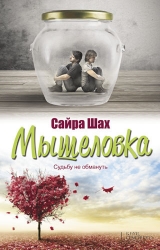
Текст книги "Мышеловка"
Автор книги: Сайра Шах
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Но Тобиас превратил это в свой летний штаб, и оба стула ему нужны для занятий с Лизи по пользованию интернетом. Судя по их смеху, занятия эти весьма занимательные.
– Тебе следовало бы приглядывать за своим мужем, – говорит мне мама. – Все мужчины – дураки. А эта девочка-хиппи – та еще штучка, это каждому видно.
– Тобиас всегда был немного склонен пофлиртовать, – говорю я, – но я полностью ему доверяю.
Мы сидим с ней в прохладе нашей гостиной. Мама шьет, а я пытаюсь покормить Фрейю. С балкона раздается особенно продолжительный взрыв смеха, за которым следует звук глухих ударов.
Моя мама вскакивает на ноги и хватается за метлу.
– Поднимусь наверх с облавой, – говорит она.
Еще секунды три я молча борюсь с собой, после чего оставляю Фрейю на ее шатком детском стульчике и несусь наверх вслед за ней.
Тобиас и Лизи стоят на четвереньках, уставившись на балконную дверь.
– Нашествие гигантских муравьев! – возбужденно восклицает Тобиас. – Вы только гляньте на вот этого! Он длиной, должно быть, с целый дюйм!
Армия громадных муравьев цепочкой марширует от балкона к нашей спальне. Моя мама достает из кармана своего передника банку инсектицидного спрея.
– Когда я молюсь, – говорит она, – и обещаю быть доброй ко всем живым созданьям, муравьев я сюда не включаю. Я скажу так: «К почти всем живым созданьям». – Она несколько раз энергично пшикает на них. – Впрочем, от ос я тоже не слишком в восторге.
Тобиас печально смотрит на корчащихся в предсмертных судорогах муравьев.
– Я даю Лизи урок по компьютерным делам, – говорит Тобиас. – Думаю, что пора сделать перерыв. Бедное дитя не получило практически никакого образования.
Моя мама с вызовом упирается руками в бедра.
– Этому бедному дитяти, между прочим, платят деньги за то, чтобы она выполняла здесь кое-какую работу. Лизи, в саду поспели сливы – сходи, пожалуйста, и собери их прямо сейчас. Я собираюсь испечь пирог.
Тобиас уже открывает рот для протеста, но Лизи останавливает его.
– Хорошо, – живо говорит она. – Я проведу сливоуборочную медитацию.
Моя мама провожает ее вниз. Мы с Тобиасом остаемся на балконе одни. Я сажусь рядом с ним. Несколько минут никто из нас не произносит ни слова. Мы молча следим, как пчелы наедаются нектаром из цветов лаванды.
Тишину нарушает Тобиас.
– Посмотри вот на эту, Анна, – говорит он. – Она похожа на колибри и так же неподвижно парит над цветком. Но это насекомое. Видишь, какой у нее хоботок. Может, ее нужно бы называть «пчелка-колибри»?
– Ты же не будешь крутить с ней роман? – говорю я. – Не влюбишься в нее? Потому что, если влюбишься, это разобьет мне сердце.
Я вижу, что он готов на что угодно, лишь бы отделаться от меня. Я сказала, не подумав, но теперь представляю себе, какой будет моя жизнь без Тобиаса. Невыносимой. Я пытаюсь состроить гримасу, которая должна, по моим расчетам, быть ироничной и утонченной, но из этого ничего не выходит, и я с ужасом замечаю, что губы мои дрожат.
– Анна, что я могу тебе сказать? Знаешь, иногда просто приятно посидеть здесь и немного поржать, не задумываясь о том, все ли дела из твоего списка я выполнил или есть ли у нашего ребенка мозг.
– Это не моя вина, – возмущаюсь я, – что существуют вещи, которые необходимо делать. Дом валится в буквальном смысле.
– Об этом я и говорю, – взрывается он. – Я ведь не на твоей матери женился. То, что она живет здесь, похоже, на постоянной основе, само по себе уже достаточно плохо, а тут еще ты превращаешься в ее копию. Со всеми вытекающими последствиями. Рутина, обязанности, тяжелая монотонная работа… Такое впечатление, что жизнь моя закончилась. Лизи – просто ребенок, и взгляды ее безумные, если не сказать больше. Но она забавная. Она полна энергии и энтузиазма. И это особенно важно именно в данный момент.
– Значит… она тебе нравится?
– Что за нелепость! – Я думаю, не слишком ли он поспешно ответил. Он смотрит прямо на меня, и в глазах его читается мольба. – А самой тебе никогда не хотелось просто почувствовать себя живой, чего бы это ни стоило?
– Тобиас, – говорю я, – ты во многих отношениях являешься полной моей противоположностью. Мне любую мелочь нужно добывать своим трудом – ты же наделен талантом без всяких усилий. Твоя музыка, даже если ты озвучиваешь какое-то вшивое документальное кино, очень красивая и трогательная. Но твое дарование заставляет тебя считать, что ты можешь лениться. Так вот: ты не можешь. Не здесь, по крайней мере. Тут масса усилий уходит только на то, чтобы поднять сюда воду. И никто не может позволить себе халяву.
Я ожидаю от него встречного выпада. Но он неожиданно предлагает полную капитуляцию.
– Я знаю, прости меня. По правде говоря, я тут все время прячусь. Я чувствую себя не в своей тарелке, как будто я какой-то неуместный здесь человек.
– С тобой все в порядке, – говорю я. – Возможно, это просто не то место.
Тобиас оглядывается на лаванду в горшках, на жужжащих пчел и качает головой:
– Нет, я люблю это место. И всегда любил, начиная с момента, когда впервые увидел. Но все еще хуже: я чувствую себя неправильным человеком в правильном месте. Крысы в перекрытиях, валящийся дом… Я не умею делать ничего из того, что здесь нужно.
– У меня те же ощущения, – признаюсь я. – Беспомощность и бессилие. У нас не те навыки для этого окружения.
– В конце месяца уедет Керим, и тогда станет хуже, чем когда-либо. Мы будем жить тут одни с твоей матерью.
Я тянусь к нему со своего места и неуклюже, сбоку, обнимаю за плечи.
– Обещаю, что попрошу маму уехать. В ближайшее время, по крайней мере. Правда, попрошу.
– Все мужчины в округе могут построить дом, они возделывают поля, ухаживают за животными, – говорит Тобиас. – А все, что могу делать я, – это писать музыку и устраивать шумные званые обеды.
– Я ничего из этого не променяла бы на твои голубые глаза и твой острый ум.
Пока мы вместе спускаемся вниз, я думаю, правда ли это на самом деле. Внизу нас дожидается Жульен.
– Хай, Тобиас, – говорит он.
– Привет, Жульен, – отвечает Тобиас.
Я вижу, что он весь напрягся. Рядом с жилистой фигурой Жульена он выглядит большим и неуклюжим.
– Я пришел напомнить насчет вашей питьевой воды, – говорит Жульен. – Сейчас на лето дожди прекратились. Вам нужно проверить вашу цистерну.
– Цистерну для воды? Да?
– Я могу помочь вам осмотреть ее, если хотите.
– Простите, я не могу прерваться. Я должен бежать и работать дальше над своей музыкой. Они еще раз все перекроили. Там жесткие сроки.
Мы с Жульеном смотрим на его удаляющуюся спину.
– Жульен, это действительно очень любезно с вашей стороны, – говорю я. – Я в вашем распоряжении, если вы покажете мне, что я должна делать.
Жульен улыбается своей загадочной улыбкой.
– Что ж, первое, что мы должны сделать, – это убедиться, что отсутствуют течи в самом баке и в водопроводе в доме. Из-за капающего крана можно потерять тысячу литров воды.
Он останавливается и серьезно смотрит на меня. Как это ни странно, я замечаю оттенок грусти в его глазах.
– Знаете, Анна, вполне возможно, что теперь хорошего дождя здесь не будет целый месяц, а то и два. В засушливый год – три месяца. Ваш бак вмещает десять тысяч литров. С этого момента вы должны дорожить каждой каплей воды. Никаких незакрученных кранов, никаких ванн, стирать только в реке, если это возможно. Вы уверены, что Тобиас осознаёт, насколько это серьезно?
– О да, я уверена, он все понимает. Просто… у него много работы. Кто-то же должен оплачивать счета.
– Итак, мы должны укрыть вашу цистерну. Если туда через щель будет пробиваться свет или она будет слишком нагреваться, вода испортится. Вам также нужно убедиться, что в воду не попали личинки комара. У вас есть фильтр?
– Э-э-э… нет. У Тобиаса руки так и не дошли до того, чтобы его заказать. Для себя и Фрейи я воду кипячу.
– С этого дня вам нужно кипятить ее не менее двадцати минут. И до тех пор, пока вам не установят фильтр, для мытья фруктов и зелени также используйте только кипяченую воду.
Целый день мы провели за тем, что делали именно то, что он говорил. И целый день я следила за тем, как его уверенные тонкие руки паяют наши трубы, герметизируют швы, чинят краны – словом, устраняют любые протекания воды.
Жульен мне ничего не говорит, но я чувствую, он не одобряет, что Тобиас не делает этого сам. Мне как женщине легче прижиться здесь. Я могу варить варенье и выращивать овощи. Но от Тобиаса ожидается, что он возьмет на себя громадный объем мужской работы. Неудивительно, что это пугает его.
Лизи вновь появляется из сада с жалкой горсточкой слив в руке.
– Это все, что там было? – спрашиваю я.
– На самом деле я думаю, что мы должны поделиться остальными сливами с червями и птицами, – говорит она.
– Лизи нужны еще друзья, – говорю я Жульену, когда она уходит. – Не могли бы вы познакомить ее с кем-нибудь из хиппи? Ну, с теми язычниками и им подобными, которые были на вашей пирушке? Она точно могла бы повалять с ними дурака.
– Хиппи здесь много и тяжело вкалывают, – сурово говорит Жульен. – Они возделывают землю, выращивают домашний скот, занимаются ремеслом, продавая свои изделия туристам, воспитывают детей. А Лизи только несет всякую чушь и лазит по интернету.
Его слова – точная копия самоуничижительного описания Тобиасом самого себя. Возможно, именно это он видит и в ней. Они оба борются здесь, ищут место, к которому можно было бы приткнуться.
– Будьте внимательны, – перед уходом говорит Жульен. – Пока снова не начнутся дожди, вода здесь драгоценна. Поливайте свой огород. – Он смотрит вниз на Фрейю, которая сидит в своем шезлонге-качелях. – И помните: все, о чем вы не будете заботиться, умрет.
Я передвигаю ее креслице в самый прохладный угол гостиной, когда слышу узнаваемый стук Людовика в нашу дверь.
– Людовик, вы пришли поработать на своем огороде? Хотите кофе?
Лицо у Людовика убитое; его душат слезы. Он не заходит в гостиную, как обычно. Вместо этого он снимает свою охотничью шляпу и стоит на пороге, теребя ее в руках.
– Людовик? Что стряслось?
– Тереза. Она свалилась сегодня утром. Сейчас без сознания. Доктора говорят, что это аневризма.
Я не знаю, что сказать. В этой ситуации я на себе ощущаю тот дискомфорт, который испытывают люди, когда мы рассказываем им о Фрейе, – а в настоящее время мы так делаем с почти садистской жестокостью.
– Ох, Людовик. Могу я вам чем-нибудь помочь? Может быть, зайдете и посидите у нас немного?
Он стоит в дверях и выглядит совершенно потерянным. Наконец он качает головой.
– Я должен вернуться в больницу. Я просто хотел известить вас. В конце концов, вы мои соседи.
***
Нам позвонила Ивонн и сообщила, что Тереза умерла вчера рано утром.
– Есть обычай, – сказала она, – прийти и отдать дань уважения телу перед похоронами. Я подумала, что мы могли бы пойти туда вместе. Я буду ждать вас перед бунгало Людовика через полчаса.
Я спускаюсь с холма с Фрейей в перевязи, и вместе с Ивонн мы проходим через забетонированный передний двор Людовика, через его дверь из ПВХ и оказываемся в оранжевом бунгало из шлакоблоков.
– Очаровательный дом, – шепчет мне Ивонн. – Знаете, он построил его полностью сам, здесь все comme il faut[68]68
Как подобает (фр.).
[Закрыть].
Внутри дом Людовика такой же безупречный и стерильный, как и его огород. Нигде ни пылинки, все сияет. Диваны обтянуты прозрачной пленкой. На почетном месте в кухне стоит микроволновая печь, в гостиной доминирует огромный телевизор.
Мы находим Людовика, который, сгорбившись, сидит на самом краешке дивана. Несколько соседей уже собираются уходить, на прощанье из чистой формальности обнимая его и предлагая свою помощь. Не так уж плохо быть стариком в деревне. Люди здесь могут ссориться из-за пустяков, но когда речь идет о чьем-то серьезном горе, они сплачиваются.
Тело Терезы при полном параде лежит в открытом гробу, обтянутом ярко-голубым сатином. Лицо ее сильно накрашено: в похоронном бюро попытались подправить природу, жирно подведя ей брови черным карандашом и густо нарумянив щеки. Она одета в юбку и жакет из розового полиэстера. Я понятия не имею, была ли у нее когда-нибудь возможность надеть этот наряд при жизни, полной тяжелой монотонной работы. Вероятно, он был куплен специально для такого случая.
Мне отчаянно хочется поскорее сбежать из этого стерильного окружения, но Людовик говорит:
– Присядьте на минуту.
Сказано это тоном, в котором чувствуется такая мольба, что мы с Ивонн безропотно неловко усаживаемся по обе стороны от него на затянутый пленкой диван. Его плечи начинают сотрясаться.
– Pauvre[69]69
Бедняга (фр.).
[Закрыть], – шепчет Ивонн, обнимая его за плечи.
– Все ушли, – говорит Людовик. – Мой отец, Роза, мой сын. А теперь и Тереза. Я совсем один.
– Не говорите так! – говорит Ивонн. – Мы же здесь, ваши друзья тоже здесь.
– Мои друзья умерли! – взрывается Людовик. – Семнадцать моих друзей из отряда маки были застрелены в один день. Все мои ровесники. Мы должны были вместе с ними вырасти. Они должны были бы быть со мной здесь сегодня, чтобы разделить мое горе.
Он сует кулак в рот, словно так сможет физически остановить вырывающуюся наружу скорбь. Наступает долгое молчание. Я вслушиваюсь в равномерное тиканье пластмассовых часов на телевизоре и слежу за тем, как минутная стрелка движется по оранжевому циферблату, стараясь не обращать внимания на то, как рядом со мной содрогается тело Людовика, который старается сдержать слезы.
Он смотрит на Фрейю у меня на коленях.
– Тереза всегда хотела еще одного ребенка, – говорит он, и его руки с узловатыми пальцами делают инстинктивное движение в ее сторону.
Когда я предлагаю дочь ему, он берет ее на руки и начинает качать; похоже, это успокаивает его.
– Томас, – говорит он. – Мой Томас.
Я пытаюсь забрать Фрейю, но он удерживает ее, казалось, целую вечность, оплакивая своего покойного ребенка.
***
– Думаю, что я нашел средство против ваших крыс, – говорит Жульен. – Но на это нужно какое-то время.
Мы находимся на чердаке и смотрим на те места, где крысы грызли балки перекрытия.
– Смотрите – здесь у них гнездо. Крысы не разрушают балки систематически. Они просто прокладывают себе путь внутрь.
– А что, если в результате крыша обрушится на Фрейю?
– Подайте мне эту штуку.
Я передаю ему металлическую арматурную проволоку, и он ловко обкручивает ею балку.
– Теперь будет безопасно. Арматура будет удерживать крышу, пока вы ее должным образом не почините. Но те скрежещущие звуки, которые вы слышали, в основном были не от крыс.
– Не от крыс? Слава тебе, Господи! А от кого же?
– От личинок древоточца. – Я шокирована, но он улыбается. – Не волнуйтесь: с такими толстыми стропилами им не справиться. Кого нужно опасаться, так это термитов. Вот они могут съесть всю внутренность дерева, не оставляя никаких следов снаружи, пока ваш дом не рухнет.
– Боже милостивый! Не хватало только еще об этом беспокоиться.
– Анна, вы и так беспокоитесь слишком много, – говорит Жульен. – Вам необходимо расслабиться.
Я убираю со лба влажную от пота прядь волос.
– Как бы мне хотелось, чтобы тут не было так жарко! Даже не верится, что это происходит здесь, в том же самом месте. Просто сил уже никаких.
Его прикосновение к моему обнаженному плечу прохладное и уверенное.
– А будет еще хуже, – говорит он. – Наступит вторая зима. Именно поэтому все растения растут весной так быстро – летом тут все умирает. Знаете, у Фрейда есть теория, согласно которой существует два конфликтующих начала, которые он назвал по имени греческих богов: Эрос и Танатос. Любовь и Смерть. Живя в этих краях, мне кажется, что мы проводим всю жизнь, переходя от одного к другому: в каждый отдельный момент времени мы находимся на территории либо первого, либо второго. Весна – это определенно Эрос. А лето… Лето здесь – это Танатос.
– Жульен, как вы додумались до всего этого?
– У меня в распоряжении была уйма времени. Как бы там ни было, Анна, я хотел сказать вот что: сдается мне, что вы находитесь в шоке. Вся эта организаторская деятельность, борьба с мышами, заготовка ягод на всю оставшуюся жизнь – это от Танатоса. Вам необходимо вернуться на территорию жизни.
Я укладываю Фрейю в «Астру» и везу ее на дополнительный прием к невропатологу в Монпелье. Доктор Дюпон, как обычно, выглядит суровой и озабоченной.
Я говорю:
– Она набирает в весе.
Та качает головой и говорит:
– Это стероиды.
Я говорю:
– Приступы случаются у нее реже.
Но доктор Дюпон в ответ спрашивает:
– А она у вас всегда такая сонная?
Она хочет знать о приступах Фрейи все до мельчайших подробностей. Стали они другими? Более продолжительными? Они распределяются равномерно или одну сторону прихватывает чаще, чем другую? Отвечая на все эти вопросы, я чувствую, как мой оптимизм тает.
– Вы замечаете, что у нее наблюдается прогресс в плане развития?
– О да, – говорю я. – Она улыбается и смотрит на свои руки.
– Хм, – говорит доктор Дюпон. – Давайте пройдемся по основным вехам развития ребенка. Она начала ползать?
– Нет.
– Она реагирует на свое имя?
– Нет.
– Может она сидеть?
– О нет.
– Может она подавать вам предметы?
– Ну… нет.
– А хватать предметы?
– Нет.
– Бормочет она что-нибудь или, может быть, складывает слоги?
– Нет.
– Имитирует ли она звуки вроде «ба-ба» или «да-да»?
– Нет.
– Удерживает ли она свой вес на ногах, когда вы поднимаете ее за руки?
– Нет.
– Перекатывается?
– Нет.
Доктор Дюпон вздыхает.
– Боюсь, что это соответствует нашему прогнозу, который мы давали относительно нее, – говорит она, делая какие-то записи. – В Монпелье есть специализированный приют, куда принимают детей в возрасте от двух лет. Если мы будет бронировать место для нее там, нам нужно начинать оформлять бумаги уже сейчас.
Так что теперь я знаю худшее: вероятно, в конце концов она окажется в этом учреждении в Монпелье.
***
Вернувшись домой, я поднимаюсь наверх, задергиваю шторы от слепящего солнечного света и ложусь на кровать, положив Фрейю рядом с собой.
В Монпелье никто с ней лежать на кровати не будет. Как она к этому отнесется? Будет ли чувствовать себя несчастной и покинутой? Может быть, мне следует приучать ее к той жизни, которая ее ожидает? Оставлять ее одну в кроватке? Прикасаться к ней только коротко и по необходимости? Или же я должна зарядить ее теплом объятий на всю ее жизнь, прижимать ее к себе часами напролет, пока у меня еще есть такая возможность? Позволить, чтобы любовь текла между нами, словно электрический ток?
Она закидывает голову назад, чтобы посмотреть на меня, и улыбается мне своей перекошенной на одну сторону улыбкой. Я крепко прижимаю ее к себе и шепчу:
– Я никогда тебя никуда не отправлю. Никогда.
В данный момент это помогает. Но я знаю, что, если ее состояние ухудшится, я все равно вынуждена буду отвезти ее в Монпелье. Что любые обещания, которые я даю себе или ей, очень условны, а следовательно, ничего не стоят.
Мне необходимо вернуться к моим домашним обязанностям. Когда я несу ее вниз, Фрейя начинает плакать. Если она заплачет в Монпелье, придет ли кто-нибудь к ней, чтобы утешить? Лучше уж я буду приучать ее к худшему сама.
Я кладу ее в коляску и начинаю переставлять все на кухонных полках, стараясь отвлечься от отчаянных воплей и вида маленького личика, сморщенного и красного.
– Боже мой, дорогая, почему ты не возьмешь ребенка на руки?
Моя мама подхватывает Фрейю, и та мгновенно неподвижно замирает, как будто кто-то нажал на ней кнопку выключателя.
– Тебе нужна помощь, дорогая? В том, чтобы расставить все это? Или с Фрейей?
– Нет, у меня все в порядке, спасибо, мама.
– Это все твоя постоянная занятость. Я же вижу, что тебе так много нужно сделать. Знаешь, я бы могла сама прекрасно справиться с тем, чтобы расставить все эти вещи на полках. И мне было бы приятно почувствовать себя полезной.
Я качаю головой.
– Я ведь твоя мама, дорогая моя. И я знаю свою маленькую девочку. Она делает вид, что железная, хотя на самом деле очень хрупкая.
– Никакая я не хрупкая. Я не могу себе этого позволить.
Моя мама вздыхает.
– Я переживаю за Густава и Керима, – говорит она. – У них произошла размолвка. Боюсь, что это из-за нас: Керим пытался задержаться здесь, чтобы помочь нам еще немного. Я подумала, что это неправильно с его стороны. В конце концов, он выпроводил Густава на остров Уайт и пообещал присоединиться к нему там.
Она делает паузу в ожидании моего ответа, но я продолжаю демонстративно заниматься своей работой.
– Как бы там ни было, дорогая, я хочу сказать, что с удовольствием осталась бы здесь, с тобой, но только в том случае, если я тебе нужна.
Я думаю о том, что пообещала Тобиасу. Это подходящий момент дать ей знать, что остаться она не может.
– Я могу справиться сама, – говорю я.
Она снова вздыхает.
– Что ж… если я тебе тут абсолютно не нужна, тогда я воспользуюсь возможностью уехать обратно в Англию вместе с Керимом. Вероятно, я могла бы пожить вместе с Густавом и Керимом, просто чтобы присмотреть за ними. – Голос ее падает до проникновенного шепота: – Между нами говоря, мне кажется, что бедный Густав находится у Керима под каблуком. – Когда ее голос возвращается к нормальной громкости, звучит он, возможно, даже тверже и решительнее, чем до этого: – Но после этого… Я уже приняла решение. Мое место – в моем собственном доме, мне необходимо привыкать быть одной.
Я наконец отрываюсь от своей работы. И понимаю, что просто не в состоянии что-либо сказать ей – такой покинутой я внезапно почувствовала себя от одной только мысли о том, что она уедет.
***
Я решила проверить, действительно ли Лизи сидит с Фрейей, как от нее ожидается. Это часть некой изощренной игры, в которую мы играем с Тобиасом, и мне необходимо его участие. И если это будет означать доведение ситуации до кризисной – что ж, так тому и быть.
– Лизи, – говорю я, – не могла бы ты оторваться от компьютера и посидеть с Фрейей?
Она конвульсивно мотает головой и еще больше наклоняется над ноутбуком Тобиаса, словно хочет защитить его своим телом.
– Знаете эти белые хвосты, которые остаются за самолетами? – говорит она. – Они называются химическим следом, и ЦРУ отравляет их.
– Не вижу, почему это должно освобождать тебя от того, чтобы посидеть с ребенком, – говорю я. – Мне нужно в Эг.
– За Фрейей легко могу присмотреть и я, – говорит Керим. – Я обычно так и делаю…
– Нет, мне нужно, чтобы вы пошли со мной и помогли загрузить машину. Я обнаружила в brocante[70]70
Торговля случайными подержанными вещами (фр.).
[Закрыть] массивный старый стол для разделки мяса и не знаю, как мы увезем его на нашей «Астре».
– Но Фрейя хочет кушать, – говорит Керим. – Я не уверен, сможет ли вообще Лизи…
– Что ж, тогда Лизи нужно учиться это делать, – говорю я и безжалостно добавляю: – Вы ведь, Керим, пробудете здесь еще недолго – мы должны переставать полагаться только на вас во всем подряд.
Я достаю бутылочку со свежеприготовленной едой и, стоя возле стула Лизи, встряхиваю ее перед ней.
– Это твоя работа, – говорю я. Лизи продолжает возиться с компьютером, видимо, не слыша меня. – Что ты там, собственно говоря, делаешь? Спасаешь мир?
– В общем, да, – говорит Лизи. – По крайней мере, я сделала несколько шагов к тому, чтобы спасти мир.
Но она все-таки отодвигается от компьютера и берет у меня из рук бутылочку.
Керим жестом зовет меня на кухню
– Вы думаете, это у нее уже какой-то психоз? – шепчет он.
– Не знаю, как еще это можно было бы назвать.
Но я вижу, что с ней что-то не так. Ее глаза горят каким-то безумием, а под ними мешки, будто она не высыпается. И еще я уверена, что она теряет в весе.
Гостиная. Лизи начала кормить Фрейю. Она держит ее под неправильным углом: голова ребенка слишком сильно откинута назад, и наклон бутылки слишком большой. Фрейя голодная, она глотает свою молочную смесь чересчур быстро; в то же время тельце ее извивается, она безуспешно пытается бить по бутылочке руками, выгибаясь дугой назад, чтобы быть как можно дальше от нее.
Я бросаюсь вперед, чтобы вмешаться, но Лизи, которая ничего не слышит и ничего не говорит, только еще больше склоняется над Фрейей; бутылочка булькает все быстрее и быстрее, и внезапно меня захлестывает волна злости: ну почему я должна постоянно приглядывать за всеми, как за маленькими?
– Пойдемте, – угрюмо говорю я Кериму. – Давайте съездим в город.
Мы отсутствуем примерно час. Когда мы подъезжаем к парадной двери с мясницким разделочным столом, который лежит вверх ногами на заднем сиденье, я слышу вопли Фрейи.
Фрейя плачет не так часто, как другие дети, и зачастую даже не по поводу пищи. Она никогда не использует слезы в качестве аргумента, чтобы добиться своего, – она никогда не играет в эти интеллектуальные игры с манипуляцией людьми. Циник мог бы сказать, что это потому, что у нее нет интеллекта и даже мозга как такового, но я предпочитаю считать, что она просто стоическая натура. Сейчас я слышу, что она издает звуки, связанные с болью. Что-то вроде долгого «оу-у-у, оу-у-у, оу-у-у».
– Все в порядке, – говорит Керим, перехватывая мой встревоженный взгляд. – Если она плачет, значит, она в норме. – Но голос его звучит мрачно.
– Это колики, – говорю я. – Она наглоталась воздуха из бутылочки и не может от него избавиться.
Мы бросаемся в гостиную. Лизи снова сидит за компьютером, на голове у нее наушники, вероятно, чтобы заглушить вопли завывающей рядом с ней Фрейи.
Фрейя вся извивается. Она не может перекатиться в более удобное положение, чтобы ослабить боль. Я кидаюсь вперед, чтобы подхватить ее, но Керим опережает меня. Он кладет ее к себе на плечо, прижимая животиком к своей ключице так, что голова ее свесилась позади него, и поглаживает по спинке, чтобы она попыталась срыгнуть.
– Анна! – возмущенно взрывается он. – Мне бы хотелось остаться здесь, чтобы присматривать за вами, но я не могу… Густав нуждается во мне, и я не могу рисковать потерять его. Мне ужасно жаль, но я просто должен уехать, вы ведь понимаете?
Я сдержанно киваю. Фрейя мощно отрыгивает: громко, удовлетворенно, с облегчением.
– Послушайте, – говорит он. – Я понимаю, почему вы иногда закрываете глаза на вещи, связанные с уходом за ней и с ее будущим. Я знаю, что вам больно думать обо всем этом. Но вы все равно должны попытаться, Анна. Меня здесь не будет, чтобы вас подстраховать.
Я не знаю, что ему сказать, – сказать мне нечего. Я чувствую себя непригодной к роли матери. Это самое низкое чувство на свете: кажется, будто я уничтожена, сведена на нет. Я киваю и что-то мямлю насчет обеда, после чего, оставив ее у него на руках, ищу убежища у себя на кухне.
Я режу лук для оправдания своим слезам, когда дверь распахивает Жульен. Он даже не удосуживается поздороваться. Очевидно, он не замечает, что у меня красные глаза и течет из носа. Как только он видит меня, тут же начинает говорить:
– Знаете, что она устроила? Она выдвинула мне ультиматум: если я люблю ее, то должен на ней жениться. Как положено. В церкви. И заняться тем, что она называет настоящей работой. Но, скажите на милость, как можно ожидать от меня, что я буду жить в современной вилле в городе и работать на ее отца? Да я лучше загнусь в своей могиле!
– Жульен, – говорю я, – а почему бы вам действительно на ней не жениться? Свидетельство о браке – это всего лишь клочок бумаги. И тогда, может быть, Ивонн отцепилась бы от вас в каких-то других вопросах.
Но Жульен, который всегда готов дать совет относительно того, что будет лучше для меня, в решении собственных проблем кажется слепым.
– Это никогда не сработает, – пыхтит он. – Я сказал ей об этом, и мы окончательно порвали. Я уже больше не являюсь ее приложением. Я выбрал, что не буду ее рабом.
Он шагает по кухне туда-сюда.
– В итоге выясняется, что свобода мне более необходима, чем любовь. Именно это для меня самое главное.
***
Наступает конец месяца, и моя мама вместе с Керимом укладывают в «Астру» свои вещи. К моему удивлению, Тобиаса нигде не видно; кстати, Лизи тоже.
– Все в порядке, Анна. Они уже попрощались с нами, – говорит Керим тоном, который заставляет меня усомниться, что он их оправдывает. – Можете себе представить, они даже собирались отправиться на прогулку лишь после того, как мы уедем. К счастью, мне удалось убедить их не совершать такую глупость.
– Я немного удивлена, что они не пришли проводить вас.
– Места в машине все равно не хватило бы, – говорит Керим. – Нет-нет, Амелия, позвольте мне сесть сзади.
Он прав – насчет места в машине, по крайней мере. Он кое-как втискивается между детским автомобильным сиденьем Фрейи и маминым громадным чемоданом, и мы едем на станцию.
На платформе наступает обычное неловкое ожидание.
– Ладно, до свидания, дорогие мои, – говорит моя мама.
Смотрит она на Фрейю, но обращается ко мне. Или, возможно, к нам обеим. Она осторожно наклоняется и целует ребенка, потом еще раз.
– Значит, доктор определенно говорит, что развиваться она не будет?
– Боюсь, что так.
– И она никогда не будет говорить или ходить?
– Нет.
– Она навсегда останется младенцем?
– Да.
– Она никогда не покинет дом и не уедет куда-нибудь?
– Никогда.
– И всю оставшуюся жизнь она будет нуждаться в тебе и зависеть от тебя?
– Да.
Моя мама выглядит очень серьезной, как будто обдумывает что-то важное.
– Все равно я хотела бы, чтобы это было у нее. Я уже пыталась отдать ей раньше, но момент был неподходящий, а потом это как-то вылетело у меня из головы.
К перрону подъезжает поезд.
– Ну ладно, я должна идти.
Она сует что-то мне в руку. Она даже не пытается поцеловать меня: присутствие поезда вызывает у нее панику. Она торопится, уходя по платформе.
Керим коротко обнимает меня и шепчет мне на ухо:
– Все будет хорошо, вот увидите. Помните, что я вам сказал.
Затем он бросается помогать моей маме садиться в поезд.
Я остаюсь стоять на платформе со своим плюшевым мишкой. Я кручу его в руках. Мишка Берни. Закадычный друг моего детства. Он потерял один глаз, голова его свисает на шее так же безвольно, как и у Фрейи, мех вытерся от любви.
Моя мама ожесточенно машет мне рукой и посылает из дверей вагона воздушные поцелуи. Она на мгновение исчезает, но тут же появляется, продолжая махать мне уже из окна своего купе. Я поднимаю Берни над головой и машу им ей в ответ. И еще долго продолжаю махать, хотя поезд уже отошел от станции и превратился в маленькую точку вдалеке и они уже давно не видят меня. Часто я очень хотела отделаться от своей матери, но теперь, когда она уехала, я чувствую, как меня переполняет чувство, что я осталась одна.
***
Когда я возвращаюсь в дом, Тобиаса и Лизи там еще нет. На кухне для дичи я застаю Ивонн.
– Вы видели Тобиаса? – спрашиваю я и добавляю уже помягче: – Или Лизи?
– Вы с ними разминулись: они приходили, но потом сразу же ушли опять. Они направились на le col des treize vents[71]71
Перевал тринадцати ветров (фр.).
[Закрыть], – говорит она.








