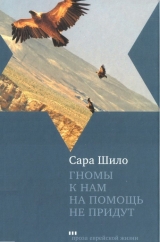
Текст книги "Гномы к нам на помощь не придут"
Автор книги: Сара Шило
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
– Имя не можешь придумать? Ха! Подумаешь! Да я тебе хоть сто имен назову. Я в девчачьих именах лучше всех разбираюсь.
– Только не Лиат. И этих американок твоих, из Центра абсорбции, тоже не надо. Короче, имена девчонок, которые тебе нравятся, мне даром не нужны. Мне нужно, чтобы имя было такое… Ну, благородное, понимаешь? Не как у какой-нибудь там обычной девчонки.
– Лиат, она тебе не обычная. Даже Коби и Морди, когда ее в День памяти увидели, и то…
– Да отстань ты от меня со своими Морди и Коби. Мне нужно такое имя, которое, как только его скажешь, так сразу и представишь себе, как она летит. Или как садится куда-нибудь. Или как еду клюет. Или как она тебе когтями руку царапает, когда от голода злая становится. Она хоть и сильная и никого не боится, но еще и нежная. Как только цвет ее перьев увидишь – сразу понимаешь, что девчонка. Только не надо мне опять про Коби талдычить. Если Ицик с тобой о чем разговаривает или если он там чего сделать задумал – ты Коби про это ни-ни, понял? Он нам теперь больше не брат. Мать его в отца превратила. Для Ошри и Хаима. Не может же он нам одновременно и братом быть, и отцом. Он что, Бог?
– Далила.
– Что «Далила»?
– Давай назовем ее Далила.
– Далила? Это которая из Торы, что ли?
– Ну да, жена Самсона. Далила. Ты чего? Всего два месяца в школу не походил и уже забыл, кто такие Самсон и Далила?
– Забыл. Совсем из башки вылетело. Далила. А что? Мне нравится. Очень даже благородное имя. И не грубое такое. Нежное. Как она сама. Далила. Ну спасибо тебе, Дуди. Здорово ты придумал. Я бы ни в жисть до такого не додумался. Далила. Знаешь, а давай сейчас в мясную лавку к Моше сгоняем? Еды ей принесем. Ты же его просил для нас откладывать что на выброс? Ну вот. А потом будем ее к имени приучать. Помнишь, как тот мальчишка в фильме? Как он ей кричал: «Кес! Кес!» – и она к нему сразу летела? Но для этого ее дрессировать надо, понимаешь? Это может очень много времени занять.
Мы возвращаемся домой. Ицик всю дорогу о чем-то думает. Голова у него работает, как бетономешалка, и все мысли, которые приходят ему в голову, они такие, как бы это сказать, увесистые, что ли. Если, к примеру, из его головы вылезает какая-нибудь мысль, то всего через два-три дня она уже превращается во что-нибудь стоящее. А вот если мне какая-нибудь мысль приходит в голову, то она больше на ветер похожа. Дунет этот ветер на целофановый пакет, который кто-то на улице бросил, и тот взлетает. Взлетает – и начинает вверх подниматься. Все выше, и выше, и выше… Пока не обратится в муху и не исчезает из виду. Так что через пять минут никто уже и не помнит, что из головы Дуди вылетела какая-то мысль.
Ицик
Когда я просыпаюсь утром, я хочу только одного: чтобы кто-нибудь принес мне гору.
Пусть возле моей кровати стоит большущая такая коричневая гора, усыпанная белыми валунами. Чтоб как только я глаза открою и спущу с кровати ноги – чтоб там стояла такая гора, и я, Ицик Дадон, к-а-ак встану на ноги, да к-а-ак расколю ее на части! Своими собственными руками расколю. Руками, про которые Бог решил, что это будет новая разновидность рук.
Я думаю про гору, которая будет стоять утром возле моей кровати. Эта гора, она вообще-то мне ничего не сделала: не трогала меня, не мешала мне и даже совсем меня не знает. И не подумайте, что она какая-то там особенная. Нет, это вам не гора Синай. Как она называется, никто не знает. И вот я – такой, какой я есть, – к-а-ак встану с кровати да к-а-ак расколю ее одним ударом на две части! А потом снова спать лягу. Полежу себе немножко в кровати, отдохну, а когда отдохну, встану и буду уже нормальным человеком, каким меня все по утрам видеть и хотят.
Люди, с которыми ты живешь, хотят, чтобы ты утром просыпался, как свежеиспеченный хлеб. Ну, такой, которому можно пока еще любую форму придать. Когда просыпается Эти, она похожа на мышь, которая выглядывает из своей норки и никак не может решить, чего хочет: то ли из этой норки вылезти, то ли юркнуть назад – туда, где провела всю ночь. Она стоит неподвижно; рот у ее приоткрыт – будто она хочет что-то сказать; пальцы на руках растопырены – каждый палец врозь; и такое ощущение, что она все еще досматривает последний сон. Наконец, она делает два шага, останавливается и входит в туалет. Входит и забывает, что должна из него еще и выйти. Выходит только тогда, когда мы уже думаем, что она там уснула, и начинаем ломиться в дверь. Потом она подходит к ванной и останавливается у входа. Все проходят мимо нее и заходят без очереди, но она стоит и ничего не говорит. Когда же она наконец свой рот открывает, из него вылетает какой-то птичий писк. Даже если она только «да» говорит – когда ее кто-нибудь о чем-нибудь спрашивает, – все равно, как птица, пищит.
Я на Эти могу хоть все утро смотреть. Мне бы очень хотелось хоть раз в жизни проснуться так же, как она. Ведь когда ее видишь, такое впечатление, что она сидит в темном зале и смотрит фильм; и еще не родился на свет тот Шушан, который бы вывел ее из зала за то, что она заплатила только за половину билета. Мне ужасно хочется знать, какие фильмы показывают в ее снах. Будь она мальчишкой, я бы только с ней в овраг и ходил. Она бы мне с Далилой помогала. И никакой Дуди мне бы тогда нужен не был. Ведь мало того что ему надо все тысячу раз объяснять, так потом приходится еще и проверять, понял он тебя или нет.
С тех пор как я перестал ходить в школу, я просыпаюсь по утрам только ради Эти. Стоит мне на нее посмотреть – и всю мою утреннюю злость сразу как рукой снимает. Но как только я вспоминаю, что она стала для Ошри и Хаима матерью, и что до школы она должна отвести их в детский сад, и что она, наверное, даже и снов-то своих больше не видит, и что она вообще уже в какую-то старуху превратилась – носится весь день словно какая-то взрослая тетка, – как только я все это вспоминаю, опять злиться начинаю. Мало того что Коби вдруг в отца превратился, так еще и Эти ни с того ни с сего матерью заделалась.
Как только она уходит с Хаимом и Ошри, я начинаю думать, чем бы ее порадовать. А что, если я ей еще раз новые батарейки для транзистора принесу? Когда ей нечего делать, она берет старенький транзистор, который когда-то стоял у папы в фалафельной, залезает с ним под одеяло, ставит на маленькую громкость и слушает. Однажды, когда она уснула, я вынул батарейки из ее школьного рюкзака, лизнул их и понял, что они вот-вот сядут. Через два дня мы с Дуди раздобыли новые, и ночью я подложил их ей в рюкзак. Когда она утром их нашла, то страшно обрадовалась. Только вот никак не могла понять, откуда они взялись. Наверное, подумала, что их гномы принесли.
Дуди
Каждый четверг, когда наступает ночь, мы с Ициком дожидаемся, пока все улягутся спать, тихонько пробираемся в ванную, и я его брею.
Сначала я смачиваю ему лицо водой, а затем покрываю его отросшую за неделю щетину пеной. Каждый его волосок я знаю наизусть. Пока ты никого не бреешь, то думаешь, что все волосы на лице одинаковые. Но когда ты начинаешь человека брить и видишь волосы с близкого расстояния, оказывается, что они растут стайками и что у каждой стайки есть свое определенное место. Одна растет справа, другая – слева, третья – снизу. А есть еще волоски, которые не хотят сбиваться в стаи и растут сами по себе.
Я беру в руку бритву, смотрю, в какую сторону растут волосы, и срезаю их, двигаясь в противоположном направлении.
Когда я брею Ицика, он закрывает глаза, подставляет мне лицо и полностью отдается в мои руки. Я могу вертеть его голову как хочу, и он мне не мешает.
Мне приходится быть осторожным. Кожа на лице – это ведь не фанера какая-нибудь. Бритва должна срезать только волосы, но не должна резать кожу. Однако вся беда в том, что волосы растут прямо из кожи и ее очень трудно не задеть. Когда я брил Ицика в первый раз, я порезал его местах в пяти или шести. Но теперь уже со мной такого не случается. Лезвие бритвы его кожи хоть и касается, но не режет.
Во время бритья мы молчим, а потом всю неделю делаем вид, что ничего этого не было.
Ицик держит руки по швам и закрывает глаза, а я закрываю рот, и мы сливаемся в одно существо. Как будто между стеной и раковиной, где мы стоим, находится только один человек, и этот человек бреет самого себя.
Когда я его в тот раз порезал, он даже не пискнул, а когда я заклеивал ему ранки бумажками, даже не вздрогнул. Только я один и вскрикнул, когда его порезал. Если бы меня кто тогда услышал, подумал бы, наверное, что это я сам порезался.
Когда я его брею, мой нос заполняется запахом пены, и этот запах сразу перебивает все другие в ванной. И запах плесени на потолке, и запах хлорки, которую мама льет, не жалея, и запах самого Ицика, от которого несет Далилой.
Вообще-то сначала он попытался бриться самостоятельно. Подошел как-то раз ночью к моей кровати, разбудил меня и попросил привязать ему к руке резинкой рукоятку бритвы. Думал, что сумеет сделать это сам. Но уже через десять минут вернулся. Все лицо в белой пене, а глаза – черные-пречерные и злые, как у черта. Они всегда у него такие становятся, когда у него что-нибудь не получается и он психовать начинает. Я сразу все понял, молча встал, и мы пошли в ванную. Он стоял перед зеркалом и смотрел в него невидящим взглядом. Казалось, что его глаза вот-вот просверлят в зеркале дырку. Моя рука дрожала. Я порезал его, вскрикнул и стал промокать кровь туалетной бумагой. Даже и не знаю, сколько времени все это продолжалось. Наконец мы закончили и вернулись в свои кровати, но в ту ночь мне заснуть так и не удалось. Все мое тело словно окаменело, а руки дрожали. Чтобы их согреть, я засунул их под мышки – левую под правую подмышку, а правую под левую, – но от этого они только затекли и как будто наполнились колючками. «Что же теперь будет? – думал я. – Каждую ночь, что ли, теперь так будет, да? Каждую ночь я теперь его брить буду? Ну почему? Почему мой брат уродился таким? Хорошо бы ему умереть, когда он еще был маленьким! А еще лучше, если бы он умер сразу после того, как вылез из маминого живота! Я бы тогда родился – а у меня никакого брата и нет!»
Иногда я замечаю, что Коби смотрит на него точно так же. Как будто он ему противен. Может быть, поэтому он ему бар мицву делать и не стал. Мне вон в следующем году тоже тринадцать исполняется, и вот мне-то уж Коби сделает ее обязательно. Я же не Ицик. Мне он просто обязан бар мицву сделать.
Утром я пошел в школу и перед уходом с Ициком даже не попрощался, а после школы до самого вечера слонялся по улицам. Даже и не помню толком, где был и что делал. А когда пришел домой, сразу лег в постель и стал ждать. Но в ту ночь он не пришел. Потом прошло еще два дня, а он все не приходил. Тем временем у него уже новая щетина отрастать начала. Наконец в четверг приходит. Мы снова пошли в ванную, и, как только вошли, он сразу закрыл глаза и лицо у него стало такое спокойное-спокойное, будто он спит. И вдруг я неожиданно для себя почувствовал, что мне это начинает нравиться. В смысле нравится его брить. Даже и не знаю, как это объяснить. Как-то вот так вот, ни с того ни с сего, раз – и понравилось.
Ицик всегда дышит медленно. Я очень хорошо знаю, как он дышит. Сначала мы дышим вместе. Он делает три вдоха и выдоха, и я тоже. Когда наши животы вздуваются, они соприкасаются. Но затем он вдруг дышать перестает. Я выдыхаю, а он – нет. Мне становится страшно. А вдруг, думаю я, воздух у него внутри так и останется и никогда наружу не выйдет? И от страха начинаю дышать очень быстро. Вдыхаю и выдыхаю три-четыре раза подряд, и мне начинает казаться, что воздух у меня вот-вот кончится. Но тут я вдруг слышу, что Ицик наконец-то выдыхает, успокаиваюсь и снова начинаю дышать нормально, вместе с ним.
Кожа Ицика и моя сделана из одного и того же материала: мы оба такого же цвета, как мама. Мой нос и нос Ицика – это один и тот же нос. Нос нашего отца. Когда мне нравится какая-нибудь девчонка, я первым делом встаю к ней в профиль. Чтобы она увидела, как линия моего лба плавно перетекает в линию носа. Рот у Ицика тоже такой же, как у меня. Только он всегда держит его закрытым. Как будто боится, что у него украдут зубы. Я же свой рот не закрываю даже на секунду, а мой язык к тому же все время бегает по губам, как бегала папина рука, когда он в фалафельной протирал прилавок. А когда я Ицика брею, мой язык вылезает изо рта и начинает извиваться во все стороны, как будто хочет мне помочь.
Особенно я люблю брить Ицику кости, которые идут к подбородку. Но сам подбородок я люблю брить меньше. Потому что там нет ни одного одинакового участка. Подбородок брить труднее всего. Бритва скользит по его лицу, и я стараюсь на нее не смотреть. Когда я на нее не смотрю, моя рука бреет лучше.
Пока я брею Ицика, все время смотрю на его закрытые глаза. Нет в человеке ничего более прекрасного, чем кожа глаз, когда они закрыты. Закрытый глаз похож на младенца в животе матери. Сам глаз, который движется под кожей, – это ребенок, сидящий в воде, а кожа глаза – это материнский живот. Иногда мне страшно хочется потрогать Ицику глаз, чтобы почувствовать, как он движется под кожей.
Когда я кончаю брить Ицику подбородок, я смываю ему с лица пену, вытираю его полотенцем и провожу рукой по его коже, чтобы убедиться, что везде гладко. Мне страшно хочется побрызгать его одеколоном Коби, но я боюсь, что он меня за это убьет. Потому что, как только он имя «Коби» слышит, сразу психовать начинает. И что ему такого сделал Коби, даже и не знаю. Он ведь с нами почти и не разговаривает совсем. Как только поест, сразу идет с мамой спать, в их комнату. Чтобы Ошри и Хаим думали, что у них папа и мама есть. Маленькие они еще. Что им скажут, тому и верят.
Когда Ицик выходит из ванной комнаты, я начинаю рассматривать себя в зеркале. Нет, мне самому пока еще брить нечего. Я возвращаюсь в свою комнату, ложусь в постель, кладу пальцы на глаза, трогаю веки и представляю, что это материнские животы, внутри которых сидят младенцы. Потом мои пальцы спускаются ниже, и я начинаю трогать волоски, которые растут в низу материнских животов. От этого меня бросает в жар, и, когда я чувствую, что вот-вот взорвусь, я кладу ладони на глаза – как будто укрываю матерей с младенцами одеялом – и засыпаю. Сны, которые мне после этого снятся, я рассказываю Ицику, но ему самому сны про девчонок никогда не снятся. Все его сны какие-то дурацкие. Когда мы с ним еще спали в одной кровати, я все время просыпался, потому что он из-за этих своих снов постоянно ворочался.
Ицик
В последний раз я кормлю Далилу, перед тем как лечь спать. Сегодня у меня для нее есть две мышки, которые попались в расставленные мной мышеловки. Поймать этих мышей мне удалось не сразу. Первые три от меня убежали, а одна даже укусила за руку. Одну мышку Далила получит сейчас, а вторую я оставлю ей на утро.
Я сажаю ее вместе с мышеловкой в кухонный шкаф, бью по палочке, которая открывает мышеловку, и быстро убираю руку. Потом бью по дверце шкафа, и она захлопывается.
Далила и мышь сидят в шкафу, а я стою возле него и слушаю. Я слышу, как она разрывает мышь на части.
Когда ты живешь на границе, у тебя уши не такие, как у всех остальных людей. Они становятся у тебя, как у кошки, так что ты можешь определять все по слуху. Ты точно знаешь, когда по ту сторону границы взорвался наш снаряд, а когда, наоборот, к нам сюда летит «катюша». Или, например, когда это всего лишь рев самолета. Ты даже можешь сказать, где именно эта «катюша» упадет. Когда она еще только по воздуху летит и воет. Правда, когда «катюши» падают несколько дней подряд, уши начинают тебя подводить. Они устают. Когда обстрел заканчивается, то еще в течение двух дней после этого ты продолжаешь вздрагивать от каждого звука. Дверь от ветра хлопнет – тебе кажется, «катюша» взорвалась. Радио заговорит – ты думаешь, это машина с громкоговорителем по улице едет и всем в бомбоубежище спускаться приказывает. Даже собачий лай – и тот иногда за громкоговоритель принимаешь. Я уж не говорю о свадебной стрельбе в арабской деревне. Короче, после этого твои уши надо на какое-то время в сумасшедший дом помещать. Чтобы они там снова в норму пришли. Вон у Ализы, например – ну, которая вместе с мамой в яслях работает, – ночью со стены навесной шкаф свалился. Они в нем красивую посуду хранили, которую им на свадьбу подарили. Так они всю ночь даже боялись пойти туда посмотреть. Думали, что в дом попала «катюша» или что, может быть, к ним террористы забрались. Только утром увидели, что шкаф валяется на полу, а вся посуда в нем разбилась вдребезги.
В шкафу у Далилы стало тихо. Схрумкала мою мышку и даже глазом не моргнула.
Скоро в нашем доме начнется ночь.
До того как на нас напали террористы, для каждой семьи в нашем доме ночь начиналась в разное время. Но после нападения для всех в доме она стала начинаться в один и тот же час. Я сижу в своей кровати и слушаю, как в доме начинается ночь.
Сначала я слышу, как на балконе у Даганов – они этажом выше живут – кричат, чтобы Моше немедленно шел домой. Потом они отключают холодильник от розетки и начинают толкать его к входной двери. Но мало того что он у них тяжеленный, так еще и без колесиков. Не то что наш. К нашему холодильнику колесики приделал Коби.
Их кухня находится прямо над моей комнатой. До того как они начали по вечерам подтаскивать холодильник к двери, я думал, что потолок у меня над головой – это небо и что над мной никого, кроме Бога, нету. Но после нападения террористов неба у меня больше не стало. Теперь, когда я разговариваю с Богом, все время помню, что между нами вклинились эти чертовы Даганы, и меня это ужасно бесит. Разве можно поверить, что у тебя над головой небо, когда наверху стоит такой грохот? То у них холодильник в дверь кухни не пролазит, то плитки на полу крошиться начинают, то они все друг на дружку орут – из-за того, что кто-то из них вовремя дверь не открыл. Или, например, один из братьев вдруг как завопит:
– Почему это я должен один за всех вкалывать?! Расселись тут, понимаешь, как начальники, и только ценные указания даете!
Я слышу их очень хорошо. Их кухонный балкон находится прямо над нашим, и все отлично слышно. Они замолкают только после того, как на них рявкает отец.
Через десять минут все стихает. Значит, дотащили. С этого момента их квартира превращается в тюрьму. Теперь до самого утра из нее никто не выйдет и никто в нее не войдет.
Иногда они доводят меня до настоящего бешенства, и я начинаю мечтать о том, чтобы террористы пришли и расстреляли им к чертовой матери их входную дверь. Я представляю себе, как пули пробивают дверь, проходят через заднюю стенку холодильника, разносят на своем пути все в пух и прах и застревают в большом кочане капусты. Все, что находится в холодильнике, разлетается в разные стороны, а брызги от молока и матбухи стекают по стенкам.
Когда Даганы передвигают свой холодильник, их слышит весь дом. А когда история с холодильником заканчивается, наступает очередь Илуза и Коэна. Они приделали по обе стороны входной двери железные кольца и каждый вечер просовывают в них металлические засовы. От этого тоже поднимается жуткий грохот. Наконец и они оказываются запертыми в своих тюрьмах и для них тоже начинается ночь.
Ну а у Битонов сейчас, наверное, смотрят телевизор, и Альберт сидит с «Калашниковым» на коленях. Чтобы семья чувствовала себя в безопасности. Правда, в рожке у него нет ни одного патрона, но ни его мать, ни сестры об этом не знают. Он сказал об этом только Дуди. А пока он не раздобыл автомат и не стал с ним вот так вот по вечерам сидеть, его мать вообще по ночам не спала.
Я думаю об Альберте Битоне и знаю, что мой брат Коби сейчас направляется к шкафу. И хотя его шагов я не слышу, я абсолютно точно знаю, что он туда идет. Обычно он делает вид, что подошел к шкафу случайно, как будто просто проходил мимо. Чтобы никто ничего такого не подумал. Я вижу, как он прислоняется к шкафу спиной, со всей силой на него надавливает, чтобы проверить, крепкий ли, потом отпирает дверцу ключом, снова ее запирает и уходит, ни разу не оглянувшись. Он считает, что этот шкаф предназначен только для него одного, а все остальные пусть хоть сдохнут.
Потом я представляю себе Эти. Она как бы ненароком подходит к окну, выходящему в сторону оврага, откуда пришли террористы, и, притворяясь, будто ей просто захотелось постоять у окна, начинает вглядываться в темноту. Мне все время хочется ей сказать: «Не бойся, Эти, у меня есть отличный план, как их победить». Но я молчу. Я знаю, что она меня боится. И Далилу тоже.
Раньше я вот тоже все время по вечерам к окну подходил. Однако вся беда в том, что как только ты к нему подходишь, то больше отойти не можешь. Стоит тебе возле него всего пару секунд постоять, и ты уже не будешь спать до самого утра. Так и останешься там стоять, всматриваясь в темноту и пытаясь разглядеть террористов. Так что в конце концов тебе уже всякая чепуха мерещиться начинает. Увидишь, например, какое-нибудь дерево – и думаешь, что это человек. Сердце у тебя начинает колотиться, как бешеное, но потом ты присматриваешься и понимаешь, что это всего лишь дерево. Привиделось, думаешь ты, никого там конечно же нету. И отходишь. Но как только ты отходишь, тебе сразу начинает казаться, что теперь-то они уж точно там появились. Вот ты от окна два шага сделал – и появились. Ты снова бросаешься к окну, чтобы увидеть, как они под нашим домом ползут, со всеми этими своими гранатами, но как раз в этот момент у тебя как назло схватывает живот. Ты бросаешься в туалет, и за пять минут из тебя выходит столько, сколько обычно накапливается за целую ночь, а потом снова возвращаешься к окну. И так каждый день. Хочешь от окна отойти – и не можешь. Отходишь только для того, чтобы спустить свой страх в унитаз.
С тех пор как я принес домой Далилу, я больше у окна не стою. Потому что никаких террористов я теперь не боюсь. Как только слышу, что она кончила есть, сразу ее из шкафа вынимаю и Дуди зову – чтобы он ее привязал и все за ней в шкафу убрал. Он привязывает Далилу к крану, затыкает раковину пробкой и наливает в нее немного воды. Получается что-то вроде озерца. Чтобы Далиле ночью было что попить. И чего мы только для нее в эту раковину не натаскали. Даже маленький лесок ей там соорудили. Чтобы она чувствовала себя как на воле и не подумала бы, что она человек. Потому что еще один человек нам не нужен. У нас тут и так уже людей слишком много. Мы налили на раковину немного жидкого цемента и воткнули в него красивый кусок дерева, а из оврага я принес несколько больших листьев, желудей и круглых камешков. Самые красивые камешки для Далилы подобрал: в роднике нашел.
И вот стоит наша Далила в своей раковине, как в овраге, и красоту наводит. Сначала начинает об дерево клюв чистить. Одну сторону – потом другую, одну – потом другую. Ну в точности как наш парикмахер Эдмонд, когда он бритву об кожаный ремень точит. Причем когда она все это делает, у нее крылья сзади сложены – совсем как у Шмуэля Коэна, когда он в субботу из синагоги возвращается и руки за спиной держит.
Потом она поднимает ногу и начинает взбивать перья на шее. Они шевелятся у нее, как живые, и в конце концов становятся такими же пышными, как мамина прическа на фотографии с бар мицвы Коби. Но прическа Далилы – это вам не то что мамина; она не одноразовая, не на один день. Мама вон один раз в душ сходит – и нет у нее больше никакой прически. И краска у нее с волос смывается, так что седые волосы видно. А Далила – она никогда не меняется. И прическа у нее на голове всегда одинаковая, и цвет волос всегда один и тот же.
После того как она заканчивает свои перья взбивать, начинает приводить их в порядок. Я зрелища лучше этого не знаю. Быстро-быстро так клювом своим каждое перышко – раз-раз-раз. Ни одного не пропускает. А в самом конце делает то, на что я люблю смотреть больше всего. Начинает свою голову так вот поднимать и опускать, поднимать и опускать. Как будто внутри шеи у нее механизм какой-то сидит, который ей голову в движение приводит. Мы, люди, так не можем. Кто знает, может быть, так она свои мысли в порядок приводит. Как перья. Может быть, из-за этого они разложены у нее в голове в идеальном порядке и никогда друг с другом не смешиваются. И никакая грязь к ним не липнет.
Когда мы ее выдрессируем, я буду каждую ночь ее на окно высаживать. Чтобы она там сидела, смотрела на овраг и террористов ждала. А я буду себе в это время преспокойненько спать. Как Бог, закончивший сотворение мира.
Я слышу, как Битон спускается к двери нашего подъезда, чтобы ее запереть. Она железная и закрывается на цепь с замком. В точности как в курятнике у нашей бабушки. Эту дверь нам тоже после нападения террористов поставили. Звяканье цепи и замка – это звук, после которого окончательно начинается ночь. Теперь до самого утра никто из дома не выйдет и никто в него не войдет. До без четверти шесть, когда за рабочими начнут подвозки приезжать. И вместе с нами здесь всю ночь будет наш страх сидеть. Как Далила с мышью в кухонном шкафу.








