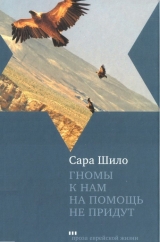
Текст книги "Гномы к нам на помощь не придут"
Автор книги: Сара Шило
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц)
Дуди
Я думаю, если бы Ицика не было, я бы ни за что в жизни не стал лазить по квартирам. Если бы у него не было таких рук и ног, он бы, наверное, лазил вместо меня. Но Ицик есть; и он мой старший брат; и мы похожи с ним, как близнецы. Если он снимет панамку, нас не различишь. Поглядишь на наши лица – и не поймешь, где Ицик, а где Дуди. Только вот руки и ноги у него не дай Бог никому. Но тут уж ничего не поделаешь. Из живота матери таким вышел.
Без Ицика я бы никогда не научился по домам лазить. Без него я просто ноль без палочки. Даже если я сто раз на какой-нибудь дом залезу, или там, например, на скалу, или на забор, и даже если я сделаю все в точности, как он мне сказал, – все равно, когда мне надо будет лезть куда-нибудь еще, я без него этого сделать не смогу. Потому что он стены читать умеет, а я нет. Ему стоит только один раз на какой-нибудь дом снизу вверх поглядеть, и он сразу видит, что на стене написано. Без понятия, что он там на этих стенах видит. Я бы просто залез – и все. А он сначала думает. Только молча. Так было и в тот раз, когда мы решили залезть к солдаткам.
Я тогда увидел, что он замолчал, и стал слоняться взад-вперед, пинать ногами камни, причесываться, потом пошел отлить, а когда вернулся, Ицик уже лежал на земле – как жук на спине – и перебирал руками и ногами в воздухе. Будто взбирался наверх. Только при этом продолжал лежать на земле. Он же от нее оторваться не может, верно? Ну вот. Перебирал он руками и ногами перебирал, а глаза его в это время – медленно так – поднимались вверх, и он ставил руки и ноги в точности, куда надо. Одним словом, он делал на земле то, что я через пару минут должен был делать на стене. А потом говорит:
– Видишь вон ту решетку на окне у Хазана? Поставишь на нее правую ногу и залезешь по ней до верха окна. Только смотри, не засовывай ногу в решетку слишком глубоко, а то, когда станешь ее вытаскивать, у тебя опять ботинок с ноги свалится, как в прошлый раз. Потом подними руки, ухватись за трубу и подтянись – чтобы поставить левую ногу на карниз над балконом, который Эдри себе недавно соорудил. Только осторожнее, понял? Навес этот – пластмассовый и скользкий. И правую ногу на него не ставь. Продолжай держаться за трубу – только чуть повыше, – подними правую ногу и поставь на бетонный выступ. А остальное уже пара пустяков. Там окошки такие маленькие есть. Где птицы гнезда вьют. Ну вот. Ты левой ногой на самое нижнее окошко встань, руку подыми, за следующее окошко ухватись, а потом и вторую ногу подтяни. Потом ухватись обеими руками и продолжай лезть, как по лестнице, пока не долезешь до железяк, на которых у солдаток бельевые веревки натянуты. А там перекинешь ноги через перила – сначала одну, потом другую, – и ты уже на балконе.
Как он мне сказал, так я и сделал. На мое счастье, босоножки Шуламит прямо на этом самом балконе и валялись. Я два пальца в знак победы поднял, он мне в ответ «Ура!» одними губами прошептал, и я побежал в комнату к Лиат. Но она была закрыта на ключ. Что мне еще было там делать? Я вернулся на балкон, Ицик показал мне руками, что все спокойно, я сбросил ему босоножки, а потом ухватился за трубу и съехал по ней вниз.
С девяти лет я с ним этим занимаюсь. Сначала у меня ничего не получалось: кружилась голова, темнело в глазах, я падал, ударялся, один раз даже руку себе чуть не сломал. Но Ицику – как об стену горох. Я плачу, кричу, мне больно. А он и бровью не ведет. И не то чтобы он не хотел мне помочь. Очень даже хотел бы. Просто у него все из рук выпадает.
Как-то раз он дождался, пока я перестану плакать, и говорит:
– Я знаю, Дуди, что тебе мешает. Просто как только у тебя начинает что-нибудь получаться – ну там, к примеру, если ты на один метр вверх подняться сумел или еще что-нибудь такое, – ты сразу думаешь: «Все! Это уже победа!» И у тебя сразу голова работать перестает. Вот представь себе такую картину. Джону Уэйну надо застрелить трех индейцев. Выхватывает он из кобуры револьвер, бах-бах-бах – и все они валятся на землю. Еще даже до того, как успели его увидеть. И вот он от счастья прямо из штанов выпрыгивает. Входит в киношку, где мы с тобой сидим, садится рядом, видит себя на экране и радуется, как малый ребенок. Вот, мол, какой я молодец и герой! Но тут откуда ни возьмись еще один индеец к-а-ак выскочит, к-а-ак лук натянет… Бах! И первой же стрелой его убивает. Понял, к чему я клоню?
В общем, воспитывал он меня так воспитывал, и в конце концов я научился. И когда у меня получалось, он клал мне на плечо свою руку. Не хлопал по нему, как делают обычно, а просто клал руку. Нет в жизни ничего приятнее, чем его рука на моем плече. Одно плохо: мне это сразу об отце напоминает и плакать хочется. Но Ицик, он как только это замечает, сразу свою руку убирает, и мы сидим с ним какое-то время молча. Потому что мы об отце никогда не разговариваем. Зачем нам о нем говорить? Что умерло, то умерло.
Только ради него я у людей и ворую. И все время себе говорю: «С завтрашнего дня перестану». Но Ицик, он не считает, что воровать нехорошо. У него всегда на все объяснение есть. Ты вот, например, думаешь, что правое – это хорошо, а левое – это плохо. Но Ицик тебе в два счета докажет, что все как раз наоборот. У него даже свои заповеди имеются. Насчет того, когда можно воровать.
1. Можно воровать, если мы потом возвращаем украденную вещь в целости и сохранности.
2. Можно воровать, если другому человеку не нужно то, что мы украли.
3. Можно воровать у того, кто сам у других всю жизнь ворует. Это, можно даже сказать, наша святая обязанность – что-нибудь у такого человека стибрить. Взять вон, например, Асулина, из универмага. Он все время завышает цены. В городе можно купить то же самое в два раза дешевле; но люди в город ездят редко и об этом не знают. И вот месяц назад мы с Ициком подрядились разгрузить для Асулина батарейки. Ицик говорит: «Они мне нужны». И зачем уж они ему понадобились, не знаю. Ну он взял да и повалил коробку с открывашками для консервов. Как будто случайно, из-за того, что у него руки такие. Ну Асулин из своего кабинета вышел и пошел ему помочь поставить коробку на место. А я тем временем сунул несколько батареек себе в карман и потом пошел им помогать, будто ничего не случилось. Но как только мы из универмага вышли, меня аж затрясло всего. А Ицик говорит: «Хочешь пойдем посмотрим, какую он себе виллу отгрохал? Откуда у него, по-твоему, деньги на виллу, если он у других не крадет?»
4. Можно воровать, если воруешь для кого-то другого. Это не воровство. Это все равно как если у кого-нибудь что-нибудь взять и кому-нибудь другому отдать. Ицик говорит, что если какому-то человеку какая-то вещь не нужна и он может без нее обойтись, тогда ее вполне можно взять и отдать тому, кто нуждается в ней больше.
5. Иногда мы воруем краденое. Это тоже разрешается. Например, как-то раз Ицик мне говорит: «Эта книга – она ведь все равно не их, верно? Солдатки же ее не купили, так? Видишь, тут печать стоит? Это они у себя в школе взяли, где они учились».
6. Можно красть у того, кто сделал нам что-нибудь плохое.
7. Можно воровать ради великой цели. Однажды Ицик говорит: «Ты только подумай, Дуди, сколько людей погибло от рук террористов. А теперь представь себе, что мы приходим к Шуламит и говорим: „Если ты отдашь нам свои босоножки, то твоя лучшая подруга Лиат не погибнет в теракте“. Разве она их нам после этого не отдаст?»
А когда мне становится стыдно, что мы крадем, и я говорю, что это несправедливо, Ицик сразу переводит разговор на Бога.
– Несправедливо, говоришь, да? А ты что же, думаешь, Бог всем по справедливости все роздал? Поровну? Разве Он сам этим нам не показывает, что справедливости не существует? Он-то вон никогда разным людям одних и тех же карт не сдает. Только десять заповедей Своих всем поровну и раздал. Вот ты мне сам давай скажи, почему один человек рождается во дворце, а другой – в юрте? Не знаешь? То-то. А все потому, что Бог тоже ворует. У одних берет, а другим отдает. Чтобы Ему не скучно было на этот мир смотреть. Поэтому, когда мы воруем, Он радуется. Это означает, что мы правильно поняли правила Его игры.
Вот так вот он мне все время мозги и вправляет, и, когда он рядом со мной, я любому его слову верю. Но когда остаюсь один, я не могу думать, как он. Когда я прихожу домой и вижу фотографию папы, мне сразу плакать хочется. Потому что смотрит он на меня с фотографии и как будто говорит: «Вот ты кем, оказывается, стал, сынок. Преступником». И что я ему на это отвечать должен? То, что мне сегодня Ицик сказал, что ли?
– Ты, – он сказал, – Дуди, по закону все время жить не можешь. Ты должен решить, когда ты по закону будешь жить, а когда нет. Вот что такое, по-твоему, «хороший человек»? Думаешь, «хороший человек» – этот тот, кто всегда по закону живет? Чтобы Бог был им доволен? Ни фига подобного. Люди, к твоему сведению, только притворяются, что думают о Боге. На самом же деле они думают только о себе. Да-да-да. Слушай, что тебе Ицик говорит. Люди – они везде и всегда думают исключительно о себе. И думают, что, когда умрут, в рай попадут.
Ицик
Помню, когда я еще был маленьким, я все время себя спрашивал: «О чем, интересно, Господь Бог думал, когда решил сделать так, чтобы у меня руки и ноги расти перестали? Причем еще тогда, когда я в животе у матери сидел». Ведь Бог, Он же всевидящий, и нет в мире такого места, куда бы Он проникнуть не мог. Нам, людям, Он сделал такие глаза, которые видят только маленькую часть этого мира – только то, что находится перед нами. Но о себе-то ведь Он позаботился гораздо лучше, так? Не знаю уж, правда, как Он там о себе позаботился, но одно я знаю точно. Нет во всей нашей Вселенной ничего такого, чего бы Он не видел. Бог, Он видит все, и на много километров вперед.
И еще Он сделал так, что мать не может видеть, что происходит с ее ребенком, когда тот сидит у нее в животе. Хоть ты тресни, не может. Единственное, что она может, – это надеяться на Бога. Вроде как наша слепая Сулика. Когда она в одиночку переходит дорогу, все, что она может, – это только молиться, чтобы Бог над ней смилостивился. Так и мать. Пока ребенок сидит у нее в животе, она ничем ему помочь не может. И только когда он из нее вылезает и когда она уже ничего исправить не способна – вот только тогда она его наконец-то и видит. Ну а после того, как она его увидела, она ведь уже не может сказать: «Он не мой». Потому что как же она скажет «Он не мой», если все видели, как он вылез у нее из живота? И не просто вылез, а еще и связан с ней веревкой. Вот так вот, с самого начала, Бог и дает ей понять, что она – маленькая и слепая, а Он – большой и видит все.
Когда я был маленьким, я часто лежал на полу. Приклеюсь к полу, как коврик, и лежу по полдня. Когда меня утром приводили в детский сад, я сначала пытался делать то же, что делали другие дети, но у меня ничего не получалось. А когда у меня что-нибудь не получалось, я ложился на пол, закрывал глаза и представлял, как я сижу в животе у мамы и слышу, как Бог приказывает, чтобы у меня перестали расти пальцы. Сегодня, например, говорит: «Пусть вот этот палец у него не растет». Через неделю: «А теперь пусть вот этот». И так каждую неделю показывает на разные пальцы. Я представлял, как Он идет своей бесшумной походкой, а ангел, который за Ним повсюду летает, записывает Его приказы у себя в блокноте. В этом блокноте нарисованы мои руки и ноги, и возле них написано, что пальцы, которые на них только что появились, должны перестать расти.
И вот как только я все это себе представлял, мне становилось ужасно обидно и я начинал беситься. Бился головой об пол, колотил по полу руками и ногами, изо всех сил лупил себя по коленкам, вопил, как резаный, чтобы заглушить мысли в голове, и так до тех пор, пока тело у меня не начинало болеть сильнее, чем сердце. И когда я чувствовал, что мое тело болит так сильно, что больше уже терпеть невозможно, я сразу же успокаивался и начинал прислушиваться к сердцу. Сначала оно билось очень быстро, потом все медленнее и медленнее, а вокруг себя я слышал шаги людей, ходивших по полу. Пол, он постоянно слышит, как мы по нему ходим, и я сам в этот момент тоже превращался в пол. Мне это нравилось. Я лежал и слушал все эти звуки, а мои щеки в это время пытались разогреть плитки на полу. Однако плитки всегда побеждали мои щеки и, вместо того чтобы от них разогреться, наоборот, их охлаждали. Я втягивал воздух в ноздри, вдыхал запах своего пота и, как только чувствовал, что он стал холодным, сразу же с пола вставал и снова старался вести себя, как все другие дети.
Когда я лежал на полу, дети сначала пытались меня поднять: уговаривали, кричали на меня, тащили за руки, – а потом вставали возле меня в кружок, затыкали уши и начинали орать, все громче и громче: «Ицик! Ицик!» Как будто я футболист на футбольном поле. Хотели, чтобы я и дальше так лежал. Орали все, даже девчонки, и так продолжалось до тех пор, пока не приходила воспитательница и не уводила их от меня.
И вот однажды мне решили выделить постоянное место. Помощница воспитательницы взяла меня за руку, отвела к кухне – туда, где находились швабры, тряпки, щетка и ведро – и говорит:
– Ицик, если тебе захочется лечь на пол, ложись теперь всегда только здесь. Тут ты никому не помешаешь, и никто тебя таким не увидит. Только постарайся, пожалуйста, держать себя в руках и не приходить сюда слишко часто.
Она объяснила мне это таким же спокойным голосом, каким объясняла детям, которые описались или обкакались, что это надо делать в туалете и что стыдно делать это рядом с другими людьми; и с этого момента я стал ходить только туда. Вместо того чтобы нюхать свой пот, я теперь каждый день дышал запахом половых тряпок и хлорки и незаметно для себя к этим запахам пристрастился. Даже сейчас, когда я хочу успокоиться, я иду в ванную, наливаю в раковину «Сано-Икс» с лимонным запахом, вдыхаю его – и моя голова сразу перестает думать.
Поначалу я за это Бога ненавидел. Я ненавидел Его за то, что Он сделал меня таким, какой я есть, чтобы Ему было над кем посмеяться. Чтобы Он мог видеть, как у меня все будет валиться из рук; как у меня будет идти кровь, когда я попытаюсь сделать что-нибудь в первый раз; как я упаду, когда попробую идти, – потому что ноги у меня тоже не такие, как у всех других людей. А может быть, Он просто хотел увидеть, как меня будет прошибать холодный пот – пот, который Он сам же в мое тело и впрыснул, – когда я буду пытаться быть таким же, как другие люди.
И вот каждый раз, как я об этом думал, я Его проклинал. Как только о Нем вспомню, сразу в сердцах выругиваюсь. На иврите Его ругал, по-арабски, по-мароккански и даже всякие необычные ругательства для Него изобретал. И в синагогу Его, по субботам, тоже ходить перестал. Чтобы Он понял, что я под Его дудку плясать не собираюсь. Ведь Богу от нас надо только одного. Чтобы мы к Нему в синагогу ходили и гимны Ему там распевали. Про то, какой Он хороший.
И действительно, кому же это не понравится? Вот если, например, какому-нибудь человеку дать такую книгу, в которой будет про него написано все-превсе и которую, если она на пол упадет, все сразу поднимать бросятся, как будто это не книга, а младенец какой-нибудь, и будут ее тщательно осматривать, не случилось ли с ней чего, а потом еще ее и поцелуют – прямо в грязь, которая к ней на полу прилипла; и если в этой книге к тому же будет говориться, что петь надо только про Него одного – про то, какой Он добрый и сильный, и про то, что все должны делать только то, что Он им приказывает… В общем, если кому-нибудь такую книгу дать, разве же Он не захочет, чтобы все люди ее хором читали? Конечно же захочет. Хоть весь свет обойдите, а такого человека, который от этого откажется, не найдете.
Но четыре месяца назад, когда мне исполнилось тринадцать – хотя мне даже и бар мицву не сделали, – мне вдруг пришла в голову одна мысль. Даже и не знаю, откуда она у меня взялась. Может быть, мне послал ее сам Бог? Увидел, что я не хочу Ему подчиняться, и вложил мне ее в голову? Короче, я вдруг подумал: а что, если Бог просто-напросто решил создать новую породу человека? Вот с такими вот руками и ногами, как у меня. Создать – и посмотреть, что из этого выйдет. Может быть, Он хотел создать такого человека, которому ничего из того, что понаизобретали люди, не подходит. Ни их приборы, ни их посуда, ни их инструменты, ни их оружие. И одежда их ему не подходит, и шнурки на ботинках, и карандаши, и ластики, и лезвия для бритья. А что, почему бы и нет? Может быть, Он просто хотел узнать, как такой человек выйдет из положения? Какие он для себя новые инструменты изобретет? Ведь вон даже и тфилин[23]23
Тфилин – две коробочки, содержащие отрывки из Торы. Накладываются на левую руку и на лоб и привязываются кожаным ремешком.
[Закрыть], который придумали специально, чтобы с его помощью привязывать человека к Богу, даже тфилин – и тот ему не подходит. Потому что прежде, чем он сможет привязать себя к Богу, ему еще надо придумать, как это сделать. А ведь тфилин – это не такая вещь, которую тебе может наложить твой брат.
Нет, на самом-то деле я, конечно, не знаю, чего Бог в действительности хотел. Если бы Он сделал меня дураком, я бы, наверное, подумал, что Он просто хотел надо мной посмеяться. Но так как Он вложил в мою голову очень много ума, чтобы я мог думать о всяких там разных вещах, я думаю, что, по-видимому, Он все-таки хотел на мне что-то такое проверить. Может быть, Ему просто надоело смотреть на людей, которые миллион лет подряд делают одно и то же, и, когда я сидел в животе у матери, Он решил, что я, Ицик Дадон, буду первым представителем новой породы людей. И сделал меня таким, какой я есть. А теперь все время за мной наблюдает.
Дуди
Сегодня мы идем в овраг. Мы идем через большие скалы и ушли уже довольно далеко, так что домов почти не видно. Нам не холодно и не жарко. У Ицика на голове большая панамка. Она выглядит на нем, как каска, и доходит ему до самых ушей. Он не снимает ее вообще и даже спит в ней. Он стирает ее только в овраге, под струей родника и, как только постирает, прямо так, мокрую, на голову и надевает. Мне ужасно хочется ее с него снять, потому что она его уродует – не меньше, чем его пальцы, – но Ицику наплевать на то, как он выглядит. Он ведь за всю свою жизнь даже ни разу на себя и в зеркало-то не взглянул. Ходит по улицам так, будто его никто не видит. Ицик, он вообще с людьми жить не может. Я вот наоборот. Если бы вокруг меня были только люди – одни только люди, и все, – мне больше ничего не надо. А для него все люди – предатели. И не только люди, но и все вещи вообще. Как-то раз он мне сказал:
– Наша одежда, она нас тоже предает. Вот, например, Коби. На Песах он подарил тебе свою синюю рубашку, так? И вот как только он тебе ее отдал, я на тебя посмотрел и вижу: она сидит на тебе так, словно ты Дуди, но только в рубашке Коби. Как будто ты просто в нее нарядился, чтобы выглядеть, как он. На следующий день то же самое. Опять ты выглядишь, как Дуди, надевший рубашку Коби. То есть рубашка – она пока еще не забыла, чья она. Но вот проходит месяц – и все. Перестала рубашка быть рубашкой Коби и перебежала к Дуди. И теперь, когда ты ее надеваешь, она уже полностью твоя; по ней уже не видно, что она перешла от одного человека к другому. Или вот, взять, например, машины. В точности то же самое. Помнишь, как Реувен Амар продал свой пикап Махлуфу? Я вон поначалу каждый раз как этот пикап видел, думал, что это Амар едет. Даже, когда видел в окне голову Махлуфа, все равно думал, что он едет в пикапе Амара. Но через пару-тройку месяцев я увидел этот пикап на улице и думаю: «Все. Забыла машина человека, который на ней три года ездил. Теперь это машина Махлуфа». Так и все другие вещи. Мы думаем, что они только наши и больше ничьи, а они нас берут да и предают. А теперь, Дуди, сам мне скажи. Если даже машины и одежда нас предают, как же тогда человеку другого человека не предать?
Мы спускаемся по склону оврага. Я иду впереди: прокладываю дорогу, чтобы Ицик не упал. Я иду так, что со стороны может показаться, будто у нас у обоих проблемы с ногами. Как только я слышу, что он начинает тяжело дышать, сразу делаю вид, что мне надо отлить, или что я устал, или что нога болит, и мы садимся отдохнуть на какой-нибудь камень.
И тут вдруг он начинает говорить. Сначала очень медленно. Как будто его слова – скалы и у него не хватает силенок поднять их все сразу за один присест.
– Слушай, Дуди, – говорит он.
Знаю я это его «слушай, Дуди». Начинается со «слушай, Дуди», а чем кончится, никогда заранее сказать невозможно. Однажды, например, чуть не закончилось полицией.
– Вот представь себе, Дуди, – все так же медленно продолжает Ицик. – Представь себе, что ты – террорист. Куда ты пойдешь? В наш дом?
– Не знаю. Что я тебе такого сделал, что ты меня террористом обзываешь?
– Нет, ты послушай. Вот, допустим, мы с тобой сейчас террористы. Куда мы пойдем?
– Что за дурацкие вопросы ты задаешь?
– Да послушай ты. Давай-ка вот, закрой сейчас глаза и хорошенько подумай.
Мои глаза закрылись сами собой. Такую власть имеет надо мной Ицик. Руками-то я смогу справиться с ним, даже если буду больной. Потому что его собственные руки – бракованные. Но когда мы с ним разговариваем, он побеждает меня двумя словами.
– Короче, Дуди. Сейчас мы с тобой террористы, так? Ты и я. Террористы, понял? Ну, представил уже? Видишь нас? Тысячу раз мы с тобой тренировались, и от этих тренировок наше сердце стало крепким, как сталь, и от страха больше в пятки не уходит. И вот наш час пробил. Ночью мы перелезаем через забор на границе, и нас не ловят. От израильской армии нас отделяет меньше двухсот метров, но, несмотря на все свои прожектора, они нас не видят. Ты слушаешь?
– Знаешь, Ицик, скажи что-нибудь по-арабски, а? А то я никак не могу представить, что я террорист.
– Ахлан ва-сахлан, тфадалу, Аллаху акбар! Аллаху акбар! Рух мин хон! Итбах эль-яхуд! [24]24
Добро пожаловать, пожалуйста, Аллах велик! Аллах велик! Иди отсюда! Убивай евреев!
[Закрыть]
– Здорово! Вот теперь я вижу, что мы террористы. И на головах у нас – куфии.
– Сейчас, Дуди, двенадцать часов ночи. Мы идем уже долго, почти всю ночь. Километров двадцать-тридцать уже прошли, и на спинах тащим оружие и взрывчатку. Иногда мы ползем по земле; в полном молчании ползем. Нас по-прежнему не ловят, и мы продвигаемся вперед. У нас есть карта, но мы ее не вынимаем. Во время тренировок мы выучили ее наизусть и найдем дорогу даже в темноте. Мы доходим досюда, до оврага, залезаем на большую скалу и ложимся на нее. Мы чувствуем исходящий от нее холод. Потом мы проходим мимо красного дерева. Видишь?
– Вижу.
– Сейчас мы видим огни. Можешь приоткрыть глаза. Только не полностью. Пусть они будут больше закрыты, чем открыты. Вот так, правильно. Сейчас мы видим дома, дороги, водонапорную башню, но мы с этим поселком незнакомы. Мы тут ничего не знаем. Понимаешь?
– Чего мы тут не знаем?
– Ну мы ведь тут в первый раз, так? Откуда же мы можем здесь чего-нибудь знать? Мы не знаем, где тут живут румыны, а где сефарды, где дома, в которых живут тунисцы, а где дома, в которых живут только марокканцы. Короче, ничегошеньки мы тут не знаем. Мы нездешние. Мы не знаем здесь ничего. Кто тут люди, кто тут дети, кто тут старики – ничего.
– Ну ладно. Пусть будет ничего.
– А теперь, Дуди, слушай меня внимательно. Если ты увидишь лица людей из поселка, то все, что мы с тобой сделали, пойдет насмарку. Потому что когда ты видишь людей, ты начинаешь думать: этого я люблю и поэтому к нему не пойду, а вот с этим я, наоборот, хочу поквитаться. Ты – террорист, и у тебя тут нет ни родни, ни друзей, никого. Понял?
– Чего ж тут непонятного? Понял, конечно.
– Ну вот. А теперь ты должен выбрать дом. Ты должен решить, в какой ты дом войдешь. Ну? В какой? Говори.
– Ну, я думаю, если я террорист и если я иду по оврагу, то я зайду в первый же дом, который увижу. То есть в дом, который стоит к оврагу ближе других. Поднимусь вот по этой тропинке и войду в него. Короче, чего тут особенно думать-то? Вон туда зайду, в «поезд»[25]25
«Поезд» – длинный дом, состоящий из нескольких домов, пристроенных друг к другу.
[Закрыть]. Правильно?
– He-а, Дуди, неправильно.
– Почему это неправильно? Чего-то я не въезжаю. Зашли бы в «поезд» – и дело с концом.
– А я тебе скажу почему. Вот сейчас я террорист, так? И вот я выбираю какой-нибудь дом. Я знаю, что я здесь умру. Но я не хочу умереть в каком-нибудь случайном месте. Ведь человек умирает только один раз в жизни, верно? И еще я знаю, что меня придут фотографировать и я попаду в газету.
– В какую еще газету?
– Обязательно попаду в газету. Чтоб я такое сделал и в газету не попал? В газету ведь каждый попасть хочет, разве нет? И вот я ищу самый подходящий для этого дом. А для фотографии – для нее, Дуди, любой дом не подходит. Кроме того, не забывай, что я еще хочу и нанести удар. Мы ведь террористы, так? Ты еще не забыл, что мы террористы, правда? Ну вот. Зачем же мы в этот «поезд» попремся? Ну, прикончим, например, какую-нибудь семью, а на нас все к-а-ак возьмут да к-а-ак набросятся. И нам крышка. Услышат, что мы пришли – и как все разом из квартир повыскакивают… Ну, понял теперь?
– То есть ты хочешь сказать, что мы в «поезд» не пойдем, так? Да ты просто не знаешь, как они все там от страха трясутся. Ну эти, у которых квартиры на первом этаже. Вон хотя бы того же Рафи возьми. У него дома как только услышат, что террористы на нашу территорию проникли, так сразу за топоры хватаются. Его отец их под кроватью прячет. Они с ними даже спят. Он их, наверное, из «Керен кайемет» принес. Ну чего ты молчишь-то? Оглох, что ли? Говори уже, куда мы пойдем. Ты еще не сказал, куда мы пойдем. В ступенчатые дома, что ли? Чего ты головой-то трясешь? Как это понимать? «Нет», что ли? А куда? Только не говори, что к нам домой.
– Не боись, Дуди; наш дом я не выберу ни за что. Ни за какие коврижки туда не пойду. Даже если бы мне и захотелось в наш дом пойти, я бы все равно туда не пошел. Из-за одного только мусора не пошел бы. Вот если бы у нас возле дома чисто было, и если бы на стенах не было всякой дряни накорябано, и если бы там еще не воняло так сильно, тогда еще, может быть – может быть! – я бы его и выбрал. И то не уверен. Знаешь что? Давай-ка поднимемся наверх, на нашу улицу. Посмотрим на него.
Мы медленно поднимаемся по тропинке наверх. Проходим мимо высоких деревьев с желудями, доходим до нашей улицы и видим наш дом.
– Никогда бы я его не выбрал, – говорит Ицик. – Никогда. Ты только на него посмотри. Настоящая помойка. Весь мусор, который многодетные семьи выбрасывают, у нас прямо под окнами валяется. Если бы хоть немножечко убрали, я бы еще, может, и подумал. Но в такой дом, как наш, я в жизни не пойду. Пусть сначала уборку сделают. Это в первую очередь. А потом еще пусть и побелят. Они ждут, что за них это местные власти сделают. Давно бы уже могли сами побелить. Можно, например, развести побелку пожиже – и тогда обойдется гораздо дешевле. Две упаковки хватит на весь подъезд. Только надо не переборщить с водой. А то побелка может быстро облететь.
– Ты что же, Ицик, хочешь, чтобы террористы пришли в наш дом, да? Нет, ты скажи, ты правда этого хочешь? Совсем уже с глузду съехал, что ли? Не дай Бог, тебя еще Коби услышит. Думаешь, я молчать буду, да? Как он только с работы вернется, я ему сразу все расскажу.
– Коби? Да что от него толку-то, от Коби твоего? Денег тебе на киношку дал – а ты уж и растаял. А если вдруг террористы к нам в дом все-таки придут – что тогда? Думаешь, Коби тебе поможет? Да он, как только увидит, что они в дом заходят, сразу же в свой шкаф к-а-ак сиганет – только его и видели. Или не видишь, что он все время тренируется, как в шкафу спрятаться? И это, по-твоему, мужик называется, да? Вот если бы наш папа был живой, он бы тебе знаешь что сказал? Он бы сказал: «Спрячься-ка ты, сынок, в этом шкафу сам. Пусть уж лучше ты будешь жить, а я помру».
– Можно подумать, ты лучше Коби знаешь, что делать. Тоже мне, умник выискался.
– Да я хоть террористов не боюсь. Не дрожу перед ними от страха, как все у нас тут в поселке. Пусть приходят, когда захотят. У Ицика для них подарочек заготовлен. Если будешь делать, что я тебе скажу, сам увидишь: они еще пожалеют, что к нам пришли. Пожалеют даже, что на белый свет родились. – И он начал рассказывать мне свой план. – Наша соколиха, – говорит, – она хоть убить их и не может, зато глаза выклевать очень даже может. И не надо, чтоб она на всех нападала – достаточно одного командира. Потому как всем известно: если у террористов убить командира, им сразу хана. Усек? – Я кивнул. – Ну вот. А нам с тобой за это медаль дадут. Медаль – это как пить дать. Только я хочу, чтобы ты с этим парнишкой поговорил. Ну как его там? Который еще в бомбоубежищах рисует. И на этих… На бетонных таких ограждениях вокруг мусорных баков. Пусть он и у нас тоже чего-нибудь такое намазюкает. Все лучше, чем побелка. Заодно и все эти царапины закрасит. И ту дрянь, которую Моти намалевал, когда «Бейтар» проиграл.
– Майкл, что ли?
– Какой Майкл? Это Моти Абарджиль сделал.
– Да нет, я про парня, который рисует. Его Майкл зовут. Я у него дома тыщу раз бывал. Он меня даже один раз кофе напоил. Майкла я беру на себя. Я ему сам скажу, что он нарисовать должен. Если, к примеру, ему сказать: «Нарисуй снежные горы» – он нарисует снежные горы. И деревья может нарисовать. И воду. Как она со скалы падает – словно в кино. Он так в доме у Симы нарисовал. Или, например, ему говорят: «Нарисуй нам море с лодками». И он рисует море с лодками. Да пусть хоть Стену Плача нарисует, если хочет.
– Стену Плача? А Стена Плача-то здесь при чем?
– Да нет, он просто на Песах в Иерусалим ездил и теперь до смерти хочет Стену Плача нарисовать. Одну уже нарисовал. Маленькую такую, у себя в комнате. Но если ему дать стену побольше, он нам такую Стену Плача отгрохает – камни будут как настоящие! Мамой клянусь. Только если ты рукой до стены дотронешься, тогда и догадаешься, что они ненастоящие. Он тебе там и харедим[26]26
Харедим – ультрарелигиозные евреи.
[Закрыть] нарисовать может, со спины. В черной одежде и в круглых шапках. Как они в стену записки кладут. И траву на стене. В общем, что скажешь, то и нарисует.
– А сколько ему на это времени понадобится? Ну, чтоб Стену Плача изобразить?
– Дня три-четыре, я думаю. Может, неделю. И все это совершенно бесплатно! Может, к примеру, Стену Плача на закате нарисовать. Или с голубым небом. Или с птицами. Короче, что ты ему говоришь, то его рука и делает.
Ицик слушал, слушал, подождал, пока я закончу, а потом говорит:
– Да чего ты так на эту Стену Плача-то запал, а? Подумаешь! Тоже мне! Стена как стена. Бог-то тут при чем? Ты мне вот лучше помоги. Я не знаю, как мне мою соколиху назвать. По ночам из-за этого не сплю. Не может же она без имени жить, правда? Она вон со мной даже спит уже, а я до сих пор не знаю, как ее зовут. Никак не могу ничего придумать. Хоть тресни. У меня от этого мозги скоро расплавятся. Не могу я так. Она ж не собака. Она хищная птица. Собаке вон крикни «Блэки» – и она сразу прибежит. «Бобби» крикни – тоже прибежит. Короче, какое имя ей ни скажи, сразу прибежит и хвостом завиляет. А моя птица – она благородная. Она в небе живет. Она вон даже срет когда – и то в небе летает.








