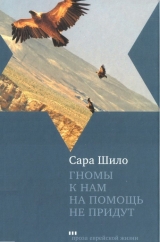
Текст книги "Гномы к нам на помощь не придут"
Автор книги: Сара Шило
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Сара Шило
Гномы к нам на помощь не придут
Авнеру
Симона Дадон
1
Кто бы мог подумать, что «катюша»[2]2
«Катюша» – ракеты, запускаемые с передвижных ракетных установок, которыми Израиль обстреливается с территорий соседних государств начиная с 1968 года. (Здесь и далее примеч. переводчика.)
[Закрыть] застанет меня на улице? Шесть лет я гулять не ходила, как робот жила. Дом – работа – базар. Дом – работа – дом. Поликлиника – дом – работа. И вот тебе на. Стоило Симоне один-единственный раз с протоптанной дорожки сойти, как ее раз – и «катюшей» накрыло.
Как всегда по вторникам, я оставила им на столе кускус с курицей, тыкву, хумус и все такое прочее. И вот «катюши» сыплются мне на голову, и о чем же она, моя голова, в это время думает? Успели, думает, они кускус съесть до того, как первая «катюша» упала, или же так, голодные, в бомбоубежище и спустились?
Я представляю себе, как они бегут в бомбоубежище и мысленно их пересчитываю: Коби, Хаим, Ошри, Эти, Дуди, Ицик. «Идите домой, – говорю я своим ногам, – идите домой!» Но они не идут.
Я сижу на качелях на детской площадке. Сижу себе на детских качелях, отталкиваюсь ногами от земли – и качаюсь. Вперед-назад, вперед-назад. А вокруг – тьма египетская. Когда упала первая «катюша», весь свет в нашем поселке сразу погас. Только в поселке на соседней горе огни еще горят. Во всех домах у них там свет есть, даже в курятниках. И в деревне по ту сторону границы тоже горит. Ну а я вот сижу себе здесь – и качаюсь. «Эй-симона-мона-из димуона. Эй-симона-мона-из димуона». А когда качели останавливаются, начинаю петь:
Дай мне ру-у-ку сва-ю.
Я тво-о-й, а ты ма-я…
Пою и плачу…
Когда падает вторая «катюша», я ору. Падаю на землю и ору. Что есть мочи ору, но сама своего крика не слышу. Потому как не горло мое кричит – сердце кричит. Потом – живот. А когда выкрикиваюсь, меня рвать начинает. Лежу на земле и блюю. И в темноте даже не вижу, что выблевываю. Потом и блевать становится нечем, одна вода выходить начинает. А потом и вода кончается. Но когда я встаю, вдруг чувствую, что железяка, которая у меня внутри шесть лет сидела, – отвалилась!
Господи, как хорошо-то! Вышла она из меня, железяка эта проклятующая, что в сердце моем торчала и в лед его превращала. И как я с замороженным сердцем шесть лет прожила?
Я сажусь на качели, снимаю с головы платок, вытираю им рот и отбрасываю платок подальше. В той стороне, где упала вторая «катюша», стоит наш дом. Мне хочется побежать туда и убедиться, что все целы – Коби, Хаим, Ошри, Эти, Дуди, Ицик, – но вместо этого мои ноги снова толкают землю. Как будто хотят ее раскачать. «Эй-симона-мона-из-димоны-моны». Не слушаются ноги, не идут домой.
Я сижу спиной к нашему кварталу. С верхнего шоссе слышны крики, там бегают люди. Скоро появятся машины – те, что развозят жителей поселка по бомбоубежищам, – приедут кареты «скорой помощи», пожарные…
Ноги мои останавливают качели и начинают идти. Но идут они совсем не туда, где стоит наш дом, а в противоположную сторону. Сама не понимаю, куда они меня тащат. Я обхожу стороной ступенчатые дома и спускаюсь к дому Рики, но мои ноги в ихнее убежище не идут, а ведут меня вместо этого дальше по спуску.
Эх, разделиться бы сейчас частей на двадцать. Расставила бы их по всему поселку – ив одну из них какая-нибудь «катюша» да попала бы. Чтобы я наконец-то исчезла.
Я раскидываю руки, подымаю глаза к небу и открываю рот. В точности как та марокканская девочка, которая выбегала во двор и ловила ртом дождинки. Высовывала язык на всю длину и делала из него тарелку. Чтобы на нее упала хоть одна капля. Та девочка радовалась дождю; для нее он был – как подарок с неба. А я… Я радуюсь «катюше», которая на меня упадет.
Стало тихо. «Катюши» вдруг прекратились. В смысле, это у нас тут стало тихо. Ну а эти-то там небось «катюшу» для меня сейчас заряжают. Ну а Бог – он сидит на небе и смотрит на Симону, которая хочет к нему попасть. Хоть бы он там им помог, что ли, выстрелить как следует! Только чтобы не покалечило. Лежать в больнице – Боже упаси. И чтобы не в инвалидном кресле. Я и сейчас-то уже полуживая. Ну так пусть уж и вторую половину жизни у меня заберут. Господи, дай Ты им, пожалуйста, побольше разума. Чтобы прицелились получше и не промазали.
Да что же это за жизнь-то такая, а? Чтобы умереть – и то везение требуется.
Зачем мне спускаться в убежище? Зачем вставать завтра утром? Чтобы снова вкалывать? Бедные мои домашние обязанности. Что же они делать-то будут, когда Симона к звездам улетит? Как же они без Симоны жить-то будут? Шиву[3]3
Шива (букв. «семь», ивр.) – семь дней со дня погребения, во время которых скорбящим родственникам покойного предписывается не работать, а сидеть на полу и принимать приходящих с утешением.
[Закрыть], наверное, по ней сидеть будут, не иначе.
Те мои домашние обязанности, которые я не успела выполнить утром, сидят себе сейчас небось нога на ногу и ждут, пока я с работы вернусь, из яслей. И как только я в дом войду, они все сразу на меня набросятся. Одна за другой. И будут со мной играть. Я ведь для них все равно что мячик тряпичный. Им-то что? У них-то ведь сил много. Сидели себе весь день дома, отдыхали и поджидали, пока Симона придет.
Как только белье погладишь – оно тебя сразу же раковине перебрасывает. Раковина, как только опустеет, отфутболивает тебя метле. Метла – ванне, младшеньких купать. Ванна – плите, ужин готовить. Плита – обратно раковине. А потом надо еще и белье с веревки снять. И сложить его к тому же. Затем к нитке с иголкой бежать. Ни на секунду не отпускают меня обязанности мои. Играют в меня – и смеются надо мной. Пока не попадаю я в лапы к последней из них, которая уж и не знает даже, кому меня передать. Видит она физиономию мою унылую, понимает, что мне уже не до смеха, и – позволяет рухнуть на кровать. И нет больше нашей Симоны.
Ну вот и все. Без четверти четыре. Пора вставать.
Если я встаю без четверти четыре – все успеваю. А вот если на полчаса позже – весь день насмарку идет. Только вот до пяти я как неживая. Руки как палки, будто они на шарнирах; ноги не держат; в нижней части спины страшно болит. И начинается настоящее соревнование: что у Симоны заболит сильнее. Пятки – точно копыта у лошади, которую только что подковали. А левое колено – просто огнем горит.
Когда муж умирает, жену надо снова девушкой делать – такой же, какой она до знакомства с ним была. Чтобы все можно было заново начать, с той же точки. А не бросать ее посреди пустыни одну, с детьми, когда она уже страшно устала от всех этих бесконечных родов и все тело у нее – в пятнах.
Четыре утра. Домашние обязанности – они тихие, шума не производят. А вот если близнецы проснутся – утру конец. Даже когда у них одеяло на пол падает, я все равно к ним не подхожу. Не дай Бог проснутся.
Иду развешивать белье. Зимой это настоящий кошмар. Ну а летом – ничего, терпимо. Руки не ледяные. И не темно, как зимой. Когда я вечером развесить не успеваю – развешиваю утром. Сушу на веревке весь вчерашний день. Хорошо еще, что стиральная машина счищает с одежды всю грязь. А то по этой грязи – все как на ладони видать. Сразу понимаешь, кто что надевал, кто что ел, кто что делал, кто куда ходил, кто как спал. Прямо как семейная «Едиот ахронот»[4]4
«Едиот ахронот» – ведущая израильская газета.
[Закрыть].
Веревка на сушилке – движущаяся: ездит на колесиках. Я вешаю белье, толкаю его – и оно от меня отъезжает. Вот скоро солнце встанет, пить захочет – и всю воду из белья выпьет.
Масуд ушел – и вся моя кровь вместе с ним ушла. Господи, какая же я дура была. Думала: ушла моя кровь вместе с ним в могилу – и на этом все кончилось. Не знала я, что перед тем, как уйти, он мне кое-что внутри оставил.
Я все плакала да плакала, ничего не ела; точно без памяти все время была. Даже и не думала об этом вообще. Вон уже и посторонние замечать стали, что подзалетела я, – а до меня все никак не доходило. Видела, как они все на меня смотрят, и не понимала, что ихние глаза говорят. Выходила из дома, вглядывалась им в глаза, и у всех в глазах было одно и то же написано. С ума, думаю, что ли, они все посходили? Смотрят на меня, как будто я беременная. Смотрят на вдову, а видят беременную. В общем, не могла я этого понять и не думала себе ни о чем. Пока в один прекрасный день наша повариха Рики не заперлась со мной в перерыве на кухне и не огорошила меня. Я как это услыхала, чуть со стыда не померла. Даже из кухни выходить боялась. Обо мне, оказывается, в поселке уже целый месяц судачили. Подзалетела, мол, бедолага, в самый последний момент. Но Рики эта, она хоть иногда и бывает злющая, но если у тебя беда, никто тебе, кроме нее, не поможет.
– Вот что, – говорит, – Симона, слушай меня внимательно. Будешь тут у меня на кухне сидеть, пока не очухаешься. Ты мне тут давай ни про вчера, ни про завтра не думай. Ты думай только об одном: что когда ты отсюдова выйдешь, то пойдешь с гордо поднятой головой. И будешь людям в глаза без стыда смотреть. Ты пойми, это ж не преступление, что ты беременная, не преступление. Ты же никому ничего плохого не сделала, правда? Ты давай больше никого не слушай, только меня. То, что с тобой случилось, – это счастье. Счастье, понимаешь? Ребенок, который будет носить имя отца, – это счастье! Сейчас тебе, конечно, кажется, что это беда. Но через полгода, когда ты уже будешь знать, что у тебя там внутри сварганилось, ты на это совсем по-другому смотреть будешь, поверь мне. Ну а то, что люди болтают, – пусть это мимо тебя пролетает. Не давай ты ихним словам в свои уши залетать, поняла? Если бы я могла, я бы тебя даже сейчас маслом намазала. Чтобы к тебе никакая дрянь не липла. Да сиди же ты, сиди! Куда ты? И давай не стой мне тут над кастрюлей! А то от твоих слез у меня суп пересоленный будет. Ну вот, так-то лучше. Вот ты уже и улыбаешься, молодец! Ну и куда, скажи на милость, ты опять собралась? Нет уж, дорогая моя, сегодня я тебе убираться не дам!
Она сунула мне в руку чашку чая с полынью, вышла из кухни, собрала стаканы из-под кофе на поднос и сказала:
– Ну вот что, девки, хватит уже тут рассиживаться. Пора приниматься за работу. Гномы-то ведь, они к нам на помощь не придут и убираться за нас не будут.
Тогда я еще не знала, что он вживил мне в утробу двух сыновей. Один мужик от меня ушел, а вместо него два других пришли. Через семь месяцев после того, как его не стало. И оба, как две капли воды, похожи на него. А на меня – нисколечко.
Я оставила им на плите три кастрюли. Каждый день перед уходом я оставляю им обед в трех кастрюлях. Вчера вот, например, приготовила им рис, горох и рыбные котлеты с подливкой. Сегодня – кускус. А на завтра замочила белую фасоль, чтобы суп им сварить. Они его любят. И еще картошку с жареной рыбой сделать хотела.
Люди вот думают: Масуд умер, а я жива. Ничего подобного. Совсем даже наоборот. Это Масуд на самом деле жив, а я – умерла. Как только он меня покинул, так и мне сразу конец пришел. Кончилась моя жизнь. Люди его, бывало, «королем фалафеля» называли, а я его королевой была. А теперь что? Его-то вон до сих пор так «королем фалафеля» и кличут, его место никто не занял. А я? Кончилось то времечко, когда я была королевой.
Как только у тебя мужик помирает, тебя сразу проверять начинают. Сильно ли ты его любила? Пока он жив – на это всем наплевать. Пока человек жив, ты можешь у него хоть всю душу вынуть, можешь про него что хошь говорить, на весь поселок можешь его ославить. Никто даже и бровью не поведет. Но вот как только он помирает – тут сразу приходить начинают. Каждые пять минут приходят и проверяют. Чтишь ты его память или нет? Когда ты с мужем, ты только с ним одним и живешь. Но как только шива кончается, у тебя в доме сразу целая толпа поселяется. Ну и зачем же они все к тебе приходят? Да только чтобы проверить тебя, вот зачем. Хорошо ли ты себя ведешь? И ведь не ленятся, вовсю стараются, ни на минуту тебя в покое не оставляют. Сидят, ушки на макушке, слезы твои пересчитывают. Вынюхивают, выглядывают. Не засмеялась ли ты часом, не дай Бог? Не надушилась ли одеколоном? Не накрасила ли губы? Как будто хотят, чтобы ты вместе с ним померла. Он мертвый? В земле лежит? Вот и ты давай по земле мертвая ходи.
И упаси Господи, если на тебя мужчина какой поглядит. Даже секунды две, не больше. Прямо на месте его и порешат. Чтобы честь твою не замарал.
Когда они видят, что тебе плохо, им тоже тяжело становится. И сердце у них сразу чернеет. Ну и что же они делают, чтобы им полегчало? Да жалость тебе свою на голову выливают, вот что. А жалость эта ихняя – она точно вода в ведре после мытья полов. Черная вся. И вот, выплеснут они на тебя эту жалость свою – и сердце у них сразу такое чистое становится пречистое, ну прям блестеть начинает. Вот, думают, какие мы хорошие, добрые. А ты стоишь себе, до ниточки промокшая, и вся от этой ихней воды в грязи.
Ну а если тебе даже от этой мокрой жалости убежать и удается, тебя еще одна опасность подстерегает: во вдовий сахар вляпаться.
Я вот как вдовою стала, сразу себе сказала: к вдовам не суйся, не вырвешься. Но куда там, они уже тут как тут. Вдовы-то ведь наши, для них это прям как настоящий праздник, когда в поселке новая вдова появляется. А как же! У нас ведь теперь с ними судьба общая. Одной формы и цвета, как говорится, она у нас теперь. И хотят они от тебя только одного: чтобы ты к ним ходить начала. Чтобы сидела ты с ними и слушала, как они тебя своей вдовьей науке обучать будут.
Вот поэтому-то я уже шесть лет, когда по улицам хожу, под ноги себе смотрю. Очень и очень внимательно смотрю. Чтобы, не дай Бог, на вдовье дерьмо не наступить.
Нет, не могу я больше тут с раскинутыми руками стоять и «катюшу» ждать. Нет у меня больше на это силушки. Только одно у меня в жизни было, ради чего мне было руки раскидывать. Но кончилось оно – и опустились мои рученьки.
Ну и куда же наша госпожа Симона направляется ночкой темною? Куда, скажите на милость, несут ее ноженьки? Да на стадион футбольный, вот куда. На самый-пресамый край поселка. Здесь, правда, «катюши» еще никогда не падали, но, даст Бог, сегодня и сюда прилетят. И вот Симона снимает с плеча сумку, бросает ее наземь и стоит на футбольном поле. Трава на поле – сухая: нету у них тут в стране воды. Все время только и делают, что плачутся: «Нету у нас воды!» Только для футбольного поля вода и находится. Но на счастье Симоны сегодня траву не поливали. И вот стоит она на этой траве, и вдруг на нее находит. Рот у нее словно сам собой раскрывается – и она петь начинает:
Чем отличается этот вечер
от других вечеров, от других вечеров?
А тем, что в другие вечера
Симона все пашет да пашет.
Но сегодня вечером, сегодня вечером
прилетит «катюша»
и заберет Симону, которая ее ждет[5]5
Песня Симоны является вариацией на тему песни «Чем отличается этот вечер от других вечеров?», которую поют во время пасхальной трапезы (седера).
[Закрыть].
– Возьми меня к себе, ангел смерти! – кричит Симона.
Но не приходит к ней ангел смерти. Вместо него приходит безумие.
Бедные вы мои, нечастные вы мои деточки. Ну ничего, коли помру, авось и вас наконец уважать начнут. Может, даже денег вам каких дадут. За то, что «катюшей» меня прихлопнуло. У нас ведь в стране как: кого арабы убьют, тому почет и уважение. Как королю какому. Ну а если свихнется кто, то и всей его семье каюк. Ну кто, скажите, на моей Эти жениться захочет, если узнает, что у нее мама с приветом?
2
Где же мне тут прилечь-то, а? Смотрите-ка, какую мне кровать роскошную приготовили! Даже зеленой простыней накрыли. В полкилометра длиной. Я ложусь в самом центре, там, где начинается игра, внутри белого кружка. Только вот беда: не хочет трава с Симоной дружить. Не успевает Симона на траву лечь, как все тело у нее сыпью покрывается и чесаться начинает. Как будто она снова краснухой заболела.
Симона встает и идет к воротам. Почему к воротам? Да потому что там травы нет. И потому что Симона там – как мяч в конце игры. Как гол, который Бог забил на восемьдесят девятой минуте.
Я снимаю туфли, кладу их возле ворот и снова ложусь. Из-за сетки на воротах небо выглядит, как противень с пахлавой, а звезды – как миндаль, которым ее посыпали. Я ложусь на бок, сворачиваюсь в клубок и слышу, как плачут ноженьки мои, от туфлей опроставшись. «Не жалеешь ты нас, – скулят, – не слушаешь наших жалоб. Засовываешь нас в туфли свои и заставляешь тебя целый день на себе таскать».
Да как же все это случилось-то со мной, а? Раньше, бывало, меня все «нашей Симоной» величали. А теперь я уже не «наша Симона» никакая, а просто-напросто лошадь ломовая. Раньше как к кому ни приду – меня сразу обхаживать начинают, в красный угол сажают. Еще бы! Симона-то, она ведь тогда веселая была, смеялась все время. Ну и досмеялась, дурной глаз накликала. И не отвяжешься от него теперь. Шесть лет Симону преследует.
Раньше, помню, стоило мне чего попросить – и через пять минут оно у меня уже было. Да какое там через пять минут – быстрее даже. И каждый, у кого хоть капля мозгов была, рядом со мной постоять мечтал. На случай если счастью вдруг захочется покрасить мою жизнь в розовый цвет. Чтобы и им тоже чуток досталось. Только потому и обнимали они меня все, только потому подарки мне и дарили, чтобы увидело счастье, что они возле меня стоят, – и на них бы перешло.
Каждое утро я совершала обход поселка. Зайду в фалафельную, возьму денег из кассы – немного брала, лир двадцать, не больше, только для того, чтобы, как говорится, не пересохнуть в дороге от жажды, – и в путь. Наизусть все знала – когда обеденный перерыв в банке, когда на почте, когда в школе. С одними гоняла чаи, с другими пила растворимый кофе, с третьими черный кофе из маленьких чашечек потягивала. И дразнила девчат всякими своими вещицами. То чулки им шелковые покажу, которые в городе купила, то новые духи, то прическу свою модную, которую у нас еще никто здесь не видывал, то браслет, который мне Масуд подарил. Ну а если там и мужики были, то и им немножко голову кружила, шутковала с ними, как говорится. А потом еще куда-нибудь шла. Приду, например, в ясли, возьму какого-нибудь ребеночка на руки – просто так, для удовольствия, – а потом сажусь с ними и чаи распиваю. А что? Мне же ведь работать не надо. Зачем нашей Симоне работать?
Масуд, бывало, утром встанет – и уборку мне делать помогает. Я сначала кастрюли на плиту поставлю, а потом мы с ним дверь на ключ запрем, чтобы никто, не дай Бог, не увидел, как он уборкой занимается – потому как для мужика это позор страшный, если кто его со шваброй и тряпкой увидит, – и глядь, часам к десяти с уборкой уже и закончили. Потом его мать к нам приходит – с ребенком посидеть, пока я гулять буду. Ну а он тем временем хумус для фалафеля делает. Ему-то ведь это в сущие гроши обходилось, буквально в гроши. А деньги в кассу так и сыпались.
Куда ни приду, люди сразу работать перестают, шутят со мной, про беды свои забывают. Мечтать начинают, чтобы у них тоже все, как у меня, было. А что? Разве это плохо? Вот, например, когда я перед девчатами своими вещицами хвасталась. Да им же от этого только лучше было. Я им, как говорится, закиснуть не давала. Как покажу им какую-нибудь новую вещицу, которую из города привезла, – так они тоже у Бога просить начинают, чтобы он им такую же дал. И глядишь – через месяц, через полгода, ну, самое большее, через год, у них тоже что-нибудь такое появляется. А они и рады. Да и мужики наши опять же. Как прослышат, что Масуд мне что-то купил, – тоже подкапливать начинают. Чтобы женам своим тоже что-нибудь этакое подарить.
Но не стало моего Масуда – и не стало у меня больше денег. Он ведь у меня на черный день никогда не откладывал, все мне отдавал. А я… Да что там греха таить… Я ведь денег никогда не считала, все до последнего спускала. Но вот ушел мой Масуд – и посмотрите, что со мной стало. «Ну, пожалуйста, ну, прошу вас, сделайте такую милость, возьмите меня на работу в ясли! Хоть на подмену!» А полгода в яслях проработала – и на тебе, двойню родила. А как после родов вернулась, тут как раз Хани уволилась и меня вместо нее на постоянную взяли, в старшую группу. С Ализой Фадида мы там работаем. Восемнадцать детей у нас в группе с ней. Самый младшенький – Ави; ему год и два месяца. А самая большая – Мири; ей два года и семь.
Утром, в полседьмого, я бегу в ясли, а в полпятого – ползу домой. И вот буквально ни одного дня не проходит, чтобы кто-нибудь у нас на работе не напомнил мне о тех временах, когда я еще королевой была. Всю ихнюю зависть, которая у них ко мне накопилась и которую они все эти годы в сердце своем таили, всю эту зависть они мне теперь, как ссуду, возвращают. Да еще с процентами. Причем не сразу – а порциями такими. И когда они этот свой долг выплачивать закончат, не ведаю. На прошлой неделе даже подумала: «Еще один раз кто-нибудь что-нибудь такое скажет, я в них халатом ка-а-к запущу – и домой убегу!»
Какой же это был день? Понедельник? Вторник? Нет, не вторник. Может, четверг? Да какая разница? Что в них, в этих днях-то для меня такого особенного, чтобы мне их еще и по именам помнить? Все они лежат у меня на плечах, как гора, и поперемешались друг с дружкой, как белье в стиральной машине. Вроде бы это рукав, а вроде бы и штанина. А может, и полотенце. А может, и простыня. Нету у меня больше ни одного денька, чтобы я его с утра до вечера запомнила. И нету у меня теперь ни одного денька, чтобы сверкал он и выделялся изо всех других. Чтобы мне захотелось его не в машинке постирать, а на руках. Чтобы его другое белье не покрасило.
В общем, какая разница, какой это был день? Помню только, что это случилось после обеда. Мы как раз детей пеленать закончили, по кроваткам их разложили и сели чаю попить. И тут вдруг Рики из кухни как выскочит – все руки в мыльной пене – да как начнет кудахтать:
– Эй, Сильви, поди-ка сюда. К нам тут сейчас Иегуда придет. Ну, этот, из горсовета, из отдела техобслуживания. С минуты на минуту здесь будет. Это вообще-то я его Дворе позвать велела. Вроде как чтобы он нам тут канализацию проверил. На самом-то деле я хочу, чтоб он нам над песочницей навес поставил. Дай-ка мне вот этот халат. О! Как раз то, что нужно. Стало быть, так. Возьмешь на руки Шломи и выйдешь с ним к Иегуде навстречу. Я тебе уже говорила, помнишь? В общем, ты должна его уговорить, чтобы он нам над песочницей зонтик построил. Ну, как они обычно в детских садах делают. Только встаньте с ним так, чтобы он в мое окно не глядел, поняла? А вы, девчонки, надушите-ка ее. Только быстро, а то он уже сейчас придет. Да что это вы сонные-то какие, а? Можно подумать, это не вы детей, а они вас спать уложили. Да! И подрумяньте-ка ее немножко. Еще чуть-чуть. А ты, Сильви, давай-ка волосы распусти. Мы, девчонки, сегодня гуляем. Все, чем нас Бог наградил, – все сегодня напоказ выставим. Нет, другой ребенок не подойдет, только Шломи. Он ведь сын его сестры. Сыну своей родной сестры он же не откажет, верно? Ну давайте, давайте, ведите его уже сюда. Он, наверное, еще и уснуть-то толком не успел. Сла-а-денький ты мой! Ну-ка попей немножко чайку. Знаешь, кто к нам сейчас придет? Твой родной дядя придет, дядя Иегуда. Хочешь поздороваться с дядей Иегудой? Подожди-ка, Сильви, не выходи пока. Пусть он чуток поближе подойдет. Ну? Не забыла еще, что делать? Сделай вид, что ребенку хочется в песочек поиграть. Все, давай. Иди.
Сильви взяла Шломи на руки и вышла, а Ализа с Леваной прилипли к окну возле плиты и стали подсматривать. Там у нас за окном куст такой растет, с желтыми цветочками, и за этим кустом их совсем не видно. Ну а я села возле кухонной двери – спиной к ним – и думаю: ведь раньше-то, бывало, на такие поручения Рики всегда посылала меня… Приду к ним, помнится, вся из себя разряженная – и выбиваю для яслей все, что попросят. А Рики приговаривает: «Да на свет еще, Симона, такой мужик не родился, чтобы он тебе в чем-нибудь да отказал! И вообще, – говорит, – девки, вам всем учиться у нее надо. В смысле: как с мужиками управляться. От нее вон никогда не услышишь: ой, да ведь он же меня убьет!»
В общем, не стала я вместе с ними в тот день в окно смотреть. Зачем? Что я там увижу? Разве что жизнь мою, на две половинки разрубленную.
Левана и Ализа говорили вполголоса, чтобы Иегуда их не услышал, но Рики трещала не переставая. Сорока настоящая, да и только.
– Смотрите-ка, – говорит, – смотрите, как я ее научила! Видите, как она хихикает? Погодите-погодите, это только начало. Как говорится, рюмка коньяка для аппетита. Чтобы у него голова немножко кругом пошла. Я ей все-превсе рассказала, что делать надо, во всех подробностях. Вот, смотрите, сейчас она ему ребенка на руки передаст, а сама будет босоножку застегивать. Ну, что я вам говорила? Видите? Она его уже за руку держит, чтобы не упасть. А он-то, он-то… Глазами на нее так и зыркает, так и зыркает. Гляди-ка, Ализа, гляди, как она с ним в кошки-мышки играет. То что-нибудь спрячет, то что-нибудь покажет. Не подает ему, как говорится, все порции на одном подносе. Ой, глядите! Глядите, как она голову откинула. Это чтобы он ее шею получше разглядел, понимаете? А сейчас вон, видите? Волосы за ухо заправляет. Смотрите-ка, смотрите, как его глаза за ней следят. Куда она им прикажет, туда и смотрят. Видите, как он на ее сережку вылупился? Нет, вы только на нее посмотрите! Она ребенку руку гладит. Это чтобы Иегуду – ненароком так – коготками зацепить. Чуть-чуть пощекотать и чуть-чуть царапнуть. Чтобы он и сладость ее почувствовал и чтобы ему одновременно немножко больно было. Ой, смотрите, они уже прям как семейная пара какая! Ну фу-ты ну-ты! Муж, жена и ребенок. Видишь, Левана, как он к ней близко стоит? Еще бы. Отойди он хоть на полметра – ее запах ощущать перестанет, только пот свой нюхать будет. А сейчас, видите, она вроде как у халата вырез поправляет. Это она ему так грудь свою показывает. Чтобы понял, что у нее там не пусто. А сейчас, глядите-ка, глядите, словно жалюзи на глаза опустила. Чтобы, когда она их снова подымет, он на цвет ее глаз внимание обратил. А теперь он ей какую-то историю рассказывает, а она, смотрите-ка, руку на сердце положила – и смеется, смеется… Прям на каждое его слово. Он ведь, девки, смерть как рассказы рассказывать любит. Ему ведь даже на самом-то деле и женщина целая не нужна – одних ее ушей за глаза хватит. Ну ладно, будет уже, будет. Пора и про песочницу заговорить. Только бы она не забыла, что делать надо. О! Видите, взяла у него ребенка и вся из себя такая грустная-грустная стала, будто сейчас заплачет. Я ей велела сказать ребенку, что, мол, не могу я тебе, Шломи, сегодня разрешить в песочке играть, прямо на палящем солнце. Вот когда нам горсовет над песочницей навес построит, тогда сможешь играть хоть целый день. Ну, девчата, теперь нашему Иегуде больше отступать некуда. Теперь он просто обязан Сильви пообещать, что зонтик поставит. Чтобы она опять повеселела. Ведь когда женщина грустит, для мужика это все равно как войну проиграть. Вон, смотрите, он аж весь вспотел. Видите, как ворот рубашки поправляет? Он у него прямо к загривку приклеился. Ждет, пока она опять улыбнется. Господи, да куда же это она так торопится-то, а? Подождать, что ли, чуток не могла? Ну, все! Унесли у него тарелку, унесли… Слишком быстро унесли. Прямо во время еды. Видите, как он ее глазами ищет? И решить-то толком не успел, что делать, а тарелку уже раз – и унесли. Видите? Он теперь ни про какой навес и говорить не хочет. Он у нее, можно сказать, закипел почти, а она его взяла да и с огня сняла. Нет, девчата, ну вы представляете? Он уж и про канализацию-то нашу не помнит. Совсем позабыл, зачем пришел. В общем, не видать нам теперь этого зонтика как своих ушей, не видать. Да-а, девчата, это вам не Симона. Вот кабы сейчас к нему она вышла, он бы нам тут не один, а дюжину зонтиков построил. Да-а, ничего не поделаешь. Нету у нас больше такой, как Симона, нету. Только вы, девчата, глаза-то на Сильви особо не пяльте, когда она вернется, не надо. А то она переживать будет. Да и вообще, уже без четверти два. В полтретьего и детки просыпаться начнут. Гномы-то ведь к нам на помощь не придут. И убираться за нас не будут.
Я слышала все, что она говорила, каждое слово. От кого же еще она могла этой науке научиться – как мужиками вертеть – если не от меня? Стоит себе там и толкует про меня так, будто я уже покойница. Даже про мертвых и то так не говорят, как она про меня говорила. Ей ведь и в голову не приходит, что ее слова подействовали на меня, как вода, которую на сковородку с кипящим маслом плеснули. Так и слышу, как вода эта на сковородке шипит. Даже когда я эти слова про себя произношу, меня и то как огнем обжигает.
Мы сидели обедали, а мне кусок в горло не лез. И вся кровь к голове прилила. Хотелось сбежать домой и больше никогда в ясли не возвращаться. Да только как же я эти ясли брошу? Кто же меня тогда на работу возьмет, если я посреди года уйду? Кто на меня посмотрит, если Рики про меня языком трепать начнет? Господи, как я тогда радовалась, что она меня на работу устроила, как радовалась! Чуть руки ей не целовала. И почему, когда человека в тюрьму сажают, он всегда «спасибо» говорит?
3
Луна смотрит на Симону, лежащую в воротах, и что же она там видит? А видит она, что Симона – это вратарь, который прыгнул в правый угол ворот, чтобы схватить мяч. А мяч возьми – да и в левый угол залети.
Через год после того, как ушел мой Масуд, вся его родня меня бросила. Не приходят ко мне больше братья его, сердятся на меня. Как будто это я виновата, что у них дело с фалафелем не пошло. Не понимаю я этого, не понимаю. Ну скажите, при чем тут я? Я, что ли, решаю, хорошо пойдут фалафельные дела или нет? Я, что ли, должна людям говорить, чтоб они фалафель у них покупали? Ну, допустим, я даже в чем и виновата. Допустим. Но Масуд-то? Он-то им что сделал? Неужели они даже на могилку к нему прийти не могут в годовщину его смерти? Стыда у них нет, вот что я вам скажу. Только из-за того, что все свои деньги в фалафельную вложили, а дело у них так и не пошло, только из-за этого меня одну с детишками и бросили.
Вот ихняя мать, она не такая, как они. Она не считает, что в жизни все только деньги решают. Когда Масуд был жив, она все время подозревала, что ему со мной плохо, и смотрела на меня косо. А как умер, сразу ко мне переменилась. Увидит меня на рынке – и давай обнимать-целовать. Приедет ко мне на машине с невестками своими – Рахелью, Яфой и Шошаной, – увидит, что те отвернулись, и деньги мне в руку сует. Я-то обычно не беру, обратно ей в сумку кладу. А она плакать начинает, про детей спрашивает. Как, мол, они там, здоровы ли? Не забыла даже, как их зовут. По именам всех называет, одного за другим. Даже про младшеньких спрашивает. А ведь она их в последний раз видела, когда они еще в колясочке лежали. «Держись, – говорит, – Симона, будь сильная, здоровая». И все по-мароккански со мной разговаривать норовит[6]6
Имеется в виду марокканский диалект арабского языка.
[Закрыть].








