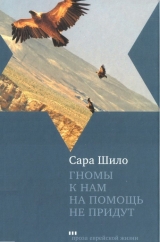
Текст книги "Гномы к нам на помощь не придут"
Автор книги: Сара Шило
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
– Если он, – сказала она мне как-то раз, – не будет ездить в город к репетитору, даже и не знаю, что из него получится. Целыми днями только с этой своей птицей и возится. Ну что же это такое?
Я помню, как она с укором посмотрела мне в глаза, когда я ответил, что у меня на это денег нет. Но я свои глаза в сторону не отвел. Я же ведь ей не соврал. Дело ведь не в том, что мне денег жалко. Дело просто в том, что я обязан откладывать. На стены, на раковину, на плиту, на ванну, на ковер.
Когда я принял решение откладывать, мне вообще стало эти слова выговаривать гораздо легче – в смысле, что у меня денег нет. Я даже и себе это иногда говорю. Например, когда мне хочется купить новый пиджак. Наша семья живет на половину моей зарплаты, на пособия для детей и на те гроши, что мама получает в яслях, и у нас дома все уже давно привыкли, что денег ни на что нет. Даже Дуди – и тот у меня больше денег не просит. А ведь я знаю, что ему очень хочется, чтобы у него карманные деньги были. Правда, раз в две недели я все-таки даю им денег на кино. С этим ничего не поделаешь. Кино – это святое. Без кино тут можно сдохнуть. Но это все. Ни телевизор, ни электропечь, ни новую одежду никто меня купить уже давно не просит. Знают, что подходить ко мне с этим бесполезно. И земельный налог я нашему горсовету тоже больше не плачу, и счета за воду. Один раз нам даже ее отключили. Но я к ним пошел, поплакался, и в результате половину долга они мне скостили, а воду подключили снова. «Амидару» я тоже платить перестал. Уже целый год как за квартиру не плачу. Они мне даже угрожали. Но меня это не волнует. Я и с ними тоже как-нибудь договорюсь.
Для дома я тоже почти ничего не покупаю. Потому что наша квартира – не квартира. Теперь-то я уже знаю, как выглядит настоящая квартира. А наша – это просто свинарник. Для того-то я на заводе и вкалываю, чтобы нас отсюда вытащить. И себя, и маму, и близнецов. Ицик, Дуди и Эти могут позаботиться о себе сами. Я вон в возрасте Эти уже работал. И потом, я ведь на себя денег тоже не трачу, правда? Думаете, я не хочу купить маме красивую цепочку, новый браслет, часы? Очень даже хочу. И увидеть ее лицо, когда она открывает коробочку с подарком, тоже хочу. Но я не папа. Он был как малый ребенок: хотел, чтобы мама всегда была им довольна. Вот и давал ей денег на что ни попросит. Но я умею сидеть тихо и хранить тайну… Если я решаю молчать – из меня клещами слова не вытащишь. Но когда придет время, я принесу маме самые красивые драгоценности в мире – ключи от новой квартиры.
Про эту квартиру я с ней никогда не говорил. Она узнает о ней только тогда, когда будет держать в руках ключи. Мы поедем в Ришон-ле-Цион вместе – она, я, Хаим и Ошри – и не возьмем отсюда ни одной тряпки. Там у нас все будет новое и чистое.
Она откроет дверь и выронит ключи. Ей захочется присесть, и она попросит принести ей стул. Но я посажу ее не на стул. Я усажу ее в кресло, которое стоит в гостиной. Потом я принесу ей из кухни стакан холодной воды и на лице у нее снова появится румянец. И у нас начнется совершенно новая жизнь – с новыми простынями, полотенцами и кастрюлями. Я куплю туда все новое.
Каждый день она входит в нашу спальню, падает на кровать и жалуется, что у нее болит все тело. Я лежу в полуметре от нее, и мне страшно хочется ей сказать: «Мама, бросай ты уже эти свои ясли. Денег у нас хватит. Не надо тебе больше работать». Но я себе этого не позволяю. Вместо этого я закрываю глаза и представляю, как она лежит на кровати в Ришон-ле-Ционе. Кровать большая, деревянная и такого же цвета, как платяной шкаф. Мечта, а не кровать.
Каждый раз, как я приезжаю в Ришон-ле-Цион, я брожу по улицам – часа этак полтора – и заглядываю в окна. Смотрю, какая у людей в домах мебель стоит, чем они занимаются, что покупают, как друг с другом разговаривают, что они делают, когда их дети возвращаются из детского сада или школы. Смотрю – и стараюсь все запоминать. Когда мы сюда переедем, мне это пригодится.
Я хожу по улицам и представляю себе, как на улице Герцля останавливается автобус и из него выходит мама. Она хорошо выспалась, искупалась в новой ванне, красиво оделась, и лицо у нее снова такое же, как на фотографии, сделанной на моей бар мицве. В руке у нее красивая сумка. Только не та, белая, с которой она была на бар мицве, а новая, и в ней кошелек, полный денег. Она заходит в магазины и покупает все, что ей вздумается. В Ришон-ле-Ционе у нее будет прекрасная, человеческая жизнь. Я уже даже знаю, в какую она будет ходить парикмахерскую и в каких магазинах будет покупать одежду. А свой платок и траурное одеяние она выбросит.
Я езжу в Ришон-ле-Цион каждые четыре недели. Дома у нас об этом никто не знает. В пол-одиннадцатого я иду на стройку, чтобы узнать, как она продвигается. Я не хочу, чтобы строительство закончилось слишком быстро: мне нужно время, чтобы собрать деньги. Я смотрю на дома и знаю, в каком из них находится моя будущая квартира. Я хочу только ее одну – квартиру-образец. Никакие другие квартиры в этих домах меня не интересуют. Я готов взять ее такой, какая она есть, со всем ее содержимым.
Прежде чем войти в квартиру-образец, я сажусь на ступеньки, снимаю туфли и вытряхиваю из них песок. В Ришон-ле-Ционе земля не такая, как у нас. Как будто ты попал в другой мир. И земля там у них не такая, и воздух не такой, и даже солнце светит не так, как в нашем поселке. Потом я снова надеваю ботинки, завязываю шнурки, встаю, вхожу в квартиру и начинаю делать обход. Хочу увидеть, какие здесь за последний месяц произошли изменения. Захожу в спальню, в мамину комнату, в комнату близнецов, в ванную. Одним словом, в каждый угол заглядываю: боюсь, как бы мне тут чего не попортили. Ковровое покрытие на полу, например. Вон сколько людей тут по нему топчутся. Как жаль, что я не могу запереть эту квартиру на замок. Чтобы никто там больше ни до чего не дотрагивался.
– Слушай, – сказал я однажды Яфит. – А давай постелим на ковровое покрытие целлофановую пленку?
– Ну, у тебя, Коби, и шуточки, – засмеялась она. – Умереть от тебя просто можно.
– Ну тогда, – говорю, – давай хоть туалетную бумагу из ванной комнаты вынесем. Чтобы в ней больше никто унитазом не пользовался. Тут ведь и другие туалеты есть, поменьше. Вот в них пусть и ходят.
Но и это мое предложение ее тоже насмешило.
Каждый раз, как я прихожу, я смачиваю тряпку и счищаю с выключателей накопившуюся за месяц грязь. Вообще-то в квартире чисто: пол блестит; окна тоже; пыли нигде нет. Но уборщица почему-то не протирает выключатели.
Яфит мне просто поражается.
– Если бы я не умирала здесь от скуки, – сказала она мне однажды, – я бы с тобой даже и разговаривать-то не стала.
Поначалу она всегда смотрит на меня как на сумасшедшего, но к концу своего дежурства всегда соглашается сделать то, что я попрошу.
В полдвенадцатого я выхожу прогуляться по городу. В двадцать пять минут второго Яфит запирает дверь изнутри и оставляет для меня ключ на маленьком балконе. Ровно в полвторого я возвращаюсь, беру ключ, кладу его в карман – чтобы люди подумали, что я пришел со своим ключом, – отпираю замок, вхожу, запираю дверь изнутри, бросаю ключ на обеденный стол и иду на кухню попить воды.
Яфит спит в одной из комнат. Как всегда на животе и положив одну ногу на другую. Она никогда не снимает туфель, и я попросил ее, чтобы она не клала ноги на покрывало. Поэтому ее ноги висят в воздухе.
Она носит очень облегающие джинсы, и, если бы Морди ее увидел, он бы, наверное, не сдержался. Но меня она совсем не возбуждает. Я воспринимаю ее как учительницу, которая заменяет других учителей. Сегодня идет в класс к одному, завтра – к другому. Короче, всего лишь затыкает дыры там, где нужно.
Она рассказывает мне про себя буквально все. Кому же, как не Коби, ей про это рассказывать? И вот каждый раз, как я приезжаю, выясняется, что у нее опять новый парень. Нет, мне такая баба не нужна. Я не хочу такую, которая со всеми подряд путается. Притворится еще, что она моя, а сама возьмет да и другого в дом приведет. Пока меня дома не будет. Такие женщины, они все фальшивые.
Но из меня ей ничего вытянуть не удалось. Она не знает, откуда я приезжаю, и не знает, что мой папа умер. Когда она однажды спросила меня, чем он занимается, я сказал, что он «ресторатор». Услышал это слово как-то раз в Ришон-ле-Ционе и решил его по случаю употребить. В другой раз она спросила, когда я собираюсь внести свой первый взнос.
– На меня, – говорит, – в конторе давят.
– Не волнуйся, – отвечаю. – Просто у папы сейчас много работы. Как только он освободится, сразу заплатит. Примерно через месяц. Ну, самое большее – через два.
Я не боюсь, что за это время мою квартиру продадут кому-нибудь другому. Яфит сказала, что ее продадут в самую последнюю очередь. Это ведь квартира-образец.
Постояв в дверях комнаты, где лежит Яфит, я вхожу, она встает, чмокает меня в щеку, и мы идем на кухню. Она поит меня кофе и расспрашивает, как у меня дела на работе.
Я всегда ей что-нибудь привожу – цветы, например, или какие-нибудь красивые фрукты, – и она всегда этому радуется. Вываливает старые фрукты из тарелки на столе и кладет вместо них мои, а цветы ставит в вазу.
Перед тем как мы с ней уходим, я иду в ванную комнату и смотрю на себя в зеркало – проверяю, какое у меня выражение лица. По правде говоря, пока что мне хвастаться нечем. Не то выражение, не то. Не соответствует оно пока еще моей клятве.
Когда мы выходим из квартиры, Яфит позволяет мне ее запереть, и, когда она дает мне ключ, я испытываю просто какое-то неземное блаженство. Как-то раз, во время своих прогулок по городу, я купил красивый брелок. Очень долго его искал, пока нашел. Вообще-то он пластмассовый, но такое впечатление, что сделан из стекла. А внутри у него – маленький букетик сухих цветов.
Я знаю, что должен вернуть Яфит ключ, но с каждым разом сделать это мне становится все труднее и труднее. Я стою и чувствую, что не в силах его отдать. Как будто этот ключ с брелком – мой ребенок, которого я едва-едва успел подержать за руку, и вот теперь должен оставить на целый месяц одного.
– Ну давай уже, Коби, скорее! – сказала мне Яфит в прошлый раз. – Я тороплюсь. Мне сюда в четыре часа снова надо будет возвращаться.
Но когда она увидела, как мне тяжело, то решила меня немножко подбодрить.
– Слушай, – говорит, – Коби, а может, ты поговоришь с соседями, чтобы они в подъезде не мусорили, а? Давай ты вместо меня на заседание домкома сходишь? А то после того, что случилось в субботу, у меня больше нет никакого желания видеть этого Марковича с третьего этажа.
Я пообещал ей поговорить с соседями, отдал ключ, и она ушла, но после ее ухода я еще минут пятнадцать стоял, как истукан, и не мог сдвинуться с места. Мне страшно хотелось ее спросить, что такое домком, что это за заседания такие они там устраивают и о чем именно они на этих заседаниях говорят. Это же ведь не завод, а простой дом, правда? Так зачем же в обыкновенном доме заседания проводить? Но я ее так ни о чем и не спросил. Потому что в Ришон-ле-Ционе я вообще никому никаких вопросов никогда не задаю. Только смотрю, слушаю и на ус мотаю. А то еще догадаются по моим вопросам, что я нездешний. Если же буду молчать, не догадаются. Потому что я одеваюсь, как они. Как будто я местный.
Кроме того, мне даже и спрашивать-то особенно не надо, потому что из разговоров с Яфит я и так узнаю все, что мне нужно. Научился у нее даже покупателям квартиру показывать.
Яфит часто ходит развлекаться по вечерам, возвращается поздно и иногда приходит невыспавшаяся. В таких случаях я говорю ей, чтобы она пошла в спальню и немного полежала, а сам в это время дежурю вместо нее. И вот однажды она пошла полежать, и тут вдруг приходит пожилая пара. Я постучал Яфит в дверь – мол, давай уже, приводи себя в порядок и выходи, – а сам тем временем стал ходить с ними по квартире. И вот когда Яфит из комнаты вышла, она просто глазам своим не поверила. Какой вопрос они мне ни задавали, у меня на все был ответ.
В общем, практически все, что умеет делать она, я тоже теперь умею. Даже знаю, что надо делать, когда муж и жена начинают спорить.
– Если один из супругов, – сказала мне как-то Яфит, – квартиру купить хочет, а второй – нет, я им в жизни ничего такого не скажу, чтобы они еще больше во мнениях разошлись. Наоборот, возьму иголку с ниткой и начну образовавшуюся между ними дырку штопать. В смысле, постараюсь помочь им к согласию прийти. Ты видел когда-нибудь, как в носке дырку штопают? Втыкают иголку с одной стороны дырки и протягивают нитку до противоположного края. И так зашивают дырку вдоль и поперек, пока она не исчезает. Для этого надо очень много терпения. Причем втыкать иголку нужно только там, где ткань еще крепкая. Иначе штопка быстро порвется.
– Точно! – говорю. – У меня мама именно так и штопает.
– «У меня мама именно так и штопает», – передразнила меня Яфит. – Сосунок ты еще, Коби, младенец совсем. Еще скажи, что ты со своей мамочкой каждый вечер дома сидишь.
Я обиделся, но проглотил обиду и смолчал.
Когда клиенты уходят, ничего не купив, Яфит тоже обижается, но тоже проглатывает обиду молча. Делает вид, что ей все равно. И только через какое-то время говорит:
– Ну и пусть уходят, и не надо. Я перевидала здесь уже столько людей, что сразу знаю, кто из клиентов – серьезный, а кто пришел просто так, чтобы мне мозги поканифолить. Я их уже насквозь вижу. Все им тут, видите ли, не так. И что? Я с ними спорить не собираюсь. Не нравится, пусть сделают ремонт. По сравнению со стоимостью самой квартиры, он обойдется им в сущие копейки.
Особенно мне понравилось, когда Яфит сказала:
– Одному тебе мне эту квартиру показывать не пришлось. Пришел и говоришь: «Покупаю!» Как это может быть? Не понимаю. Ты же ведь до этого даже не был ни в одной комнате. Как же ты мог в эту квартиру так втюриться? Ты что, через стены видишь, что ли? Или, может быть, тебе так сильно дверь понравилась? Или окна?
Когда я поехал с Морди в Ришон-ле-Цион во второй раз и сказал ему, что хочу снова сходить в квартиру-образец, он подумал, что это из-за девушки, которая там сидит. Когда мы высадили людей, я, как бы невзначай, ему говорю:
– Слушай, а ты не мог бы отвезти меня в район новых домов?
Я думал, что он не придаст этому никакого значения, но он вдруг взял да и раскипятился. Остановил машину и давай мне нотации читать.
– Если, – говорит, – это все из-за той девушки, – как ее там зовут? Яфит, что ли? – так вот если это из-за Яфит, я тебя туда не повезу, понял? Ты мне друг, и я не позволю тебе мои ошибки повторять. Пойми, я ведь тогда еще совсем ребенком был и думал, что это только игра. Ну, Фанни там и все такое, понимашь? Я же не знал, что с жизнью своей играю. Ну а теперь уже поздно руками махать. Натворил делов – расплачивайся. Вот я и расплачиваюсь. И буду расплачиваться по гроб жизни. Нет, я, конечно, ничего плохого про Фанни сказать не могу: она женщина хорошая. Только вот жизнь моя, Коби… Как бы это тебе получше сказать? Безмозглая она какая-то, понимаешь? Видишь вон тот магазин? – Он дал задний ход, проехал несколько метров и остановился напротив магазина, на который показал. – Теперь представь себе. Входит туда пятнадцатилетний парнишка. И у него с собой деньги. Первый раз в жизни он пришел в магазин с деньгами. Ну вот. Входит он в этот магазин и берет с полки первое, что попадается ему на глаза. А оно вдруг раз – и выскальзывает у него из рук. И разбивается. Он еще даже и по магазину-то толком походить не успел, по сторонам не огляделся. А оно уже разбилось. Ну? И что же ему остается делать? Только одно. Заплатить и уйти. И взять с собой то, что разбил. Чего ты так на меня смотришь? Думаешь, если Морди все время шутит, значит, ему хорошо? Нет, браток, не значит. У Морди, чтобы ты знал, душа болит не переставая. И больше всего на свете ему хочется снова зайти в тот магазин.
Я сидел и не знал, что сказать. В самом деле. Скажу, что дело не в Яфит, – придется рассказать ему про квартиру. Но ведь про квартиру я ему рассказать не могу, правда? Про нее знает только Джамиль. Но Морди мое молчание не смутило. Наоборот. Когда ты молчишь, ему еще больше говорить хочется.
– Ты ведь уже не ребенок, Коби, – сказал он наставительно. – Поздно тебе уже в игры играть. Тебе пора за ум браться и жену себе подыскивать. Только не такую, а заграничного производства. Как у Элико. Посмотри вон, как он теперь живет. А ведь за него любая бы пошла. Стоило бы ему у нас в поселке только свистнуть – сразу бы целая толпа набежала. Но он легких путей искать не хотел. Решил, как говорится, горячку не пороть. Сначала в армии отслужил. Потом годик в Тель-Авиве покрутился. А как понял, что ему в Тель-Авиве ничего не светит и что он там себе стоящую бабу не найдет, взял да и в Норвегию рванул. А в Норвегии, брат, там тебе не то что тут. Там тебя, когда ты с самолета сойдешь, никто спрашивать не будет, откуда ты родом, кто твой папа и не марокканец ли ты часом. Нет, Коби, в Норвегии языками зря не треплют. Там на человека смотрят, а не на его происхождение. На тело его, на силу, на красоту. А красота, брат, она и в Африке красота: любая девчонка в мире ее оценит. Короче. Выучился Элико по-ихнему и стал рыбой торговать. И всего за полгода кучу денег заработал. Ну а потом поискал-поискал – и нашел в точности, что хотел. Красивую и богатую. Но заметь: не шибко красивую и не шибко богатую. Чтоб не очень-то нос задирала.
Он завел мотор. Я решил, что он наконец-то закончил, и включил радио. Зазвучала реклама:
Когда тебе жарко, когда ты устал —
Налей себе в чашку прохладный «Кристалл»!
Но Морди выключил радио и говорит:
– В общем, съездил парень за границу, сорвал там красивый цветок, вернулся домой и поставил этот цветок в банку с водой. И теперь он для этого цветка и папа, и мама, и братья, и подруги. И что интересно – его жена очень даже хорошо понимает, кто в доме главный. Она знает, что королева в доме – это свекровь, а она сама всего лишь принцесса. Но разве ж ей от этого плохо? Да нисколечко. Он ведь ее тоже холит и лелеет. Просто у каждой в доме свое место. Но что, Коби, в этой истории самое потрясное, так это то, что невестка и свекровь даже и поговорить-то друг с другом толком не могут. Потому что одна говорит только по-норвежски и по-английски, а вторая – только по-мароккански, по-французски и на иврите. То есть на двоих у них целых пять языков, а ни одного общего нету. И чтобы сказать друг-другу одно-единственное слово, им переводчик требуется. Ну и кто же, по-твоему, этим переводчиком служит? Элико, естественно, кто же еще? Но ведь он же себе не враг, чтобы им все подряд переводить. Ему главное, чтобы дома мир и спокойствие были. Вот небось и переводит только то, что считает нужным. Короче, гений он, этот Элико, самый настоящий гений!
Морди все болтал и болтал, а я молчал и думал: «Господи, как же мне от него отвязаться? Как мне попасть в квартиру-образец?»
Когда-то мы учились с ним в одном классе и он был совершенно другим человеком. Даже и не помню, чтобы он тогда что-нибудь говорил. Но теперь его рот открывается буквально каждую секунду. Чтобы засмеяться, чтобы закурить, чтобы поесть, чтобы плюнуть, чтобы поболтать, чтобы запеть, чтобы попить, чтобы рассказать анекдот, чтобы свистнуть. Он даже письма, которые получает, и те зубами открывает. Наверное, эта привычка выработалась у него во время поездок. Человек, чьи руки весь день лежат на руле, глаза смотрят на дорогу, а ноги давят на газ, тормоз и сцепление, подобен парализованному. Единственное, что у него не занято, – это рот.
В результате всех этих разговоров с Морди мне приснилось, как девушка заграничного производства пришла в квартиру-образец.
Мы ехали домой, я клевал носом и сквозь дрему слышал голос Морди:
– Еще до вашего возвращения из-за границы ты должен ей объяснить, что вы с матерью просто не разлей вода. Скажи ей, что ты и мать – как сиамские близнецы. Так что пусть она на эту тему даже и не вякает.
И вдруг я очутился в гостиной квартиры-образца. Там были большой, обитый коричневым вельветом диван и полированный стол. На столе стояли большая пепельница песочного цвета и тарелка с фруктами. На тарелке были нарисованы верблюды, бредущие по пустыне. В углу стоял маленький столик, на нем – черная ваза с цветами. На полу – большой ковер с кружочками, а на окне – портьеры цвета растворимого кофе с большим количеством молока. Они спускались до самого пола, на котором стоял огромный цветочный горшок с декоративным деревом.
Я подошел к тумбочке, на которой стоял телевизор, и стал смотреть на картину, висящую над диваном. Там была изображена река, по которой плыли цветы. Они плыли по воде и не тонули и вдруг превратились в зеленые кастрюли, на которых сидели девушки в белых и желтых платьях. Потом кастрюли с девушками снова стали цветами, а потом – опять кастрюлями. Но мне нравились и цветы, и кастрюли. Эта картина позволяла тебе самому выбирать, что ты хочешь на ней видеть.
Кто бы мог предположить, что цветы можно сажать не только в землю, но и в воду? – думал я. Наверное, все это происходит за границей. И действительно, художник на картине подписался по-английски.
Я просто обожаю эту картину. Каждый раз, как я прихожу в квартиру-образец, я сажусь перед ней на стул и долго на нее смотрю. Иногда по полчаса. Такое ощущение, что эта картина не висит на стене, а медленно движется, и от этого на душе у меня почему-то становится спокойно. Насмотревшись, я закрываю глаза, а когда открываю их снова, мне кажется, что я вижу эту картину повсюду.
Я смотрел на картину и вдруг снова услышал голос Морди:
– Прихожу я как-то раз к Элико в гости. Его жена сидит в гостиной и кормит ребенка из бутылочки. Не женщина, а фарфоровая кукла какая-то. Мать поит меня чаем с домашними печеньями. А сам Элико сидит себе в этом тихом раю и балдеет.
Я усадил женщину заграничного производства на диван. Она пила кофе и смотрела телевизор. Волосы у нее блестели, как пепельница, и были такого же светло-коричневого цвета, а на одежде – кружочки той же расцветки, что и на ковре, только поменьше. Она сидела на диване и неслышно дышала. Я тоже старался дышать неслышно, как она, а потом вдруг поплыл по реке, как цветы на картине, и провалился в глубокий сон.
Когда я открыл глаза, был уже вечер, и мы въезжали в поселок.
5
Я возвращаюсь с завода в поселок и всю дорогу думаю о квартире в Ришон-ле-Ционе.
Поселок, как и промзона, словно вымер. В центре – ни единой души. Время – полвторого. Наверное, все пошли обедать. Я умираю – хочу пить; поскорее бы дойти до дома. И вдруг вижу, что по улице, которая спускается от центра поселка к поликлинике, идет женщина. Господи, да ведь это же мама! Точно! Она! Правда, я вижу ее со спины, но платок, платье и туфли – сто процентов ее. Только как же это может быть? Ведь боеготовность же объявили. Куда же она идет? Может, это все-таки не мама, а какая-то другая женщина? Просто одета, как мама? А может, мне ей свистнуть? Нет, нельзя. Дома – это еще туда-сюда, там никто посторонний не услышит. Но на улице мамам свистеть не принято. Правда, все вокруг сейчас закрыто. Но черт его знает – может, кто-нибудь стоит у окна и смотрит. Ну тогда, может быть, крикнуть ей, позвать? Тоже нет. Что я буду ей кричать? «Мама!»? Но ведь я же ее мамой больше не называю. Как только отцом для Хаима и Ошри стал. Потому что если я при них ее мамой назову, они сильно удивятся. В общем, «мама» не подходит. С другой стороны, я и Симоной ее тоже называть не могу. Как-то это будет по отношению к ней неуважительно, если я стану ее Симоной называть. Ее ведь так только чужие называют. А может, крикнуть ей «Сими!»? Как папа?
Вообще-то я уже давно хотел попробовать. Еще когда в школе учился. Все время представлял себе, как она приходит домой, а я говорю: «Сими». Причем так, чтобы слышали Ошри с Хаимом. Дверь открывается, она входит, а я ей: «Сими!» Как, интересно, она отреагирует? Но каждый раз, когда она приходила, я молчал. Не мог ее «Сими» назвать – и все тут. Это имя у меня буквально в горле застревало. У меня было такое ощущение, что сказать ей «Сими» – это все равно что в субботу огонь зажечь. Думать-то ты об этом можешь сколько угодно, но вот сделать – ни-ни. Даже если ты не носишь кипу, не ходишь в синагогу и по субботам на море ездишь. Держишь в руке коробок, а чиркнуть спичкой не можешь: рука отказывается.
А вот у мамы с моим именем никаких проблем нет. Когда Ошри и Хаима рядом нету, она называет меня Коби, а при них говорит «папа». «Скажите папе», «идите к папе», «не шумите, папа спит».
Я продолжаю смотреть маме вслед. Знаю, что, если назову ее Сими хотя бы один-единственный раз, мне сразу станет легче. После этого имя «Сими» будет вылетать у меня из рта безо всякого труда. Но здесь, на улице, я этого сделать не могу. Подожду-ка я лучше с этим до Ришон-ле-Циона. Там ведь нас никто не знает. Как только мы туда приедем, я дам ей ключи от новой квартиры и скажу: «Поздравляю тебя, Сими! С новосельем!» И ничего страшного не случится. Папа, что ли, из могилы встанет, чтобы мне пощечину дать? Не встанет. Ну а мама… Она будет так рада новой квартире, что даже и внимания не обратит.
Пока я думаю, как мне позвать маму, она успевает дойти почти до конца улицы. Она идет с белой сумочкой, которую я помню еще по бар мицве. Она не вынимала ее из шкафа с тех пор, как умер папа. У этой сумочки две белые лямки, прикрепленные к ней большими золотыми кольцами. Застежка у сумочки тоже золотая; даже отсюда видно, как она сверкает на солнце. Только вот как-то странно видеть ее с сумочкой, она ведь никуда с сумочкой не ходит. Когда идет на работу, берет с собой целлофановый пакет, а на рынок ходит с большой хозяйственной сумкой, в которую бросает кошелек. Почему же она сегодня-то с сумочкой?
Она переходит дорогу и скрывается из виду. Куда же она все-таки пошла? Что у нее там за дела? Может, она идет в гости к Сильви? Дом Сильви находится как раз там. Но ведь она в гости практически ни к кому не ходит. Что же это с ней сегодня случилось?
Неожиданно я чувствую острый приступ голода. Ладно, надо идти домой.
Я поднимаюсь по лестнице, вхожу в квартиру и направляюсь на кухню. Ошри, Хаим и Эти спят. На кухне я разогреваю кускус и кладу его на тарелку вместе с большим куском тыквы. Но еда не лезет мне в горло. Я подношу ко рту ложку, полную кускуса, но не могу заставить себя его проглотить. У меня перед глазами все время стоит мама, идущая вниз по улице. Сумочка у нее при ходьбе раскачивается и бьет ее по заду.
Я чувствую, что больше не могу. Я должен это прекратить. Мне надо немедленно пойти в ванную.
Я снимаю пиджак и туфли, вхожу в ванную, вставляю в ручку двери швабру, чтобы никто не смог открыть дверь снаружи, раздеваюсь догола, кладу одежду на раковину, задергиваю занавеску, открываю воду на полную силу и сажусь на пол. Пол холодный, а вода горячая, почти кипяток. Она хлещет меня по голове, и я пригибаю голову, чтобы она била меня по спине. По спине гораздо приятнее.
Я смотрю на своего зверька и вдруг понимаю, что не могу до него дотронуться. Он лежит съежившись, как будто ему угрожает опасность, а я не в силах ему помочь. Я не могу взять его в руку, когда перед глазами у меня стоит мама, идущая по улице. Что же мне делать? Я закрываю глаза и пытаюсь представить себе женщину заграничного производства. В конце концов мне это удается, но она получается у меня какая-то бесплотная. Как будто под одеждой у нее совершенно пусто, один воздух. Тогда я обращаюсь к Яфит: «Может, хоть ты мне его подержишь?» Но и с Яфит у меня тоже ничего не получается. Она брезгливо морщится, говорит, что я чокнутый, и презрительно заявляет, что в такую квартиру, как наша, она в жизни своей не пойдет. Тогда я представляю, как Яфит сидит на диване в квартире-образце. Она встает с дивана, идет в спальню, вылезает из туфель на высоких каблуках, ложится прямо в одежде на кровать, поворачивается ко мне спиной и начинает болтать ногами. Я вижу, что на ногах у нее нет чулок, беру его в руку и начинаю массировать. Вниз-вверх, вниз-вверх, вниз-вверх. Сначала моя рука движется очень медленно, и мне хочется, чтобы это никогда не кончалось, но кровь у меня начинает пульсировать все сильнее, дыхание становится все более учащенным, и я чувствую, что больше терпеть не могу. Вот сейчас… сейчас… сейчас все кончится… Я пытаюсь сдерживать свою руку, чтобы она продолжала двигаться медленно, но тут вдруг губы у меня пересыхают, сердце начинает колотиться, как бешеное, тело напрягается, как пружина, готовая вот-вот распрямиться, и я понимаю, что сдерживаться больше не в силах. Моя рука начинает двигаться все быстрее и быстрее, я вскрикиваю и выстреливаю.
Я продолжаю сидеть под душем, пока горячая вода в баке не заканчивается и на спину мне не начинает течь холодная. Я закрываю кран, встаю, выхожу из душа, вытираюсь, одеваюсь, вынимаю палку из ручки двери и выхожу из ванной, даже не посмотревшись в зеркало. Мне холодно. Кран в раковине подтекает, и рубашка, лежавшая на раковине, намокла; на животе у меня большое мокрое пятно. Брюки внизу тоже подмокли, потому что на полу в ванной была вода. Я иду в свою комнату, переодеваюсь во все сухое, ложусь на кровать и с головой укрываюсь одеялом.
Только бы она сейчас не пришла. Только этого мне сейчас и не хватает, чтобы она вернулась домой. Какой поганый день. И зачем только армия объявила эту боеготовность? Не понимаю. Отняли у нескольких тысяч людей целый день, перевернули его вверх тормашками, вытряхнули из него все содержимое и вернули пустым. И вот теперь люди должны слоняться по улицам и ждать, пока им с неба что-нибудь на голову свалится. Лучше бы уж нам вообще ничего не сообщали. Живем себе и живем. Ну а если нам суждено умереть, то уж лучше умереть в самый обычный день, когда мы на своем привычном месте – на работе, в школе. И жить так лучше, и умирать тоже, когда ты на своем привычном месте. Я очень сердит на армию. Под одеялом становится жарко. От постели хорошо пахнет. Я смотрю на простыню. По-моему, мама опять ее поменяла. Не понимаю, что на нее нашло. Каждый день меняет. Уже целую неделю так. И откуда у нее только силы берутся – каждый день стирать и новую стелить?
Я закрываю глаза и вижу себя, маму и Ошри с Хаимом, когда они были еще совсем маленькими. Целых полтора года они спали вместе с нами. Мы – по сторонам, как ограда, а они в середине. «Как козлята в загоне», – говорила мама. И все время мы были с ней в каком-то полубреду: когда ты сам не понимаешь, спишь ты или бодрствуешь. Иногда я видел, что она лежит с открытыми глазами, и заговаривал с ней, но она не отвечала: спала. А один раз, помню, она их покормила, и я подумал, что она уснула, а она вдруг говорит:








