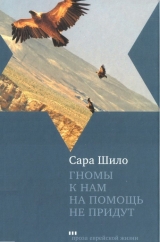
Текст книги "Гномы к нам на помощь не придут"
Автор книги: Сара Шило
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 16 страниц)
Однажды Коби вернулся домой из школы, взял их на руки и стал кружить в воздухе. Сначала они испугались, но потом начали визжать от радости, и Коби их передразнил: «па-па-па». И все. С этого момента он стал для них папой. После этого каждый раз, как он приходил домой, они хором кричали: «Па-па-па-па» и тянули к нему ручки, чтобы он их покружил.
Однако по мере того, как Хаим и Ошри подрастали, подрастала и ложь. Я видела, как она растет и распространяется по нашему дому, без разрешения пролезая в каждую щель, и начала ее бояться. Я боялась, что она проникнет ко мне в голову, и дала себе клятву, что буду с ней сражаться. Однако, как сражаться с ложью, я не знала, и, пока я думала, что мне делать, в нашем доме все изменилось. Мама с Коби стали спать в одной кровати, как муж и жена; Коби, в отличие от всех своих друзей, перестал интересоваться девочками; плюс к тому он начал нами командовать, как будто не был всего лишь нашим братом, и мама позволяла ему на нас кричать. Она даже не сделала Ицику бар мицву. Да и как она может ее сделать, если все деньги, которые зарабатывает, отдает Коби.
Я не знала, что делать с ложью, и начала уже было приходить в отчаяние, но, на мое счастье, мы стали проходить в школе историю Иакова. Из этой истории я узнала, что он тоже пострадал от лжи. Сначала из-за лжи он получил право первородства, а потом его обманом женили на девушке, на которой он не собирался жениться. И вот когда я об этом узнала, я решила сочинить для близнецов сказку, которая сумеет победить ложь, поселившуюся в нашем доме.
Одного я никак не могла понять: почему Хаим и Ошри сами не видят, что это ложь. Почему, думала я, они никак не могут этого понять? Ведь если бы они захотели, они бы смогли выяснить правду безо всякого труда. Разве так трудно заметить, что Коби слишком молод, чтобы быть для меня, Ицика и Дуди отцом? И разве они не знают, что никто из нас его папой не называет? В конце концов, они могли бы просто взглянуть на фотографию, сделанную на бар мицве Коби, и сразу бы заметили, что что-то не так. Но когда я вгляделась в эту фотографию внимательнее и увидела на ней папу, я вдруг подумала, что человек, который никогда за близнецов не волновался, не радовался их рождению, да и вообще умер, так и не узнав о том, что им предстоит родиться, – такой человек, наверное, все-таки не может считаться их настоящим отцом.
Я встала с матраса. Колени у меня болели. Мне хотелось размять ноги, походить, потому что от долгого сидения мое тело устало, но в бомбоубежище невозможно было даже шагу ступить. Было такое ощущение, что людей стало больше; как будто за время сна людская масса разбухла и поднялась, как булочки на противне. Я стала вертеть головой, чтобы размять мышцы шеи, но голова у меня закружилась, и мне пришлось схватиться за стену. Моя блузка сильно помялась, и у нее оторвалась верхняя пуговица. Чтобы она не распахнулась, мне пришлось придерживать ее рукой. Марсель проснулась, посмотрела на меня, сразу все поняла и что-то шепнула Агуве. Та порылась в сумке и протянула ей булавку.
– Теперь можешь не волноваться, – сказала Марсель, скрепив мне ворот.
Я сняла с косы резинку, расплела ее, прочесала волосы пальцами, разделила их на три длинных змейки, взяла одну из змеек в одну руку, а две других – во вторую и начала заплетать косу заново. Мне нравилось чувствовать, как змейки извиваются, скользят из одной руки в другую и переплетаются между собой. Когда я закончила заплетать косу, я провела пальцами по всей ее длине, чтобы проверить, достаточно ли она гладкая, и снова закрепила резинкой. От этого моя голова словно ожила, и по затылку растеклась приятная истома.
Потом я снова распустила косу, разделила волосы на две равные части и начала заплетать уже две косы, но, когда закончила заплетать вторую, обнаружила, что у меня нет для нее резинки. Марсель сонно улыбнулась и протянула мне резинку своей дочери. Я улыбнулась ей в ответ, и на ее лице появилось такое выражение, какое бывает у младенца, когда перед началом субботней трапезы отец окунает мизинец в серебряный кубок с вином и дает ему его пососать. Я вспомнила, как это делал папа, когда Дуди был еще грудным ребенком.
Вчера было очень жарко. Хаим и Ошри уснули, а я подошла к закрытой двери комнаты Ицика и стала слушать, как он разговаривает со своей птицей. Он говорил с ней так, как мужчины в фильмах говорят со своими возлюбленными. Они с Дуди дали ей женское имя Далила, думая, что она самка. Они просто не знали, что в детстве самцы соколов по расцветке бывают похожи на самок. Я узнала об этом совершенно случайно, когда слушала по радио передачу Азарьи Алона и он вдруг заговорил о соколах. Правда, что он рассказывал потом, я не знаю, потому что сразу же выключила транзистор. Терпеть не могу этих соколов.
К птице Ицика я никогда не подхожу, даже когда Ошри умоляет меня пойти вместе с ним в старую кухню посмотреть на нее и начинает тянуть меня за руку. Да и к самому Ицику я тоже стараюсь не приближаться. Не знаю почему. Скорее всего, из-за его рук. Иногда мне кажется, что он специально выставляет их напоказ, чтобы все увидели, какие они страшные. И еще я боюсь, что он посмотрит на меня своими пронзительными, словно прожигающими тебя насквозь глазами и по выражению моего лица решит, что не только его руки, но и он сам тоже вызывает у меня отвращение, хотя на самом деле это не так.
Я вынесла мусор, спрятала мусорное ведро в кустах и пошла к маме в ясли. Мои ноги не шли, а бежали, как будто им тоже не терпелось поговорить с мамой и как будто они хотели помочь мне убежать от моих вечных спутников – сомнений, которые никогда со мной не расстаются и всегда преследуют меня по пятам. Вот и сейчас, обнаружив, что я ушла из дому, они начали вопить на всю улицу: «Вернись! Что ты делаешь? Как тебе не стыдно?» – и я знала, что они вот-вот бросятся за мной в погоню. Но сделала вид, что их не слышу, и продолжала бежать.
Все дети в яслях сейчас спят, думала я, и я смогу с ней спокойно поговорить. Скажу ей, что так больше нельзя и что надо рассказать близнецам правду, прежде чем другие дети, в школе или на улице, не наговорят им каких-нибудь гадостей. Через несколько месяцев они пойдут в первый класс и тогда уже будет поздно. «Ты, – скажу я ей, – никогда не училась здесь в школе и знаешь о ней только то, что слышишь на родительских собраниях. Ты даже не представляешь себе, какими жестокими могут быть здешние дети». И чтобы окончательно прогнать свои сомнения, я представила себе, что именно Ошри и Хаим могут вскоре услышать на переменах.
– Мой брат Цион поклялся Торой, что ваш отец умер.
– Всем известно, что Коби – всего лишь ваш брат.
– Нет у вас никакого отца.
– Во всем нашем поселке только вы одни не знаете, кто ваш отец.
И наконец, самое страшное, что им могут сказать:
– Все знают, что ваша мама трахается с Коби.
5
– Баба, та еще потерпеть и может, а вот мужик – нет, – услышала я голос поварихи Рики и остановилась. – Для мужика неделя – это все равно что вечность.
Я не хотела, чтобы они меня увидели, и пошла, прижимаясь к стене. Зарешеченная дверь была закрыта. Как и обычно в это время, они сидели на детских стульчиках за маленьким столом возле входа. Были слышны взрывы хохота, но знакомого маминого смеха, который обычно звучит так, словно она пытается его выкашлять, я не слышала. Как, впрочем, и звонкого смеха Ализы.
– Еще не родился тот мужик, который получит мое тело до свадьбы, – заявила Сильви.
Левана сказала что-то по-мароккански, и все снова засмеялись.
– Ну все, девки, хватит вам рассиживаться, – объявила Рики. – Гномы за нас убираться не будут.
Я услышала, как они ставят стол на место, и напомнила себе, зачем сюда пришла, но перед глазами у меня вдруг возник мужик, о котором они говорили. Он был похож на букву гимел – ג, с которой в иврите начинается слово «мужик», и чем-то напоминал сокола Ицика. Голова у него была маленькая, глаза выпуклые, а одна нога выкинута вперед. Он держал руки в карманах и плотно прижимал их к телу, как будто ему было трудно терпеть. Потом я увидела женщину. Она была похожа на букву алеф[42]42
В иврите с буквы алеф начинается слово «женщина».
[Закрыть] – א. Ее руки были вскинуты кверху, ноги раздвинуты; она самозабвенно исполняла танец живота, а длинные волосы покрывали еще не округлившиеся ягодицы.
Неожиданно зарешеченная дверь открылась, и меня обрызгало водой. В дверях появилась Левана со шваброй в руке.
– Ну ты меня и напугала, – сказала она. – Входи, входи. К маме пришла? Только подожди, я положу сухую тряпку, чтобы ты не наследила.
Я пошла в группу мамы и Ализы. Дети спали на раскладушках, и в воздухе словно парили их спящие души. Пахло мочой и овощным супом. Одна раскладушка стояла пустая, и ее провисший зеленый брезент как будто приглашал меня лечь на него и уснуть.
Мама и Ализа были в детском туалете. Они вынимали из рюкзаков детей чистые и сухие белые пеленки и смачивали их в ванночке, предназначенной для стирки грязных пеленок. В первый момент они меня не заметили, но, когда мама подняла голову и увидела, что я стою в дверях, она решила, что случилась какая-то беда, и на лице у нее появилось испуганное выражение. Я поклялась ей, что дома все в порядке, и она снова стала смачивать пеленки.
– Эти, детка, постой пока тут в дверях, чтобы какая-нибудь мамаша случайно не зашла, – попросила меня Ализа. – Мы уже скоро закончим.
– От них в жизни «спасибо» не услышишь, – сказала мама. – Никогда тебя не поблагодарят. Ни за скатерть, которую мы сшили для кукольного уголка, ни за что вообще. Их интересует одно – сколько в пакете вонючих пеленок. Не успевают прийти, как сразу суют нос в пакет и давай пеленки считать. Можно подумать, там не дерьмо лежит, а брильянты.
Мама окунула в грязную ванночку очередную чистую пеленку.
– Если у какой-нибудь мамаши в пакете меньше четырех грязных пеленок, она сразу же на нас набрасывается и начинает орать. «Почему, – кричит, – вы моему ребенку пеленки не меняете? Он что, у вас тут – весь день так обоссанный и ходит?!» Они думают, что если у детей попки красные, значит, это обязательно мы виноваты. А попробуй им скажи, что это из-за того, что они сами своим детям забывают по вечерам пеленки менять, – на части разорвут.
Мама распрямилась, положила руки на поясницу и сказала:
– Ну все, хватит. Надо пойти кофейку попить. А то у меня уже спина отваливается.
Ализа сделала мне знак головой, чтобы я сменила маму. Я посмотрела на них обеих и хотела было сказать, что пришла не за этим, но промолчала, взяла у мамы из рук сухую пеленку и нагнулась над ванночкой. Из воды на меня смотрело мое лицо, как будто оно упало туда вслед за маминым.
– Ализа пеленочки все замочила, – стала декламировать Ализа голосом, в котором перемешались горечь и сладость, – Розетт дала, Шуле дала, Анат дала, Яффе даже две дала, и только для Симы не хватило. Но Ализа походила-походила, поискала-поискала и для Симы тоже нашла.
Я смотрела на свое отражение в воде, искажавшееся каждый раз, как я окунала в нее пеленку, и думала: «У Мошико пока только две грязных пеленки, но это нестрашно. Одну намочим – будет три. А когда он проснется, заменим ему ту, в которой он спит, и станет четыре. Так что его мама останется довольна». И вдруг я с ужасом поймала себя на мысли, что начинаю рассуждать в точности, как они.
Ализа намылила руки, передала мне мыло, вымыла руки под краном, вытерла их и посмотрелась в зеркало. На ее лице уже не было выражения горечи и обиды. Она достала из кармана халата пинцет и стала ловко выщипывать себе брови.
– Мой руки, – сказала она, продолжая глядеться в зеркало, – и пошли немножко посидим. Кто работает, тому и отдых полагается.
Я поняла, что, если заговорю сейчас с мамой о том, что пришло время сказать Хаиму и Ошри правду, она посмотрит на меня, как на ребенка, который ни в какую не хочет расставаться со сломанной куклой, и скажет: «Эх, Эти, Эти… Ничего-то ты в жизни еще не понимаешь».
Ну что ж, подумала я, значит, рассказать близнецам об всем я должна сама. И с этой мыслью пошла домой.
Я попыталась представить себе, что происходит сейчас в бомбоубежище, где сидят наши. Коби, наверное, стоит у двери, как будто собирается уйти, и на лице у него такое выражение, какое бывает у манекена в витрине магазина, который убеждает себя, что не имеет никакого отношения к этой шумной и грязной улице. Как будто он стоит и думает: «Я здесь только временно. Это все не для меня». Ошри и Хаим лежат на матрасе, но они такие маленькие, что даже вместе занимают меньше, чем полматраса. Я вспомнила, как однажды они забрались в корыто для стирки белья, свернулись калачиком и сказали, что так они лежали в животике у мамы. Дуди все время слоняется взад-вперед и ищет какого-нибудь мальчишку, с которым можно поболтать, или девочку, с которой можно познакомиться. Ицик кричит Дуди, чтобы тот подошел и помог ему с птицей, которая всех ужасно раздражает. А мама ходит по бомбоубежищу и уговаривает всех сесть рядом с ней и угомониться, чтобы, когда все это кончится, люди не трепали про нас языками. Если же Ошри и Хаим сейчас не в бомбоубежище, то, наверное, она сидит и тихонько молится, чтобы пришел Иегуда и сказал, что видел их в другом бомбоубежище, как и меня.
А правда, вдруг подумала я, где они сейчас? Я никак не могла вспомнить, где была до начала обстрела и где рассталась с близнецами.
Я вернулась домой из яслей с новой ложью и приготовила уроки по Библии, а когда прошел вечер, ничем не отличавшийся от других, и наступила ночь, я заснула рядом с Хаимом и Ошри. Через несколько часов я проснулась, встала, поправила им одеяло и посмотрела на часы. Была уже глубокая ночь. Дуди спал. Я вышла в коридор, приложила ухо к двери комнаты, где спали мама и Коби, но ничего не услышала. Мне страшно хотелось ее открыть и заглянуть внутрь, но я не осмелилась.
Я легла в кровать, но никак не могла уснуть. Встала и вышла на балкон. Там висело белье, мама вывесила его вечером, и бельевые веревки выглядели словно линейки в тетради, на которых было написано: «мамино платье» или «брюки Ицика», а прищепки – как запятые. Мамино платье, запятая, штаны Ицика с резинкой, запятая, две рубашки Дуди и Ицика, запятая, белая рубашка Коби, запятая, носки Ошри и Хаима, запятая, моя школьная юбка, запятая, простыня мамы и Коби, точка. На простом и понятном языке наша одежда сообщала всему миру, что мы – члены одной семьи. Однако за этим явным сообщением, которое могли прочитать все желающие, скрывалось еще одно, тайное, которое было понятно только нам одним и гласило: «В жизни этой семьи не было ни единого дня, когда на одной веревке одновременно висела одежда всех ее членов без исключения – папы, мамы и шестерых детей».
6
Я тихонько вошла в комнату, где спали Ошри и Хаим, и еще раз поправила им одеяло. Спать мне совершенно не хотелось. Я взяла свой школьный рюкзак и пошла к шкафу Коби. Я проходила мимо этого шкафа много раз, но никогда его раньше не открывала. Ведь он не мой.
Вскоре после смерти папы Коби вынул из шкафа все полки и стал учиться в нем прятаться. Залезет, посидит и вылезает. Опять залезет, опять посидит и опять вылезает. В результате шкаф совершенно расшатался, но Коби это не смущало. Кроме того, он стал замерять время, которое необходимо, чтобы добраться до шкафа из любой точки в квартире, залезть в него и закрыться изнутри. Он делал это с помощью часов, которые ему подарили на бар мицву, и постоянно бегал к шкафу то из туалета, то из кухни, а один раз даже помчался туда, когда мы все сидели за столом и ели. Вскочил ни с того ни с сего и убежал, круша все на своем пути, а затем вернулся и сообщил, сколько времени у него это заняло. Он прекратил эти свои тренировки, только когда во время одного из его набегов у шкафа отвалилась ножка, но интереса к шкафу не потерял. Подложил вместо ножки камень и стал приставать к маме, чтобы она ее починила. Братья отца с мамой тогда еще не поссорились, и она обратилась за помощью к одному из них, дяде Аврааму. Тот пришел, положил шкаф на бок, прибил ножку гвоздями, и только тогда Коби успокоился. Его совершенно не волновало, что мы все в шкафу не поместимся (только когда из шкафа повыбрасывали всю старую одежду, включая мамины нарядные платья, в нем стало чуть больше свободного места). Однако никто из нас с ним заговорить об этом не решался. Мы смотрели, как он тренируется, и с грустью вспоминали то время, когда папа был еще жив и прятаться нам было никуда не нужно.
Я разулась, залезла в шкаф, села на пол, скрестила ноги и закрыла дверцы, оставив только маленькую щелку для света. В шкафу могли поместиться не больше двух взрослых или трех детей. Я подняла глаза кверху, чтобы посмотреть, какой он высоты, и увидела, что в потолке торчит гвоздь, на гвозде висят мужские трусы, в трусах – бутылка с маслом, а рядом на потолке какая-то надпись синими чернилами. Я привстала, чтобы ее прочесть, ударилась головой о бутылку и узнала аккуратный почерк Коби. Там было всего шесть слов. «Не забудьте вылить масло на пол». Я смотрела на надпись и бутылку и вдруг вспомнила одно давнее утро.
Это было в год смерти папы, на Хануку. В тот день мама пожарила нам пончики и ушла в ясли. Ошри и Хаим тогда еще не родились, и ложь в нашем доме еще не жила. Самой младшей в семье была папина смерть. Ей было всего полгодика. Она была младенцем, от которого пахло свежевырытой могилой, и никто еще не знал, каким этот младенец станет, когда вырастет. Между тем он рос очень быстро. В первый месяц он только неподвижно лежал на спине и плакал, но еще через месяц стал уже переворачиваться со спины на живот и обратно, ползать и сваливать вещи на своем пути. За ним нужно было все время следить, чтобы он не разрушил то, что существовало до его рождения, но он был очень проворным и гораздо быстрее нас находил вещи, которые папа берег и которые было очень легко свалить. Он все трогал, щупал, засовывал в рот, пробовал на язык, выбрасывал, ломал, уничтожал и рвал, и мы тогда еще не знали, как от него все это защитить. Нельзя было оставить его без присмотра не только на одну минуту, но даже на одну секунду.
Даже когда мы выходили из дома, мы брали его с собой. Когда мы собирались в школу, он забирался в бутерброды, которые мама давала нам с собой. По ночам он проникал в наши сны, будил нас, и мы просыпались в слезах. Когда мы по утрам открывали глаза, то видели, что он уже проснулся и стоит возле кровати, как будто хочет напомнить, что он все еще здесь, и как будто мы просто обязаны увидеть его до того, как увидим солнце. Он смотрел на нас своими невинными младенческими глазами и как будто говорил: «А что я такого сделал?»
После обеда Коби взял глубокую сковородку с маслом, в котором мама жарила пончики и которое к этому времени уже успело остыть, пошел в коридор, вылил масло на пол и стал кататься по нему так же, как мы катались по коридорам школы. Я стояла в дверях ванной и хохотала: полгода я так не смеялась; а Дуди и Ицик ждали, пока Коби даст покататься им тоже. И тут с работы вернулась мама.
Это случилось за неделю до рождения близнецов, и живот у мамы был уже огромный – самый большой из всех, которые я когда-либо в своей жизни видела. Увидев, что мы смеемся, а Коби растянулся на полу в луже масла, она вскрикнула «О Господи!», закрыла рот рукой и заплакала. Мы бросились к ней, сгрудились вокруг нее и по тому, как она на нас смотрела, поняли вдруг, чем мы, по ее мнению, тут занимались: разыгрывали представление о том, как умер наш папа.
Коби объяснил маме, что вылил масло на пол всего лишь для того, чтобы узнать, сколько его понадобится, когда к нам придут террористы, а потом велел нам вымыть пол и ушел переодеваться, однако ни тогда, ни потом отчистить пол от масла нам полностью так и не удалось. Не удалось и забыть, какими глазами на нас смотрела мама.
Я сидела в шкафу в восточной позе, и над головой у меня раскачивалась бутылка с маслом. Я открыла рюкзак и вынула целлофановый пакет с транзистором. Это был маленький папин транзистор, у которого давно отвалились все кнопки и который я нашла в мусорке позади фалафельной. Потом я достала носок, в котором храню батарейки, чтобы они не разрядились раньше времени, вынула их из носка, лизнула языком, какое-то время поколебалась, стоит ли мне их сейчас вставлять в транзистор, а затем все-таки вставила, включила его и зубами передвинула остатки ручки настройки до того места, где обычно говорит «радиоженщина».
Я назвала ее «радиоженщиной», когда услышала ее голос в первый раз, и только позднее узнала, что ее зовут Реума, то есть «смотрите, что…». Мне нравилось произносить это имя. «Реума, Реума, Реума», – все время повторяла я на разные лады и гадала, кто же мог придумать ей такое странное имя, и было ли оно дано ей с самого рождения, или ее назвали так позже, когда она впервые сказала что-нибудь вроде «смотрите, что он принес», или «смотрите, что там лежит».
Через месяц после того, как умер папа, нас повезли на ежегодную экскурсию в Иерусалим и на обратном пути наш экскурсовод, указав пальцем на две высоких антенны, показавшиеся мне огромными, как Эйфелева башня, сказал:
– Отсюда передают новости.
И хотя мы посетили много интересных мест, больше всего на свете мне захотелось побывать именно в этих башнях, и я страшно жалела, что нас туда не повели. С того дня каждый раз, как я прижимала к уху транзистор, я говорила себе, что радиоженщина будет терпеливо ждать, пока я закончу учиться, научусь говорить на иврите так же хорошо, как и она, и привыкну употреблять все эти ее красивые слова, которые звучали для меня так, словно они прибыли из заморских стран. Я повторяла их по нескольку раз кряду, пока не понимала, что они значат, а перед сном фантазировала, как пойду к Реуме. Представляла, как я поднимаюсь на башню – которая чем выше ты на нее влезаешь, тем становится все тоньше и тоньше, – добираюсь до маленькой комнатки под самым небом, где есть место только для одного стула, вижу Реуму, которая сидит и ждет моего прихода, и говорю:
– Ну вот и все, Реума, теперь ты можешь спускаться вниз. Я пришла тебя сменить.
Сначала я скажу ей несколько слов, в которых есть буква хет. Я тренировалась произносить эти слова каждый раз, как они встречались мне в текстах Библии, и, чтобы сказать хет правильно, вспоминала, как ела мороженое в лавке Шимона. Я представляла себе, как кладу ложку с мороженым в рот, как оно у меня во рту округляется и проскальзывает в горло. А потом я скажу ей букву аин, которая напоминает круглую монету, медленно выкатывающуюся из горла, и каждое слово, которое я произнесу, будет как блестящая спелая виноградина.
Я воображала, как Реума встанет со стула, усадит на него меня, покажет мне микрофон и другие приборы, а потом уйдет и оставит меня одну. И больше я никогда оттуда не уйду. Потом я впервые в жизни придвину к себе микрофон, зазвучит музыка, всегда предшествующая новостям, и мой голос скажет:
– Говорит радиостанция «Голос Эти с иерусалимских небес». Прослушайте заголовки старостей, потому что новости меня не интересуют. Меня интересуют только старости, о которых никто никогда не рассказывает, а если о них все-таки и рассказывают, то всё врут.
Когда новости по радио кончились, я вылезла из шкафа и отправилась спать. Утром я пошла в школу, но в половине девятого объявили боеготовность и нас распустили по домам. Мама тоже пришла из яслей, и вместе с соседями мы спустились в бомбоубежище, но, поскольку ничего страшного не произошло, мы вернулись к себе домой и после обеда я вместе с Хаимом и Ошри легла спать. Когда я проснулась, в доме никого, кроме нас троих, не было. Даже мама куда-то исчезла, хотя я и не помню, чтобы она говорила, что куда-то собирается. И тогда я решила, что сейчас самое время рассказать близнецам про папу, только никак не могла придумать, с чего начать. Ладно, подумала я в конце концов, начну-ка я со сказки, которую они уже знают.
Мы сели на мою кровать, я сняла с подушки наволочку, засунула в нее руку, покопалась там немножко и – р-р-аз – вытащила из нее сказку. Я всегда так делаю, когда рассказываю им сказки; они это любят.
7
Я вытащила руку из наволочки, немножко разжала кулак и заглянула в него. Близнецы сразу придвинулась поближе, чтобы увидеть, что в нем есть, но я быстро его сжала, чтобы они не подглядывали, и сказала:
– Вы не представляете, что я там нашла. Сказку про женщину, которая превратилась в осьминога!
Они подпрыгнули на кровати так, что заскрипели пружины, и шлепнулись вниз, как два лопнувших шарика.
– Только пообещай, что будет хороший конец, – сказал Ошри.
– Да, – поддержал его Хаим, – поклянись! А то я не буду слушать.
После чего заткнул уши и заорал:
– Не буду, не буду, не буду, не буду!
– Я тоже не буду! – завопил Хаим. – Я буду кричать и не буду тебя слушать! А-а-а-а-а-а-а!
Он кричал «а-а-а-а-а-а», пока у него не кончился воздух, а затем его сменил Хаим, и они замолчали только после того, как я пригрозила, что, если они будут так вопить, я не буду ничего рассказывать.
– Сегодня, – сказала я, – я сделаю конец у сказки длиннее, чем обычно, и буду продолжать рассказывать до тех пор, пока он не станет хорошим. А сейчас положите ручки на колени и приготовьтесь внимательно слушать.
Они послушно сделали то, что я им велела, и, глядя на их полные ожидания лица, я вдруг пожалела о своем поспешном обещании сделать конец хорошим. Я посмотрела в окно у них за спиной; через него в комнату проникал мягкий послеполуденный свет.
– В общем так, – объявила я. – Сказка называется «Женщина, которая превратилась в осьминога».
Близнецы сразу расслабились, руки у них сползли с колен, и я начала рассказывать.
– Много лет тому назад жила-была одна женщина. Она была совершенно обыкновенная. Как все. У нее было две руки, две ноги, живот, спина, лицо, два глаза, один нос и два уха. Короче говоря, все у нее было точно таким же, как и у всех остальных женщин в мире.
– Ты забыла про волосы! Ты все время забываешь сказать про ее волосы.
– И про одежду ты тоже ничего не сказала. Расскажи нам про ее одежду.
– Точно! – сказала я. – Хорошо, что вы мне напомнили.
Они притихли и приготовились слушать дальше.
– У женщины были прекрасные каштановые гладкие-прегладкие длинные волосы, и каждому, кто ее видел, хотелось протянуть руку и погладить их. И у нее было много разноцветной одежды, буквально всех цветов радуги. Какой бы цвет вы ни назвали, можете не сомневаться, что платье такого цвета у нее было. И красное, и синее…
– И желтое!
– И зеленое!
– Да. И голубое, и розовое, и фиолетовое. И кроме того, на платьях у нее были всякие разные узоры. И цветы были, и сердечки, и кружочки, и треугольнички…
– И звезды! Ты забыла сказать «звезды».
– Да-да, и звезды тоже. Короче говоря, у этой женщины было все. И еще у нее были дети и муж. Но однажды случилось несчастье: к ней пришла колдунья. Во рту у нее был только один зуб; он был кривой, длинный и шатался; а на носу у нее росла противная бородавка. Колдунья летала по небу, а затем спустилась и стала заглядывать в окна, и когда дошла до окна женщины, то увидела, сколько у нее всего есть, и страшно разозлилась. «Почему, – подумала она, – эта женщина такая веселая, а мне совсем не весело? Почему у нее такая красивая одежда, а у меня такая противная и дырявая? Почему у нее такие прекрасные длинные гладкие волосы, а у меня такие противные и зеленые? И почему у нее есть муж и симпатичные дети, а у меня нет?»
– А пусть она тоже выйдет замуж.
– Ведь у всех женщин, которые выходят замуж, есть дети, правда?
– Ну, сама-то она как раз очень этого хотела. Да только никто не хотел на ней жениться.
– Потому что она была противная!
– И злая!
– Правильно. Потому что она была злая и противная. И вот она решила заколдовать мужа этой женщины, чтобы он умер. Чтобы вот так вот просто взял да и умер ни с того ни с сего.
На лестничной площадке послышались тяжелые шаги. «Наверное, бабушка Даганов пришла навестить своих внуков», – подумала я. Ошри встал на кровати и сказал:
– И тогда он упал и умер. Смотри, Эти, я покажу тебе, как он умер. – Он отошел к краю кровати и упал на нее ничком. – Он ведь так упал, да?
– Ты мне ногу отдавил, – сказал Хаим. – Так не умирают. Правда же, Эти, так не умирают? Я тебе покажу, как умирают. Когда ты умираешь, ты не прыгаешь. У тебя нету сил, чтобы прыгать, когда ты мертвый. Ты просто валяешься на полу. – Он слез с кровати, пробежал несколько шагов и упал на спину. – Видел, как моя голова шмякнулась? Вот как надо умирать. А еще изо рта вываливается язык. – Он высунул язык и стал смешно коверкать слова. – Правда же, Эти, он вываливается?
– Хватит, – сказала я. – Если не будете сидеть на кровати с руками на коленях, я больше рассказывать не буду.
Они снова уселись на кровать, обняли колени и приготовились слушать.
– Никто не видел, как умер этот человек, – сказала я, надеясь, что голос у меня не дрожит, – потому что в этот момент он был совершенно один. Только одна колдунья видела, как он умирал, и злобно смеялась. Так смеялась, что чуть не умерла со смеху. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, хо-хо-хо, ху-ху-ху…
Как всегда в этом месте, они плотно прижались друг к другу и заткнули уши.
– Все, – объявила я. – Колдунья кончила смеяться. Больше уже затыкать уши не надо.
Они недоверчиво вынули пальцы из ушей, но опустили руки только после того, как убедились, что колдунья действительно больше не смеется.
– И вот колдунья села на свою метлу и полетела обратно в небо. Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
– Ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж, – подхватили близнецы, – ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж-ж…
– Когда муж женщины умер, она выбросила всю свою красивую разноцветную одежду и стала носить только черное и синее. Так делают всегда, когда кто-то умирает: перестают носить другие цвета. Но колдунья открыла крышку мусорки, засунула туда руку…
– Фу, какая гадость!
– Фу, как там воняет!
– …и вытащила оттуда всю красивую одежду женщины: и ее платья, и ее кофточки, и ее юбки… Но они ей не подошли. Они сидели на ней очень плохо.
– Потому что она была горбатая.
– Потому что у нее были кривые ноги.
– Верно. И вообще, это был не ее фасон. А у женщины было очень много работы. С раннего утра и до позднего вечера она должна была готовить, убирать, стирать – причем делала все это в одиночку. И кроме того, ей надо было ходить на работу. Но ей все равно хотелось, чтобы в доме оставалось все как раньше, когда еще был жив ее муж. В пятницу она готовила рыбу, делала восемь сортов салата, большую кастрюлю субботней схины и пекла в печке домашний хлеб. «Мои дети ни в чем нуждаться не будут! – часто повторяла она. – Я испеку им самое вкусное печенье». Но ей было очень тяжело, потому что она делала все это в одиночку.








