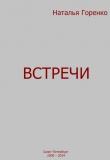Текст книги "Изломанный аршин"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
Заметив это, он останавливался, произносил волшебное:
– Паки на первое возвратимся, —
и бесстрашно прыгал обратно. Спиной вперед.
Текст при этом никуда не возвращался, а только взлетал ещё выше, как воздушный змей.
Пушкин тоже знал секрет этой техники. А, скажем, Майн-Рид – не знал; и навязывал читателю алгоритм: шаг вперед – два шага назад, совершенно мучительный. («Морской волчонок» – исключение и поэтому лучшая вещь.) Такие просчёты резко сокращают период посмертной славы (текст сохраняет признаки жизни только пока он быстр), – что ж, обойдусь. Поскольку должен исправить непреднамеренную ошибку – зашить оставленный в предыдущем параграфе хроно– и чисто логический разрыв.
Так вот: идиота ничуть не покоробило, что гений назвал его гением. Творческие натуры вообще ни на кого не обижаются за это слово. (См. хотя бы «Моцарт и Сальери».) Уваров же, по определению, был особенно доверчивое существо. В 31 году он Пушкина любил – и, естественно, рассчитывал на взаимность. Своё чувство впервые изъяснил он в конце июля – способом игривым, топорно-причудливым: через конфидента. Поручив эту роль директору Департамента духовных дел иностранных вероисповеданий, д. с. с. Вигелю.
Как будто, знаете, вернулись старые добрые времена, и не имеет ни малейшего значения, кто из нас тайный, кто действительный статский, кто коллежский секретарь: все мы по-прежнему – просто наши превосходительства гении Арзамаса, – и вот Старушка при посредстве Ивикова Журавля предлагает Сверчку, так сказать, руку и сердце.
Тщательно, даже с каким-то язвительным нажимом (поэзию Пушкина он обожал, а Уварова презирал, несмотря на некоторую общность взглядов: «Но, Вигель, пощади мой зад!» – помните такие стихи? – так что, возможно, примешалась и ревность) копируя тональность исходного сообщения, Ивиков Журавль Вигель писал Пушкину:
«С того момента, как он уверился в ваших благих намерениях, он готов преклоняться перед вашим талантом, которым он до сих пор только восхищался. Ему не терпится увидеть вас почётным членом своей Академии наук; первое свободное академическое кресло у Шишкова должно быть предназначено вам, оставлено за вами; вы – поэт, и не обязаны служить, но почему бы вам не быть при дворе?.. Словом, одно только счастье и слава ждёт того, кто не довольствуется тем, чтобы быть украшением своего отечества, но и хочет послужить ему своим пером...»
Был такой оборот, вышел из употребления: дать знать стороной. Или – под рукой. Настал момент – смотрите не упустите! – переменить куратора – злого на доброго, – рады? тогда смелей ко мне! ко мне!
Если припомнить, кто был за Пушкиным закреплён как злой, – отвага идиота беззаветна. Своевольная, с бухты-барахты, перевербовка – корпоративной этикой такие фокусы не приветствуются. Только с санкции руководства: если, предположим, принято решение задействовать объект в какой-то новой игре. А похоже, что Уваров комбинировал на свой страх и риск, – потому похоже, что не совсем на свой:
«Он очень хочет, чтобы вы пришли к нему, но желал бы, для большей верности, чтобы вы написали ему и попросили принять вас и назначить час и день, вы получите быстрый и удовлетворительный ответ...»
Но если так – если без санкции – то и с точки зрения объекта это была наглость, не объяснимая иначе как зарница вступающего в острую фазу психического расстройства. Так обращаются с нижестоящими (зачисляя, например, в штат), а для независимых людей существуют правила хорошего тона. Сено к лошади не ходит; ты дворянин, и я дворянин; и если тебе западло сделать визит, то и я не девочка по вызову.
Тем более – знакомы. Раз-другой вместе обедывали – не у Олениных ли? («Арзамас» вообще ни при чём, не смешите: Пушкин участвовал в одном-единственном заседании, четырнадцать лет назад; вы бы ещё вспомнили масонскую ложу – а что, ровно так же уместно: кто из нас не был до 22 года масон? – или Лицей: идиот, кажется, присутствовал на всех экзаменах.) Ты литератор, и я литератор, и даже не важно, кто – настоящий, а кто – дилетант прежней волны, из свиты Батюшкова.
Ах да: вы сенатор, тайный советник – очень приятно; номенклатурный вес – полусредний: таких вельмож – от Царского Села до Павловска домиком не переставить. (Кстати, жаль: это зрелище развлекало бы юного Гоголя по дороге оттуда или туда.) Новопреставленный Юсупов, царство небесное, – в тяжёлом весе чемпион, хотя и экс-, – не позволял себе таких вещей: передайте Пушкину – мне охота с ним пообщаться, пусть запишется на приём.
Вообще неадекватен. Раздает кресла обеих академий – ну да, мы в курсе: и в АН король, и в Российской – ферзь. Ну а к императорскому-то двору приглашает – как кто? Гарантировать от имени отечества славу и счастье – уполномочен кем? Торжественно возвещать через доверенное лицо: вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, Мойдодыру угодил, – опомнитесь, господин Старушка! разве Мойдодыр у нас – вы?
Тем более что, да будет вам известно, все перетёрто, и недоразумениям конец. С неделю назад в шестом часу вечера, как обычно, вышли с Natalié в парк – вдруг в аллее навстречу императорская чета; остановились, разговорились. Про жару, про карантин. К счастью, эпидемия заметно слабей, чем в прошлом году. Слава Богу.
Государыня, с обычной своей любезностью, кстати упомянула о стихотворении «Герой»: как она была им тронута. Сказала комплимент Madame Puchkine, похвалила платье и шаль. (Шаль алая, свернутая в плоский жгут, складками по плечам, пышным и свободным узлом над грудью.) Вам следовало бы почаще украшать собой наше общество, дорогая Madame. На здешнем театрике затевается спектакль; вам пришлют приглашение. Мы, бедные ссыльнопоселенцы, не должны позволять скуке нас – как это на кораблях говорят? – укачать.
И царь был в духе. Как известно, Madame Puchkine особенно к лицу une tunique antique. Это ведь была сестра Дидоны, не правда ли, в той живой картине, на балу у московского Голицына? Отличное было шоу, жаль, что ты, Пушкин, его пропустил; сорвался в Москву, когда мы оттуда уже возвратились. Кстати: ты и теперь всё ещё free lance? отчего?
Отвечая, приходилось выворачивать голову и артикулировать твердыми губами (разница в росте – десять вершков, точней – 45 см); это портит улыбку. Не имею никаких способностей, ваше величество, кроме литературных. Вы слышали, Mesdames? Хотите, я сию же минуту поймаю господина поэта на слове? В моём государстве найдется ответственная, высокооплачиваемая работа для человека со стилем. Ты ведь любишь историю? Пиши мне историю Петра Великого, Пушкин. Источники налицо, архивы к твоим услугам, возможна доставка документов на дом. Спешки нет. Замучаешься пыль глотать – бессрочный творческий отпуск. Для вдохновения, говорят, необходимо сердечное спокойствие. Помешают ли сердечному спокойствию тысяч пять серебром в год? Карамзин, между прочим, получал две. Итак, решено. Обратись к Бенкендорфу, пускай оформит: допуск в спецхран, заодно и чин. Приравняет, так сказать, твоё перо к палашу и сабле.
На следующий день (уф! одна хронодырка заделана) Пушкин и подал то самое заявление о приеме на работу: «Если Государю Императору угодно будет употребить перо моё, то буду стараться с точностию и усердием» и проч. Вероятно, он воображал, что эта формула ни к чему конкретно не обязывает – нечто вроде ответной любезности на данную ему carte blanche: твори, выдумывай, пробуй; историю так историю, журнал так журнал. (Отчасти так и было: в дальнейшем царь исполнял все его пожелания, разве что никуда не отпускал с семьёй.)
– Царь взял меня в службу – но не в канцелярскую, или придворную, или военную – нет, он дал мне жалованье, открыл мне архивы, с тем, чтобы я рылся там и ничего не делал! Это очень мило с Его стороны, не правда ли? Он сказал: Puisqu’il est marié et qu’il n’est pas riche, il faut faire aller sa marmite. Ей-богу, он очень со мною мил...
Поняли? Шутка такая. Раз он женат, не будучи богат, надо обеспечить его горячим питанием. Тут идиома, а если буквально – приглядывать за его чугуном.
А вы, значит, вздумали покровительствовать человеку, с которым царь – повторяю по буквам: цы, аз, рцы, ерь – на дружеской ноге? Не много ли на себя берёте, Старушка? Так и грыжу нажить недолго, не говоря – радикулит. Что такое вам примерещилось? По вашему рескрипту судя – ни более ни менее как дворцовый переворот, и Вигель при вас Бенкендорфом, а вы, стало быть, – – —? Господи помилуй. Это всё от жары. Расстегните ему золочёный воротник, развяжите шёлковые банты на икрах. Пиявок! пиявок!
Жара, действительно, стояла небывалая. Пушкин «Сказку о Балде», например, сочинял нагишом. И вполне вероятно, что в головном мозгу Уварова кондрашка уже отыскал слабую точку и колебался: давануть сейчас или дать ещё побухтеть?
Идиот же чувствовал себя на седьмом небе, причём – звездой, причем – сверхновой. Или такое небесное тело называется пульсар? В общем, это когда испускаешь, испускаешь лучи в видимом спектре, потом перестаёшь светиться, а лет через миллион вдруг – раз! – и опять воссиял, ещё и ярче12.
В точно рассчитанный, в наиболее удобный – потому что критический – момент: неделю назад. Как только пришло из Витебска известие, что его высочество великий князь цесаревич волею божией – того. Если уж теперь не воссиять – когда отечество опять в опасности, – то и никогда.
Все – то есть все аккредитованные иностранцы и двор – знали, что Николай Павлович – непримиримый противник крепостничества, и только авторитет старшего брата не давал ему претворить свою вольнолюбивую мечту в жизнь.
Младший брат не в счёт. Михаил Павлович способен только на контр-аргументы тривиальные: время тревожное, нельзя раскачивать лодку, главное – стабильность; и куда девать помещиков: какую компенсацию ни выдай – всёпромотают и в литераторы пойдут, – других невоенных профессий для дворян у нас нет, да и не умеют они ни черта; кроме шуток – если хотя бы каждый десятый займётся литературой, это уже двадцать пять тысяч перьев, полноценный союз писателей, – значит, и литфонд с домами творчества, – а в Третьем отделении, смешно произнести, всего тридцать восемь штатных сотрудников, Максим Яковлевич и так переутомлён до предела, и т. д., и т. п.
Решив: пора! – Уваров устроил так, что однажды утром государь нашел на своем рабочем столе документ, озаглавленный: «De la servitude personelle en Russie» – «О личном рабстве в России».
Само заглавие означало идейный прорыв. Рабство считалось термином из обихода диссидентов. Взвешенные мыслители говорили (не на публике и не в печати, понятно, а в своём кругу): крепостное право. Родимые пятна которого, – прибавляли взвешенные, – сама Европа-то у себя окончательно ещё не свела – а уже заметно подурнела; день ото дня дряхлеет, только что песок не сыплется, – вот что значит довериться неквалифицированным операторам. Тогда как Россия – вы же не станете этого отрицать, – свежа, как поцелуй ребенка. В нашей системе много хорошего. Она только что продемонстрировала всему миру свои преимущества (да что там! превосходство), наголову разгромив корсиканское чудовище с его двунадесятью языками. Демонтаж её чреват крупнейшей геополитической катастрофой XIX века – развалом РИ. Будем наконец историческими материалистами: наши производственные отношения просто удивительно как соответствуют нашим производительным силам.
Взвешенные не понимали (не желали понимать – или делали вид), что правительство не только не покушается на основы существующего строя, а, наоборот, стремится его укрепить: осушив базис и проветрив надстройку.
Крепостной строй в чистом виде (например, в хозяйствах министерства уделов) был обыкновенный колхозный, по некоторым параметрам (размер приусадебного участка, поголовье личного скота) даже предпочтительней. Правда, в чём-то и тяжелей: два, кое-где и три дня в неделю крестьянин работал на собственной запашке, то есть абсолютно не жалея себя. А в остальном – колхоз как колхоз: где родился, там и пригодился; за пределы района – не вздумай; впрочем, для особо пассионарных – два аварийных люка: казарма и тюрьма.
Но, извините, крепостное право как таковое не предполагает ни торговли людьми, ни сексуальной эксплуатации, ни даже телесных наказаний.
Сугубо между нами: в России крепостное право вообще ничего не предполагает, поскольку фактически не имеет законодательной базы. Пресловутый указ (якобы – Фёдора Иоанновича; якобы – от 1592 года) об упразднении Юрьева дня – до сих пор не отыскан. Да и найдись он – судя по всему, он отменял свободу передвижения наёмной рабочей силы, – и только. А когда и каким образом, на основании чьих и каких законных постановлений русский крестьянин получил юридический статус домашнего животного – неразгаданная гостайна.
То ли предки нынешних крепостных сами себя, с жёнами и детьми, заложили тогдашним землевладельцам, а возвратить кредит помешал неурожай. То ли коррумпированные дьяки, составляя списки избирателей, за взятки от землевладельцев писали всех подряд крестьян, сидевших на чужой земле, крепкими ей; а что ты и при этом всё равно не холоп, а вольный – иди доказывай через шемякин суд.
Тем печальней, что в здоровом теле здешнего суверенного феодализма, как огромный солитёр или канцер, обитает, наливаясь грязной кровью, самое настоящее, как в Древнем Риме, – рабовладение. (В дальнейшем взвешенные зашифруют его эвфемизмом – это зло, а наука «История СССР» – марксизоидой крепостничество.)
Ни по какому не по закону, а как национальная особенность. Или обычай. Скажем – уклад. Причем образовавшийся совсем недавно. В основном – за последние лет двести с небольшим. Расцвеченный, следовало бы добавить, коллективной фантазией паразитического класса: всех этих деревенских Калигул, де Садов, Мессалин, Салтычих.
Тезис идиота пылал, как факел в ночи:
«Нужно сказать откровенно: личное рабство не может быть, в принципе, оправдано никаким точным и разумным аргументом. Излишне выдвигать против него обвинения, которые никто не станет оспаривать, или высказывать набившие оскомину язвительные насмешки. Из этой очевидной истины вытекает принцип не менее определённый: личное рабство может и должно быть уничтожено».
Исключительно тонкий ход; но где тонко, там и рвётся; Николай Павлович вполне мог, прочитав этот абзац, отодвинуть рукопись в сторону или даже уронить на ковёр – и тем же утром сказать Бенкендорфу, угрюмо подделывая восточный акцент:
– Если мне не изменяет память, товарищ Уваров занят у нас по линии Наркомпроса. Было бы очень, очень хорошо, если бы он сосредоточился на выполнении своих непосредственных обязанностей, а решения ЦК о политике партии в деревне изучал по вечерам, в кружке политграмоты для спецов.
Не взял бы милого Фифи на роль в истории.
Риск был – но была и обоснованная надежда, что государь вовремя вспомнит: Уваров – человек не чужой, не хрен с бугра, а старый, верный, можно так выразиться – интимный – друг царствующего дома; покойная матушка его ценила, порфироносная вдова, и он ей посвятил чудный некролог; и Марии Павловне; и Елизавете Алексеевне; шедевры французской лирической прозы, каждый – отдельным изящным изданием, тиражом мизерным, для самых близких. Умел выразить соболезнование так задушевно и с такой самостоятельностью чувств, – что́ твой Пастернак или даже твой Михалков. Если подумать, Уваров и либералом-то был – когда был – из личной преданности непостижимому Благословенному. Поддался обаянию новой риторики – а кто мог устоять? Разве можно забыть, как великий брат в 14 году в салоне г-жи де Сталь при всех пообещал ей: на Парижском конгрессе он потребует, чтобы все цивилизованные государства запретили невольничество раз и навсегда!
– За главою страны, в которой существует крепостничество13, – сказал тогда император, – не признают права явиться посредником в деле освобождения невольников; но каждый день я получаю хорошие вести о внутреннем состоянии моей империи, и, с Божьей помощью, крепостное право будет уничтожено ещё в моё царствование.
У этой де Сталь, если верить слухам, Уваров на туманной заре своей юности отбил любовника, какого-то ирландского, что ли, капитана... Замнём. Стал взвешенный. Взял за женой мало не двенадцать тысяч душ; самозабвенно экспериментирует с крупным рогатым скотом, улучшая породу; печатает брошюры о тайнах животноводства, – невозможно, чтобы он подал на самый верх записку без конструктива.
На эту-то презумпцию и ставил Уваров – и выиграл. Император стал читать дальше – а дальше, в затылок тезису, шёл, как и требует диалектика, антитезис: ...может и должно быть уничтожено – но ни в коем случае не сразу, и уж подавно не теперь! Через два поколения, лучше – через три.
«К такому многосложному вопросу должно приступать с величайшей осторожностию. Это дерево далеко пустило корень: оно осеняет и церковь и престол. Вырвать его с корнем невозможно».
Экономику оставим экономам; впрочем, очевидно, что и тут всё не дважды два. Ещё Екатерина Великая задала (1 ноября 1766 года) петербургскому Вольному экономическому обществу задачу: «Что полезнее для общества, – чтобы крестьянин имел в собственности землю или токмо движимое имение, и сколь далеко его права на то или другое имение простираться должны», – и что же? сто шестьдесят четыре специалиста корпели два года: лучших ответов – пятнадцать, и все разные; однозначное решение найдут только Троцкий и Сталин.
Политику оставим полиции; нет сомнения, что все трудности и опасности приняты в расчёт и средства для их преодоления предусмотрены, – и можно лишь благоговейно восхищаться непреклонностью державной воли, положившей, невзирая ни на что, даровать миллионам верноподданных общечеловеческую ценность – свободу.
Но. То есть не то чтобы но (это было бы бестактно), а – тем не менее – в то же время – при всем при том. Одним словом – toutefois.
Toutefois почтительно дерзаю активировать стратегический Неразменный Запас пошлостей, созданных взвешенной мыслью. (Как известно, выкладывать их полагается таким тоном, словно сам выстрадал; или как будто горький опыт подсказывает, парадоксов друг.) Наши люди к свободе не готовы. Понятия не имеют, с чем её едят. Им, нашим людям, не известно, что т. н. политическую, т. е. внешнюю, свободу едят не иначе как отварив её в меду свободы внутренней, духовной. Пока не покроется ответственностью. Сырая же – нестерпимо горчит и неминуемо вызывает несварение ума. Эти десять миллионов помещичьих крестьян (считая без семей, только д. м. п.), которым правительство собирается дать какие-то права, – темны, как валенки. Если в настоящее время иные из них, предположим, и страдают (кое-где; порой; от произвола отдельных аморальных личностей; зато лучше судьбы́ наших крестьян у хорошего помещика, – заметила та же Великая Екатерина, – нет во всей вселенной), – свобода сделает их несчастными поголовно, спровоцировав сильнейший стресс.
Вот и пригодилась последняя новинка самиздата: записки княгини Дашковой. Там покойница повествует, среди прочего вздора, о том, как дискутировала на интересующую нас тему с небезызвестным правозащитником Дени Дидро – и вынудила его заткнуться. Для чего, не жалея самой сочной гуаши, набросала аллегорическую картину (первый опыт отечественной антиутопии): подвергнутый освобождению русский крепостной погибает от когнитивного диссонанса (а стокгольмский синдром? но старуху уже несло):
– Мне представляется слепорождённый, которого поместили на вершину крутой скалы, окружённой со всех сторон пропастью; лишённый зрения, он не знал опасностей своего положения и беспечно ел, спал спокойно, слушал пение птиц и иногда сам пел вместе с ними. Приходит незадачливый глазной врач и возвращает ему зрение, не имея, однако, возможности вывести его из его ужасного положения. И вот – наш бедняк прозрел, но он страшно несчастен; не спит, не ест и не поёт больше; его пугают окружающая его пропасть и доселе неведомые ему волны; в конце концов он умирает во цвете лет от страха и отчаяния.
Дидро был настолько потрясён, – продолжает княгиня, – что вскочил со стула, будто подброшенный невидимой пружиной. Он заходил по комнате большими шагами. Сердито плюнув на пол, воскликнул:
– Какая вы удивительная женщина! Вы переворачиваете вверх дном идеи, которые я питал и которыми дорожил целых двадцать лет!
Возможно, он этого не восклицал. (Говорят, он даже не был правозащитник.) Дело вообще не в нём. А в том, что старухина аллегория иллюстрировала её же тезис – из которого уваровский анти– получался как бы сам собой, легким ударом пальца по клавише:
– Просвещение ведёт к свободе; свобода же без просвещения породила бы только анархию и беспорядок. Когда низшие классы моих соотечественников будут просвещены, тогда они будут достойны свободы, так как они только тогда сумеют воспользоваться ею без ущерба для своих сограждан и не разрушая порядка и отношений, неизбежных при всяком образе правления.
(– Вы отлично доказываете, дорогая княгиня, но вы меня ещё не убедили, – вякнул было Дидро, однако вскоре, как мы видели, все-таки плюнул на пол.)
Отсюдова напрашивается и синтез: учить, учить и ещё раз учить! Выдавливать раба из раба ежедневно по капле. Покрыть страну системой наробраза – и вдалбливать, вдалбливать в приходских школах и уездных училищах детям крепостных: лишь тот достоин свободы (а если разобраться – то и жизни), кому она, собственно, не больно-то и нужна.
А детям помещиков, наоборот, рассказывать в гимназиях и университетах, что крестьянин в принципе тоже человек и рано или поздно может быть по манию царя переведён на беспривязное содержание.
«Довольно теперь пустить мысль эту в оборот, чтоб поколения приготовились постепенно к её восприятию. Одно образование, просвещение может приготовить её исполнение наилучшим образом».
И тогда в один прекрасный день дети этих детей спустятся с господского крыльца к детям тех детей – и обнимутся с ними, как верные друзья.
Только не спешить. Отладить работу учебных заведений – и ждать. Взять под контроль СМИ (журналы в первую голову!) – и ждать. Да, морально это тяжело: распоряжаться людьми, как движимым имуществом, и в расчётах использовать как у. е. (официальный средневзвешенный курс – 200 р.) – д. м. п.: душу мужеского пола, – но кому же в наше время легко?
Меня уже немного тошнит, – а вас? Исходный текст14 ещё скучней, но императору понравился. Не как проект реформы (по такому проекту не обустроить и курятник), а как заявка на концепцию. Николай царствовал без концепции уже шестой год.
Что же до русских крепостных, то они, как известно, пошли другим путём. Взяли дело освобождения в собственные руки. Развернув подпольное производство контрафактных презервативов и широчайшую сеть распространения – офени, коробейники, пожалей, душа-зазнобушка, молодецкого плеча.
Положим, насчёт контрафакта – это всего лишь академическая гипотеза. Якобы дворовые подсмотрели у бар и разболтали односельчанам. (Где-то я читал, что Дантес и его приятели швырнули такую вещицу – парижскую, конечно, – на сцену Александринки, к ногам одной несговорчивой актрисы; та, не будь дура, притворилась, что приняла за дохлую мышь, и – в обморок.) Нельзя недооценивать смекалку народных умельцев, типа Левши Косого. Тем более технология-то – не нано-. Отрезок промытой и высушенной овечьей кишки перевязать суровой нитью – изделие № 2 готово (№ 1, согласно ГОСТу, утверждённому т. Берия, – противогаз). Для щёголей – чехлы из тончайшего льна, пропитанного настоем заповедных трав, – как бы кисеты, с фольклорным орнаментом (ярославское мастерство): красиво, но без гарантии. На северо-востоке, в Приуралье, налегали на женскую контрацепцию, применяя дорогой, но зато многоразовый мочевой пузырь козы (ср. крылат. выраж. «заделать К.», – а впрочем, сомн.).
Идея овладела массами.
До 1811 года (6-я ревизия) – крепостное население России прирастало ежегодно на 70 000 д. м. п. в год. А если считать реально, по головам, то есть приплюсовать прекрасную половину, – как минимум, тысяч на полтораста. Правда, не весь прирост был естественный: Екатерина раздаривала своим орлам (переводила из госсобственности) до 12 тысяч душ в год. Павел, правда недолго, – пока не получил табакеркой в висок, – аж до 60 тысяч.
7-я ревизия (1815 год): прирост – 0. Военные потери, то да сё. К тому же Александр прекратил раздачу премиальных.
8-я (1837): прирост – 0.
Прописью: ноль целых, хрен десятых.
«С тех пор до самой 10-й ревизии (1857), – сообщают Брокгауз и Ефрон, – число крепостных или стояло на той же цифре, или даже несколько падало».
Как было в 1811-м 10,5 млн крепостных д. м. п. – так и осталось до самого конца крепостного права.
По понятным причинам этот освободительный подвиг народа никем не воспет. При т. н. советской власти – ни единой скульптуры (типа: народный мститель берётся за суровую нить). Царская же, уваровская цензура по невинности одно отражение допустила – и какое!
«“...Скрягу Плюшкина не знаешь – того, что плохо кормит людей?” – “А! заплатанной, заплатанной!” – вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову заплатанной, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно пропал из виду и много уехали вперед, всё ещё усмехался, сидя в бричке. Выражается сильно российский народ!..»
Ну-ка, дети, назовите это существительное – которое, будучи обтянуто эпитетом «заплатанный», превращается в образец народного искусства. Не вижу поднятых рук. Давайте подойдём с другой стороны: Н. В. Гоголь творил в условиях цензурного гнёта; что, если он ради конспирации подменил прилагательное? каким-нибудь, знаете, синонимом – близким-преблизким... Совершенно верно: подставив на место заплатанного – штопаный, мы действительно получаем идиому, дожившую в языке до наших дней, – она обозначает крайнюю степень общественной бесполезности человека.
Следовательно, искомое существительное – вдохновившее классика на незабываемый гимн в честь русского языка, – прочитаем-ка его ещё раз все вместе, хором:
– ...Нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово...
Оно, значит, образовано от имени одного английского придворного доктора и является названием изобретённого им (для короля Карла II, 1630–1685) специального колпачка15.
Так русский крестьянин, дети, увековечил своего заступника.
Образованный же класс, подстрекаемый любовной лирикой и вообще литературой, продолжал размножаться как ни в чём не бывало. (См. медкарты выдающихся жён самых передовых представителей – Герцена, Тютчева, Пушкина, того же Николая Полевого, Толстого Льва, – что же говорить об остальных. Толстой-то впоследствии опомнился: перешёл на позиции патриархального крестьянства, написал «Крейцерову сонату», – но уже было поздно.) За время Николая численность дворян удвоилась. У большинства из них (у 60 %) и в начале-то царствования имелось в наличии по 20 д. м. п., не более того. Еще у 24 % – самое большее по 100 д. м. п. на брата. Крестьянский демографический бунт резко накренил соотношение рук и ртов, – и капитализм дворяне встретили по уши в долгах.
Вот что значит неправильная концепция.
Но летом 31 года она казалась вполне жизне– и конкурентноспособной. Если довести до ума: добавить философской глубины, а главное – придать наступательный характер. Согласитесь: не может же концепция царствования сводиться к ожиданию следующего. Николай Павлович и Сергий Семёнович долго разговаривали про это, гуляя по парку (во дворце было душно невыносимо). Уваров углублялся в частности: подтянуть Московский университет, заглушить «Московский телеграф» – ликвидировать его и заменить умным, сильным, искренним официозом.
Государь слушал внимательно – и думал: вакансия идеолога пустует. Этот рвётся и вроде бы годится. Перебросить, что ли, Блудова на укрепление МВД? а этот пусть реорганизует нам Минпрос. Николай Просветитель – не так уж плохо. Только доработать концепцию. И лозунг. Непременно должен быть лозунг. Или девиз. Насчёт официозного журнала заметил вслух: возможно, необходимость назрела; вот и Пушкин на днях выступил с аналогичной инициативой, но Александр Христофорович что-то сомневается, говорит: давайте сперва посмотрим, как пойдёт у него история Петра.
Тут Уваров и сделал на коре мозга пометку: поручить Вигелю безотлагательно навести, так сказать, мост. Вигель – так сказать, навёл.
Пушкин словно упустил из виду, что он уже несколько дней как не free lance. Уваров – почерком Вигеля – доброжелательно напомнил, в сущности – поздравил: полезное дело задумали – политический журнал; я, со своей стороны, – всецело за.
«Он с жаром, я сказал бы даже – с детской непосредственностью ухватился за идею вашего проекта. Он обещает, клянётся помочь его осуществлению...»
И далее – по тексту, см. выше.
Нет, положительно пора мне зачехлить клавиатуру! (Опять, откуда ни возьмись, – проклятый ямб! и опять!) Тридцать тысяч букв – только для того, чтобы восстановить последовательность ходов! Собирался в двух словах растолковать самому себе про Уварова: как эта кубическая медуза набралась такой злобы и такой мощи, что обездвижила беднягу Н. А. П. одним укусом, а вторым – лишила дыхания.
И всё ещё не растолковал.
Тридцать тысяч букв – а сюжет всё там же. Лето 1831 года. (16 августа, собственно говоря.) Царское Село, домик камер-фурьера Китаева, нижний этаж. Жара. Духота. На липких лентах, разложенных по подоконникам, muscae domesticae, как русские литераторы, из последних сил напрягают колбовидные придатки 3-го грудного кольца (в сущности – недоразвитые задние крылья). Одна почему-то особенно явственно: но скажи мне – пауза – на смертную муку – понижение, пауза – ты другую – повышение, звук делается неразборчивым и уходит по дуге к потолку.
У Пушкиных – фрейлина Россет. Забежала на минутку. За стихотворением «Клеветникам России»: государь ждёт. Фельдмаршалу Паскевичу поставлена задача – овладеть Варшавой к 26-му, к Бородинской годовщине, Жуковскому и Пушкину – за десять дней до – сдать тексты. (А кто просил: «Пускай дозволят нам, русским писателям, отражать бесстыдные и невежественные нападения иностранных газет»? Вперёд!) Стихи готовы; переписаны набело. Прочитать вслух? Ну что ж. О чём шумите вы, народные витии? Зачем – – —
Но тут, – якобы со слов бывшей фрейлины (через полгода она оставила двор, выйдя замуж) рассказывает её дочь, – «жена Пушкина воскликнула: “Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!” Он сделал вид, что не понял, и отвечал: “Извини, этих ты не знаешь: я не читал их при тебе”. – “Эти ли, другие ли, всё равно. Ты вообще надоел мне своими стихами”. Несколько смущённый, поэт сказал моей матери, которая кусала себе губы от замешательства: “Натали ещё совсем ребёнок. У неё невозможная откровенность малых ребят”. Он передал стихи моей матери, не дочитав их, и переменил разговор».