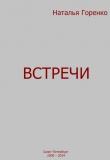Текст книги "Изломанный аршин"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 25 страниц)
От случайного прохожего Параша узнаёт, что в России новый царь, Александр I (значит, действие начинается после 12 марта 1801 года), и что летом (на самом деле – 12 сентября) в Москве состоится его коронация.
На следующий же день она бежит из дома и пешком, питаясь подаянием, добирается за эти полгода через всю страну до Кремля. (Пропускаю несколько эффектных эпизодов.) Царь сходит с Красного крыльца, она падает ему в ноги, весь народ становится на колени и просит за неё. Александр, естественно, объявляет помиловку отцу, а дочери, как очнётся, велит передать его благодарность: за то, что дала ему случай на доброе дело. Полная победа беззаветного милосердия. Параша летит в Сибирь, к отцу, в эпилоге все счастливы.
Цензура запретила пьесу моментально, и, надеюсь, вам понятно – почему. Хотя в пьесе и сказано раз сто, что отец Параши находится в Сибири 16! – 16! – 16 лет, но на дворе – 1840-й: со дня того несанкционированного пикета на Сенатской – 15! 15! 15!
Вообще, это было чистое безумие, хотя и не без блаженства. Полевой конкретно и буквально рисковал головой (я так и чувствовал: рано или поздно этой рифмы не избежать). Николаю было отчего прийти в ярость и помимо аллюзии на политзаключённых: на его собственной коронации произошёл точно такой же случай: сёстры Пассек встали на колени и подали просьбу о своём отце (амнистировать или реабилитировать, не помню, см. «Былое и думы»); естественно, их повязали, закрыли на целый день в обезьяннике ближайшего ОВД, отпустили только на ночь глядя, отцу же вместо реабилитации – шиш. Главное – Полевой был в курсе (Вадим Пассек был его хороший знакомый), – то есть совершенно сознательно помещал упомянутую свою голову непосредственно в пасть.
Объяснить это можно, кроме необыкновенного простодушия (карась! типичный Carassius carassius!), разве только ещё тем, что и Асенкова была такая же, и они были друг другом действительно, как некоторые утверждают, несколько увлечены.
Пьеса написана в начале декабря 39-го, запрещена в середине; бенефис Варвары Николаевны назначен был на январь. Она не стала разучивать другую пьесу. Она подошла в театре (за кулисами, конечно) к императору и пожаловалась, что ей срывают бенефис: если бы вы только знали, ваше величество, какая это глупость – запрещать такое прекрасное, такое патриотическое произведение! Николай сказал: дайте; прочту. И держал паузу две или три недели. До сих пор Асенкова вела себя неправильно. Как если бы опасалась домогательств43, – тогда как он, наоборот, практиковал тактику снисхождения, типа: в известных ситуациях настоящий рыцарь не может отказать изнывающей даме. Асенкова не умела играть дам.
3 января в Большом театре, в антракте балетного спектакля (танцевала Тальони) Николай вышел из своей ложи на сцену, огляделся и, завидев Каратыгина 2-го, поманил его пальцем.
«– Когда назначен бенефис Асенковой?
Я ему отвечал, что через две недели; тут государь с обычной своей любезностью сказал мне:
– Я почти кончил представленную мне драму Полевого и не нахожу в ней ничего такого, за что бы следовало её запретить, завтра я надеюсь возвратить пьесу; повидай Асенкову и скажи ей об этом. Пусть она на меня не сердится, что я задержал пьесу. Что ж делать? у меня в это время были дела несколько поважнее театральных пьес.
...Успех действительно был самый блестящий. Государь осчастливил бенефициантку своим посещением и наградил её прекрасным подарком».
Н. А. в письме к брату подтверждает: успех был неслыханный! «Каратыгин, Асенкова, Сосницкий, Каратыгин 2-й играли так превосходно, что все заливалось слезами, и меня вызвали три раза! Сам государь был, и добрая, милая, обожаемая всеми великая княгиня Мария Николаевна так была растрогана, что ей сделалось дурно после 2-го акта, когда Параша выпрашивает прощение отцу своему».
Читатель! ау, читатель, если вы есть! Вдумайтесь, пожалуйста: мы с вами только что раскрыли преступление века. Позапрошлого и прошлого. Эта пьеса Полевого – один из самых благородных поступков русской литературы. Автор – как Пушкин в «Анджело» и «Капитанской дочке» – восславил милосердие. Сделал всё, что мог, чтобы власть и публика вспомнили о декабристах и пожалели их.
Ну да, используя старый, как мир, приём соцромантизма: ах, Иосиф Виссарионович, как бы вас любили – даже сильней, чем сейчас! – если бы вы были таким же человечным человеком, как Владимир Ильич!
И за это «Параша» объявлена образцом конъюнктурной халтуры, а Николай Полевой – ренегатом.
Хотя про, допустим, «Пир Петра Первого» полагается думать и писать так:
«Стихотворение, посвящённое анекдоту о примирении Петра с подданным (Меншиковым или Долгоруким), является одним из звеньев в общей цепи ходатайств Пушкина за декабристов. В данном случае исторический пример из жизни Петра является призывом к царю “мириться с подданными”, т. е. вернуть из Сибири декабристов...»
Что же это такое, я вас спрашиваю, граждане? Это же полный, окончательный, всеобъемлющий караул!
О, хитрая СНОП, лживая СНОБ, трусливая СНОГ44!
И мать их, СНОЛИ (купно, значит, смотрящая), бессменная зав. кадрами, разбалованная ист– и диаматом донельзя: бывало, шагу не ступит, пока не оплодотворят. Покинутая ими (оставленными, в свою очередь, эрекцией, – держись, творительный, держись!) – валяется теперь в позе Данаи, золотого дождика ждёт.
Они все, наверное, думали: никто уже не станет разбираться. А тут я приплёлся. Спорить с глупцами о покойниках.
Как если бы падающий с дерева лист размышлял, кувыркаясь, о траектории другого такого же, позапозапрошлогоднего, растаявшего уже в перегной.
Эта толпа в ограде Никольского собора насчитывала не меньше тысячи человек. Литераторы пришли почти все – да хоть бы и все – ну, сотня, от силы. Александринская труппа в полном, предположим, составе – пятьдесят душ. А кто же остальные? Полагаю, Полевого хоронил зрительный зал. Т. е., по Герцену, – сотрудники Третьего отделения и чиновные лакеи. (А по Белинскому – свиные рыла). Они же и гроб несли на руках по слякотным улицам километра как бы не три.
Возможно, не такая уж была и глупость – написать эти сорок пьес.
§ 21. Нечто о лит. ненависти. Маркетинговый план
Я попаду в конце посылки, не беспокойтесь. Не далее как в следующем параграфе доскажу мой бедный анекдот. Самое большее, через час вы непременно узнаете, отчего некий – давно не читаемый, вообще ни на фиг никому не нужный – литератор первой половины какого-то там позапрошлого века, кончаясь, повторял (голосом тонким, с заусеницами, как бы грубо обструганным за последнюю ночь) своей без пяти минут вдове и старшим сыновьям:
– В халате и с небритой бородой. В халате... И с небритой...
И, кончившись, был положен в гроб именно в таком, скандально неопрятном, виде.
(Дотошные подробности предусмотрел – предписал, – и семья не подвела: исполнила буквально. Гроб простой, некрашеный; никакого катафалка – обыкновенные дроги без всяких украшений, запряжённые только парою лошадей; не нанимать факельщиков, не сыпать можжевельников по дороге... Да – и чтобы Н. Ф. не шила ни себе, ни дочерям траурные платья, и сыновьям не тратиться на чёрные тряпки: траур не облегчает и не выражает душевной потери; а считанные, последние копейки слишком понадобятся в набежавшие чёрные дни.)
Ничто не мешает вам – в отличие, увы, от меня – даже и немедля заглянуть в последний абзац (мне-то до него ещё вон ещё сколько страниц киселя хлебать; чёрного киселя; главное, непонятно – зачем: неужто нельзя написать заключительный абзац сразу, вот на этой же странице? а вот – никак; всё ещё не слышу его, а только предвижу, как он разочарует вас; и сам заранее почти согласен, что не стоило вам ради него читать, а мне – сочинять ни текущий параграф, ни, тем более, все предыдущие; но что же делать? таков мой ум, другого у меня нет: он ходит кругами; упаковать в пару фраз простую разгадку простой загадки, – ему слабо́). А там гора, очень надеюсь, наконец сойдётся с Магометом (не хватайся за АК, правоверный, см. лучше опыт сэра Фрэнсиса Бэкона «О бойкости») и родит давно обещанную мышь. Летучую, какую же ещё.
Там встретимся. Я вас догоню. Как только доиграю. Мы тут с Автором истории литературы сражаемся в цитаты. (С Auctorix; теперь я почти уверен; сужу не только по приёмам сюжетосложения: подсветку фигур тоже проще всего объяснить – даже оправдать – воздействием анатомического суффикса.) В цитаты – её (!) любимая игра. И единственный источник средств к существованию. Начинаем последний роббер. Партия первая. Ваш ход, Madame. С чего там у вас начинается чин почитания?
Это смотря по какому канону, отвечает она. Есть отрадный, а есть – умилительный. Какой предпочитаете? – А в чём разница? – Один открывается премудростью из основоположника, другой – закрывается ею же. – Катайте отрадный. Приступайте скорей. Как говорится – вонмем!
«Итак, и ещё не стало одного из замечательнейших действователей на поприще русской литературы! Говорим: из «замечательнейших», потому что наши с ним несогласия во взгляде на многие предметы нисколько не мешали нам отдать ему должную справедливость. Перед гробом умершего должны умолкать даже личные вражды, но никогда никакие личные отношения не руководили нас в наших отзывах о литературных трудах и мнениях Полевого. Каков бы ни был характер его литературной деятельности за последние десять лет, в нём многое объясняется стеснёнными обстоятельствами...»
Белинский сочинял этот текст в самый день похорон. На которые, по-видимому, не пошёл – и правильно сделал.
Мог попасть под скверный анекдот, вскорости придуманный Каратыгиным-младшим: что будто бы когда гроб выносили из собора, Булгарин сунулся помогать, а Каратыгин-старший пошутил: не надо, Ф. В.! вы покойника и при его жизни поносили довольно!
Реально сказать такой каламбур Булгарину – при всей литературе, да ещё в присутствии министра Уварова и генерала Дубельта – не осмелился бы никто, а уж в этот день никто, пожалуй, и не захотел бы. Все, кому следует, знали, что император облагодетельствовал вдову Полевую и её детей ежегодной пенсией (1000 р. сер.); что сделано это по докладу графа Орлова – составленному Дубельтом, – которому идею подал Булгарин. Знали также, что его величество не соизволил, чтобы об этом говорили вслух, – но растроганный шёпот, но навернувшуюся невзначай слезу умиления не запретишь: все, кому следует, чувствовали себя прикосновенными к акту, который ещё более украсит историю нынешнего царствования; настроение массовки было приподнятое; как на разрешённом митинге под лозунгом «Наш царь – ангел!»; именины народного сердца. Однако от гроба тянуло смрадом беды, нищеты, обиды. Для равновесия чувств каждому хотелось бросить на кого-нибудь укоризненно-торжествующий взгляд, – нет, сегодня не на Булгарина; а вот Белинский, пожалуй, годился.
В Никольском соборе его не видели. Туда отправились Краевский с Панаевым (и Владиславлев, само собой), а Белинский остался дома – составлять вышеприведённые фразы.
Из которых, к сожалению, только первая и последняя содержали т. н. правду, причём только первая – чистую.
Это я так думаю, а с точки зрения редакции – некролог Полевому в «Отечественных записках» вообще не полагался. Слишком жирно для него. Но нельзя же не выразить нац. лидеру горячую благодарность за новый знак внимания к отечественной литературе. Краевский распорядился так: вы ведь планировали, В. Г., рецензию на «Столетие России»? Так опустите ногу, приподнятую для очередного пинка; отставить пинок; сведите каблуки и щёлкните – негромко. Без такой, знаете, фельдфебельской прямоты, типа: за Богом молитва, за царём служба не пропадёт. Нет: необходима величайшая деликатность. Выразить общественный смысл события намёком тончайшим, как лепесток. Пусть русские литераторы умирают с лёгким сердцем. Им, чтобы не трепетать за оставляемых близких, ни лит-, ни пенсионный фонды не нужны; добрый царь надёжней профсоюза! Как-нибудь так. В таком примерно духе. А впрочем, учёного учить – только портить.
Замечу, что царь в этом случае маленько смухлевал. Присвоил себе чужую доброту; и блеснул ею за чужой счёт. В конце позапрошлого, 44-го года умер в Крыму князь Александр Николаевич Голицын. Специально назначенная комиссия кинулась разбирать его личный архив: там могли находиться документы величайшей важности; князь А. Н. был близким другом Александра I и носителем всевозможных гостайн. Но первое, что комиссия обнаружила, был проект (трёхлетней давности) ходатайства на высочайшее имя: старый вельможа (Голицыны, вообще-то, познатней Романовых), бывший министр просвещения, бывший обер-прокурор Синода и прочая, сообщал императору, что в последнее своё пребывание в Петербурге познакомился с удивительным писателем, автором очень значительного исследования, превосходного и по слогу, – «Истории Петра Великого»; что писатель (а впрочем, он известен вашему и. в. – как сочинитель отличных театральных пьес, возбуждающих горячее патриотическое чувство: это Николай Полевой) медлит окончанием своего труда – подобного которому не было в России ничего после «Истории государства Российского», – поскольку обременён многочисленным семейством и вынужден, чтобы содержать его, отвлекаться на подённую журнальную работу. А сколько пользы принёс бы этот человек, если бы, к примеру, получил звание историографа и соответствующий оклад жалованья, и прочее тому подобное... Проект остался в черновике, и Николай знал – почему: старик тогда же, в 41-м, однажды завёл с ним разговор на эту самую тему и был аккуратно прерван. Однако комиссия представила и другую бумагу, из которой явствовало, что князь хотел – но не успел – назначить литератору Н. А. Полевому пенсию от себя, из собственных средств: 1000 р. сер. в год. Не осуществить предсмертное намерение выдающегося гос. деятеля и друга семьи было бы не по понятиям. (Буквально: не понял бы даже граф Орлов, доложивший о документе, как не понял бы и его предместник – недавно скончавшийся Бенкендорф.) И весной 45-го Полевому эта тысяча серебром (с условием: при хорошем поведении – ежегодная) была пожалована высочайше. Он получил её только один раз. Теперь, когда он лежал в гробу и никаких сомнений насчёт его дальнейшего поведения не осталось, – не закрепить за его семьей эту (жалкую, по правде говоря: равную двум с половиной зарплатам А. А. Башмачкина) пенсию? Чрезмерное было бы жлобство. Нечеловеческая принципиальность. Гасить коллективный филантропический кураж III Отделения из-за тысячи серебром? Чтобы какой-нибудь Никитенко записал в дневнике, который издадут при социализме: Николай I, человек-пароход, был гнусный скаред? А тут ещё этот Булгарин. Так и вижу его в образе кота (из пьесы Шварца и – почему-то – из романа Булгакова): как он одним прыжком вылетает в окно и шипит: – Всем, всем всё, всё расскажу, старый ящер!
Белинский ничего этого не знал и знать не хотел. Заказывали намёк, тончайший, как лепесток? – извольте, готово – преимуществом русского литератора перед всеми другими является твёрдая уверенность в завтрашнем и даже в посмертном дне.
«Полевой оставил после себя большое семейство, и как он всегда помогал трудом и достоянием своим всякому нуждавшемуся в его помощи, то сам мог оставить детям своим честное, почтенное имя и благодарность соотечественников к его неоспоримым заслугам, – прекрасное наследие, которое не может остаться бесплодным и для его семейства!»
Первая положительная рецензия. На последнюю книгу. «Столетие России, с 1745 до 1845 года, или Историческая карта достопамятных событий в России за сто лет». Вот какие вещи Полевой делал под конец, до чего дошёл: хоть и на подкладке из исторических фактов, но голимый агитпроп. Сам понимая, каких ожидать откликов; что мог Белинский, кроме как опять вздохнуть утомлённо: когда же, господа, старый графоман уймётся? – И вот унялся, и в эту минуту (текст готов, отослан в типографию, пора обедать) шуршит над ним, оползая, пропитанная снегом земля.
А девять без малого лет назад Полевой написал первую рецензию на первую книгу Белинского – на «Грамматику». Положим, это был его долг: книга произвела переворот в науке (и могла бы обеспечить автора на всю жизнь, если бы не косность педагогов, не коррупция в Минпросе, не интриги Греча!) – но другие-то почти все предпочли промолчать. И деньгами ссужал; а если отказывал – значит, у самого не было, точно. Так что и эта фраза: трудом и достоянием помогал – не неправда. Тем лучше для текста.
Да, был добр, был щедр, бывал и храбр – но как-то не по-настоящему. Не совсем по-своему. Как бы воображая себя кем-то другим и тщательно этому другому – скажем, герою собственной автобиографии – подражая. Или как бы играя самого себя на сцене. Словно по памяти декламируя свой благородный текст. Слегка нараспев и чуть повышая голос.
Близорукое прекраснодушие. Диагноз, поставленный в 38-м, весной. Когда Полевой уже не стоил любви, но ещё не заслуживал ненависти.
А перед любовью было ещё сколько-то лет благоговения, смешно вспомнить. А после – в три месяца разочароваться, года три люто ненавидеть – пока не образовалась привычка безболезненно презирать... Какие прыжки! Но всё это были разные модусы одного и того же высшего чувства – справедливости. Которая сохраняет твёрдость лишь при низких температурах. Оттого практически безвредна для мертвецов. А с живыми обходиться по справедливости, но хладнокровно – что ж, попытайтесь, убедитесь: много ли – риторический вопрос Гамлета, – много ли останется на свете таких, кому не стоило бы дать порядочной оплеухи?
(Так в переводе Полевого; мотив телесного наказания был нецензурен; и у Кронеберга: кто же избавится от пощёчины? а вот зато у Пастернака и Цветкова: кто избежал бы порки? у Лозинского – кнута; в оригинале whipping, что можно перевести и просто как побои; Гоголь в «Письме к близорукому приятелю» применяет вариант Полевого: «О, как нам бывает нужна и т. д. оплеуха!»)
Отношения остыли (а потом раскалились) из-за статьи Белинского о «Гамлете». Полевому не надо было заранее, не прочитав, обещать: напечатаю. Не следовало печатать присланный отрывок, не дожидаясь окончания. И уж ни в коем случае нельзя было печатать возражение на неё.
А Полевой всё сделал наоборот. Одна из роковых глупостей. Из капитальных.
Но поставим себя на его место (теперь-то, задним числом, это легко).
Если автор пишет редактору: посылаю начало, окончание будет у вас через несколько дней, – и присланный отрывок составляет, предположим, 8 страниц, – как предугадать, что всего их будет 90? Вы спокойно засылаете эти 8 страниц в набор, пишете под последней строкой: продолжение впредь, – текст появляется в газете, – и тут с почты приносят остальные 82 страницы. Что теперь? Занять десять-двенадцать номеров статьёй об одной театральной постановке? Немыслимо. Для газеты – самоубийство. Однако в вашем распоряжении находится и журнал, – не перебросить ли статью туда?
Оно бы можно. Хотя и для журнала она велика – растянется месяца на три. Но это ладно, это бог с ней, это бывает, это куда ни шло. Проблема в другом: восхваляемая в статье театральная премьера – постановка пьесы, переведённой вами; фактически, значит, статья – про вас, лично; переполнена комплиментами вашему тексту и выписками из него!
Вы удивитесь, но даже и через сто лет на такие акции кое-кто порой смотрел косо. В 1936-м начинающий Михалков принес Фадееву – главному редактору журнала «Красная новь» и по совместительству смотрящему за писательской общественностью – лирические стихи про него, про Фадеева, – и получил в редакционном коридоре отлуп с нотацией: большевизм и подхалимаж – вещи несовместные! (На следующий год Михалков пробрался, куда хотел, коридором другим.)
Что уж говорить о 1838-м! То есть, конечно, похвалы себе журналисты публиковали регулярно и охотно (сотрудники почившей «Литгазеты» вообще только этим и занимались), но понимали, что это некрасиво, и других журналистов (а другие журналисты – их) за это втаптывали тщательно в грязь как за тяжкое нарушение приличий. В результате, как правило, престиж падал, а за ним – тираж. Дать статью о «Гамлете» в первых же (нескольких!) номерах журнала, чью репутацию Полевой собирался поднять, подставив под неё свою, – это был бы автогол! Вот Краевский был бы счастлив: типичный случай сугубо назойливой саморекламы; ай да «Сын отечества»! с обновлением вас!
Но и откладывать нельзя: информационный повод завянет; позавчерашняя премьера – не премьера; к тому же Белинский так нетерпелив, так обидчив, так мнителен, так нуждается в деньгах; ему обещана постоянная выгодная работа, – и вот, первый же блин комом; жалко терять перспективного автора; неудобно – подводить хорошего человека.
А тут ещё, как нарочно, – первый читательский отклик. (Попросту – письмо из Москвы, от Селивановского; долго рассказывать, кто таков; прозвище – Шарик; владелец типографии; хлебосольный полулитератор; у него в гостях Белинский и Полевой познакомились – давно, в 35-м ещё году! И у него же в предпоследний раз виделись: «славный был вечер, хотя и у Селивановского!» Н. А. читал сцены из «Уголино», Белинскому понравилось: «Некоторые характеры обрисованы художнически, есть места истинно поэтические; остальное – фразы, но какие фразы! Успех будет полный».) Т. н. письмо в редакцию: в № 4 вашей газеты помещена статья о драме Шекспира «Гамлет»; приятно, что в «Северной пчеле» стали раздаваться голоса москвичей; надеюсь, милостивый государь, вы позволите и ещё одному из них высказать свои соображения – как раз о вышеупомянутом тексте. И – несколько довольно резких (но довольно убедительных) возражений на некоторые тезисы Белинского (довольно, в самом деле, размашистые).
Отказывать Селивановскому – не хотелось тоже. Упускать такой удачный почин интерактивного контакта. И пример объективности: взгляните, мы даём слово даже противникам наших сторонников.
Вот что Полевому надо было сделать – написать к обоим.
Селивановскому – так и так, любезнейший Николай Семёнович: с удовольствием напечатаю ваше письмо, но не прежде чем статья Белинского будет опубликована полностью.
Белинскому – так и так, любезнейший Виссарион Григорьевич: ваша статья невозможно велика, не будете ли так добры сократить её хотя бы вдвое; это, кстати, легко сделать за счёт слишком обильных цитат; в противном случае вынужден отказаться от публикации.
Ну поссорился бы с обоими, ничего страшного; всё было бы лучше, чем то, что вышло.
А вышло то, что заметка Селивановского (подпись: А. М.) пошла в февральский номер «Сына отечества».
Белинский же свою статью истребовал (через Кольцова) назад и предложил её (опять через Кольцова) Краевскому для «Лит. прибавлений».
Чрезвычайно, кстати, нетривиальный ход: всего две недели назад (21 февраля) тот же Кольцов ему докладывал: «Краевский о вас говорил, что Белинский большой негодяй, пишет чёрт знает что. “Он мне прислал две статьи, просил поместить в журнал, и чтоб участвовать сотрудником. Но его статьи никуда не годны. Человек начал писать о том, повёл речь вовсе о постороннем; потом завлёкся, что и не поймёшь. Сделал мне предложение, чтобы в журнале быть вроде панибрата. Я ему пишу, что в этом журнале хозяин я, – а другого нипочему не надобно, и я, брат, в тебе не нуждаюсь”».
После таких слов – если бы кто-нибудь сказал их про вас – вы предложили бы этому человеку новый свой текст: дескать, вдруг он понравится больше? Я – точно нет. Белинский, все говорят, был так самолюбив. С Полевым после того, как вышел февральский 38 года «Сын отечества», не обменялся ни словом и больше не виделся ни разу в жизни. А трамвайной бранью мистера Краевского умылся, как божьей росой. И не прогадал – наоборот, угадал. На этот раз (11 марта) Краевского было не узнать. Очередное разведсообщение от Кольцова:
«...вот его ответ: “Пожалуйста, напишите вы Виссариону Григорьевичу, чтоб он её пристроил к следующей игре московских актёров, например, вот как будут играть на Святой неделе, и чтоб тотчас ко мне он её прислал; тогда она будет нова, по времени, и напечатается в пору”».
Удивлены? А мы с Белинским – нисколько. И Кольцов под конец разговора тоже отчасти сообразил:
«Он что-то к вам вдруг получшел: то сперва бранил, а теперь другое дело. Я полагаю (может быть, впрочем, и ошибочно), что сперва он думал, наверное, что вы будете участвовать у Полевого, тогда казались ему страшны».
Не исключено, что именно в тот день Краевский окончательно решился снять у Свиньина пребывавшие в анабиозе «Отечественные записки». Таким образом – присоединив к своей газете толстый журнал – он становился третьей по значению фигурой лит. рынка. Первая – пока что был Полевой, вторая – Сенковский. За обоими стоял загадочный миллионер Смирдин, но партия Краевского твёрдо обещала собрать вскладчину 120 тысяч – на первый год хватит, а дальше журнал сам пойдёт. Отбирая подписчиков и у «Библиотеки», и у «Сына отечества». Конкуренция обещала быть жестокой, но вот же – как ласточка с весною, в наши сени прилетает лирик из Воронежа с такой превосходной новостью: один из молодых друзей Полевого стал – а не стал, так скоро станет (если мы хоть немного разбираемся в людях) – его врагом! Добрая примета! И очень, очень может быть полезен сей отчисленный студент.
«Я ему сказал, что Виссарион Григорьевич желает, чтобы его статьи были напечатаны с его именем. “На это я согласен с охотою. Ещё напишите, буде у него есть своего сочинения повести, статьи учёные или чисто журнальные, то пусть ко мне присылает; я буду печатать их с его фамилией, и с большим, большим удовольствием; я не буду печатать от него только одного, разборы книг, а если бы и напечатал, то, во-первых, без имени, а во-вторых, и с переменою, что в них будет противу моих связей”».
Как сказал бы (если верить Самуилу Маршаку) Роберт Бернс: вот это сватовство!
Но кое-кому такая поспешность пришлась не по душе. Краевский воображал, что в его просторном кабинете с видом на разводной Аничков мост никого, кроме Кольцова, нет, – дудки: Авторша истории литературы слышала каждое слово!
И, разглядывая литографированный портрет Пушкина на стене и прислонённую к стене камышовую жёлтую палку (тоже Пушкина; вытребованную Краевским у душеприказчиков: «пусть дадут мне палку за тот долг, который Пушкин всегда считал на себе относительно меня за “Современник”: во весь год, как вам известно, я не получил от него ни копейки»), она думала: ишь как у вас всё просто, голубчики. Однообразно. Товар – деньги – товар, и дело в шляпе. Нет чтобы сперва проверить обоюдное чувство и взаимную совместимость. Рассчитали без хозяйки. А вот назначу-ка я вам испытательный срок! Союз истинных сыновей гармонии, гг. Краевский и Белинский, временная разлука только укрепит.
И в тот же день, но ближе к вечеру, и не в Петербурге, а в Москве, состоялся другой разговор. Человек по фамилии Степанов – хозяин типографии, в которой печатался «Московский наблюдатель», объявил Белинскому, что откупил у Андросова этот журнал. Заплатил Андросову за то, чтобы он больше ни во что не вмешивался, сосредоточившись на другом своем издании – «Журнале для овцеводов». Потому что Степанову невыносимо больно стало смотреть, как погибает отличный бренд. Никто не читает заумные статьи Шевырёва и прочей профессуры. Подписчиков осталось десятка три. Всё надо переменить – направление, состав авторов, манеру. Возьмётесь, Виссарион Григорьевич? Журнал остановился в феврале. Две книжки за март должны выйти в этом месяце. Вот аванс.
Через неделю верный Кольцов известил Краевского и весь литературный Петербург: не ждите от Белинского рукописей; напротив того, шлите ему свои; он теперь сам большой. Что ж, отлично, сказал Краевский: союзник нам нужней, чем сотрудник. Лишь бы он не прислонился опять к «Сыну отечества». Надо его приручить. Займитесь этим, Панаев. Напишите ему, повод есть.
Панаев написал:
«От доброго и умного А. В. Кольцова узнал я о переходе “Московского Наблюдателя” в ваши руки. Радуюсь за Москву, в которой будет журнал; ещё более радуюсь, что ваш всегда правдивый и резкий голос, давно замолкший, снова раздастся, – а в эту минуту Русской Литературе он необходимее, чем когда-либо. – Прошу вас принять в круг ваших знакомых и всегда считать человеком, совершенно преданным вам,
Ивана Панаева».
Первая мартовская книжка «Московского наблюдателя» вышла 4 мая, вторая – 28-го, обе апрельские – в конце июня, первая майская – в конце июля, вторая майская – в конце августа... Дальше я сбился, и тогдашние читатели – тоже. Вторая книжка за август – вообще только летом следующего года то ли вышла, то ли нет.
Обёртки цвета весенней травы – в надежде, как шутил Бакунин, на будущие блага. Программная статья – его предисловие к «Гимназическим речам» Гегеля. Недаром последние месяца три Бакунин жил у Белинского; говорили о Гегеле с утра до вечера: Мишель переводил его Виссариону à livre ouvert, Виссарион ловил идеи на лету и приделывал им новые крылья. Вдвоём они сделали потрясающее открытие: последний результат, конечный продукт европейской философии представляет собою не что иное, как уваровскую трёхчленку! Бакунин вывел её облагороженную формулу:
«Примирение с действительностью, во всех отношениях и во всех сферах жизни, есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте – главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь. <...> Будем надеяться, что новое поколение сроднится, наконец, с нашею прекрасною Русскою Действительностью, и что, оставив все пустые претензии на гениальность, оно ощутит, наконец, в себе законную потребность быть действительно русскими людьми».
На этом абзаце, как на сухом пайке, Белинский просидел ещё несколько лет. На нём же – как на белом коне – въехал в славу. (А Бакунин очень скоро отставил эту мысль: не умел подолгу жить с одной и той же, – и Белинского покинул, и журнал.)
Сам по себе лозунг «Крепостному праву – наше дружное троекратное да!» мог бы показаться немного сомнительным, немного – как бы это помягче определить – сервильным, если бы прямо под ним на новом знамени не был воспроизведен готический росчерк: Георг Вильгельм Фридрих Г – и закорючка. Против достижений науки логики, против феноменологии духа не попрёшь. Теория примирения, как в курином яйце, содержалась в афоризме германского мыслителя: «Всё действительное разумно». Оставалось выбить её на сковородку с кипящей комсомольской диалектикой. Крепостное право прекрасно, потому что разумно. Оно разумно, потому что действительно, а ведь сам Георг Вильгельм Фридрих Г – и т. д. Согласуясь тютелька в тютельку с практикой русских интелей, теория эта была такой же освободительной для их совести, как через два поколения – теория классовой борьбы. Разве что сам термин – примирение – звучал несколько виновато. С прекрасным не мирятся, потому что не ссорятся. Им наслаждаются и припеваючи живут.