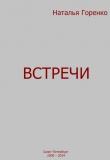Текст книги "Изломанный аршин"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 25 страниц)
А ведь это бывает, у некоторых: непреодолимая потребность припасть к поверхности сочинителя полюбившихся произведений.
Не покидая пределов школьной программы, припомним два случая.
1815 год, 8 января, часов десять утра, вестибюль (сени) Царскосельского Лицея, юный (шестнадцатилетний) Дельвиг, старик (семьдесят один стукнуло) Державин, «поцеловать руку, написавшую “Водопад”»: – А где, братец, здесь нужник?
Эта история настолько хороша, что трудно поверить, что Пушкин не выдумал её.
Зато другая выглядит удивительной, как сама правда.
1880 год, 7 июня, вечер, самый центр Москвы, Большая Дмитровка, угол Охотного ряда. В Доме Союзов (в Благородном, по-старому, собрании) окончен т. н. литературный обед (на 200 персон, между прочим), и Достоевскому пора в гостиницу.
«Когда же в ½ 10-го я поднялся домой (еще 2 трети гостей оставалось), то прокричали мне ура, в котором должны были участвовать поневоле и несочувствующие. Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили меня на извозчика. И вдруг бросились целовать мне руки – и не один, а десятки людей, и не молодёжь лишь, а седые старики. Нет, у Тургенева лишь клакеры, а у моих истинный энтузиазм».
Ещё бы не истинный. Хотя и не без алкоголя. Девиз обеда был: Подымем стаканы, содвинем их разом и т. д. (см. отпечатанное меню). И накануне съели такой же, перед тем потолпившись вокруг новообретённой статуи Пушкина. Любовь к литературе бурлила в культурных сердцах и рвалась наружу. Утром, действительно, показалось было, что вся она достанется Тургеневу: так долго ему хлопали, кричали «браво!» и «спасибо!» и преподносили венки.
– Ещё бы, Тургенев! Сам! Кто не читал и не перечитывал его романы, кто не страдал вместе с Лизой, Еленою, кто не плакал над умирающим Базаровым... А когда Лиза увидела в монастыре Лаврецкого и прошла мимо него «торопливо-робкой монашеской поступью», кому не хотелось тоже пойти в монастырь!
Но, как видим, ближе к ночи (ну и в отсутствие дам) дали себя знать и братья Карамазовы.
Впрочем, окончательно всё решилось на следующий день, 8-го, в том же здании: настала очередь Достоевского читать о Пушкине речь.
«Зала была как в истерике, когда я закончил, – я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга: люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. Порядок заседания нарушился: всё ринулось ко мне на эстраду: гранд-дамы, студентки, государственные секретари, студенты – всё это обнимало, целовало меня. Все члены нашего общества, бывшие на эстраде, обнимали меня и целовали, все, буквально все плакали от восторга. Вызовы продолжались полчаса, махали платками, вдруг, например, останавливают меня два незнакомые старика: “Мы были врагами друг друга 20 лет, не говорили друг с другом, а теперь мы обнялись и помирились. Это вы нас помирили, вы наш святой, вы наш пророк!”. “Пророк, пророк!” – кричали в толпе. Тургенев, про которого я ввернул доброе слово в моей речи, бросился меня обнимать со слезами. Анненков подбежал жать мою руку и целовать меня в плечо. “Вы гений, вы более чем гений!” – говорили они мне оба. Аксаков (Иван) вбежал на эстраду и объявил публике, что речь моя – есть не просто речь, а историческое событие! Туча облегала горизонт, и вот слово Достоевского, как появившееся солнце, всё рассеяло, всё осветило. С этой поры наступает братство и не будет недоумений. “Да, да!” – закричали все и вновь обнимались, вновь слёзы. Заседание закрылось. Я бросился спастись за кулисы, но туда вломились из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки, мучили меня. Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств. Полная, полнейшая победа!»
Да-с, не ваша, не ваша взяла, господа! Померкло парижское-то светило! Вот что бывает: сознания лишается молодежь от счастья увидать кое-кого вблизи. (В анналах, представьте, сохранилась фамилия слабонервного: Паприц, а также инициалы: К. Э. Кстати – не студент. Чуть ли тоже не литератор.) В сущности, это даже круче целования рук, не говоря уже – в плечо. Хотя – как сказать: оттенки ощущений зависят от подробностей.
«Не курсистки только, а и все, обступив меня, схватили меня за руки и, крепко держа их, чтобы я не сопротивлялся, принялись целовать мне руки. Все плакали, даже немножко Тургенев».
До чего трогательная мизансцена. И ни слова про нужник? Ну нет, погодите. Дайте и Салтыкову сказать:
«По-видимому, умный Тургенев и безумный Достоевский сумели похитить у Пушкина праздник в свою пользу, и медная статуя, я полагаю, с удивлением зрит, как в соседстве с её пьедесталом возникли два суднышка, на которых сидят два человека из публики. Достоевский всех проходящих спрашивает: а видели вы, как они целовали у меня руки. И, по свидетельству Тургенева, будто бы прибавляет: а если б они знали, что я этими руками перед тем делал!»
Кода. Пушкин хохочет, брезгливо разглядывая бесчувственное тело Паприца К. Э.
Сам-то Пушкин посторонних (исключая слабый пол и крепостное крестьянство) к руке не подпускал. Любого отпихнул бы резко. Допускаю, что – ногой.
Кто-то однажды подглядел, как он и Дельвиг – взрослые, грустные, пьяные – целуют руки друг у друга. Навряд ли Пушкин первый вздумал. А Дельвиг – слишком не посторонний.
Вообще же в первой трети девятнадцатого в этом тонком слое этой узкой среды (последние любители, они же первые профессионалы), желая выразить восхищение каким-либо текстом, обычно целовали автора в голову – т. е. в щёку или в лоб; подшофе попадали, конечно, и в губы. Впоследствии Гоголь эту манеру назовёт: влепить безэшку. Украсит ею Ноздрёва.
Какой-нибудь Погодин читает Пушкину сцены из какой-нибудь своей «Марфы Посадницы»:
«Прочитал ещё 2 действия. Пушкин заплакал: “Я не плакал с тех пор, как сам сочиняю; мои сцены народные ничто перед вашими. Как бы напечатать её”, и целовал, и жал мне руку...»
32
См.: Г. Федотов. «Стихи духовные. Русская народная вера по духовным стихам».
33
Кашинцев была его фамилия; Кашинцев Николай Андреевич; племянник Дубельта, между прочим.
34
Ср.: Цезарь. «Записки о галльской войне».
35
А зачем Полевой в 32 году, когда вышла третья часть «Стихотворений Александра Пушкина», написал: «Это не прежний задумчивый и грозный, сильный и пламенный выразитель дум и мечтаний своих ровесников: это нарядный, блестящий и умный светский человек, обладающий необыкновенным даром стихотворения»? Прощают такое, – как по-вашему? Забывают?
36
Кроме как к устрицам, свежим, прямо из бочки, только что выгруженной из корабельного трюма.
37
В супружество – да, вступил.
38
В письмах Н. А. П. к брату есть и ещё одно, третье упоминание о ней:
«Вчера Р. сказывал мне, что А. здесь, но, кажется, я не увижу её, ибо брат ея немедленно увёз её к себе, куда-то на дачу близь Павловска, и приедет с нею сюда только посадить её в дилижанс и отправить в Москву...» (Под строкой примечание: «Разумеется, мне легче было бы идти в пещеру льва, если бы лев утащил А., нежели ехать к брату ея».) «...Итак – одно из мечтаний на отрадную минуту исчезло. Грустно, но так и быть. По крайней мере, меня порадовали слова Р., что она весела и здорова, а я привык к лишениям радостей, так что радость кажется мне, или показалась бы мне, ошибкой судьбы...» Инициал и время пребывания в СПб – в принципе (и при некоторой удаче) этого достаточно, чтобы установить личность. Искать (предположительно) даму из артистического мира, вероятней всего – профессиональную актрису; внешность необычная, манеры оригинальные (предположительно – имеется сходство с Настасьей Филипповной Барашкиной, а также – несомненно – с Элеонорой из «Аббаддонны»), проживала в таких-то числах на даче под Павловском, у брата. Но – не наше это дело.
39
А вот и мнение В. Ф. Одоевского об «Уголино»: «На сцене эта драма в самом деле недурна... я не подозревал в Полевом такого таланта. Дурён и лишний 5 акт, но первые четыре, без сомнения, выше драм Дюма и всех антитезических характеров Гюго...»
40
А вы ещё сомневались, что он идиот!
41
Ошибочка у подполковника!
42
Поразительное расположение, так сказать, фигур. Ещё поразительней, что за последующие семь лет оно повторилось десятки раз. Этот факт сам по себе объяснил бы нам судьбу Полевого – если бы тоже не был, в свою очередь, загадочным. Николай приходил за кулисы и в антрактах, и после спектаклей. Разговаривал с актёрами, с режиссёром, обсуждал игру и текст. Стоя, как сейчас, в пяти – а то и в трёх – шагах от Полевого. Но даже нахваливая, даже громко – его пьесу, – ни разу не взглянул в его сторону. Подозреваю, что это очень тревожило и даже мучило Н. А., и недоумеваю вместе с ним. Царь его ненавидел – это ясно. Но за что? У меня целых три гипотезы, но раз я не сумел их развить в основном тексте, – оставим всё как есть.
43
Это ведь об Асенковой – о бриллиантовых серьгах, ей подаренных после дебюта в Александринке, – поразительный пассаж в письме Пушкина к Н. Н. из Москвы (май 36-го!): «И про тебя душа моя, идут кой-какие толки, которые не вполне доходят до меня, потому что мужья всегда последние в городе узнают про жён своих, однако ж видно, что ты кого-то довела до такого отчаяния своим кокетством и жестокостию, что он завёл себе в утешение гарем из театральных воспитанниц. Нехорошо, мой ангел: скромность есть лучшее украшение вашего пола».
44
Этот мой синдром аббревиатур – тоже чисто советского происхождения, не спорю.
45
Точно такая же интонация: «Честь и слава молодому поэту, муза которого любит людей на чердаках и в подвалах...» – в отзыве о «Бедных людях», написанном в 46 году и напечатанном в том же номере ОЗ, что и «некролог» Полевому.
46
Приношу сердечную благодарность Н. П. Будановой (Санкт-Петербургская государственная Театральная библиотека).
47
Да-с, вот кого тоже не понимаю совсем: Ивана Ивановича Панаева. Был неравнодушен к Полевому – и разочаровался, – это нормально. Потом обожал Белинского – и предал – вернее, изменил ему с Некрасовым, сердцу не прикажешь. Насколько можно судить, истинную страсть он питал – не к Авдотье Яковлевне же! – к одной литературе. Но зачем он в мемуарах так упрямо гнёт факты так, чтобы они принижали Полевого, давно умершего, – хоть убейте, не подберу мотива. Это было как-то связано, по-видимому, с Белинским; скажем, так: покойный друг, которого я, давайте считать, не предавал, был весь дитя добра и света и никогда не стал бы никого травить зазря; раз он доставал Полевого – значит, Полевой заслужил. Причём похоже, что эти мемуары – именно с таким уклоном – И. И. замыслил давным-давно, в своей молодости, когда Полевой был ещё жив. Для них и поддерживал – единственный из партии «Отечественных записок» – это ненужное и вроде бы неприятное ему знакомство. Вот дождусь, когда умрёшь, переживу как смогу надолго – и так распишу, что ты в гробу извертишься. Похоже и на то, что Полевой разгадал этот план Панаева – и нарочно его дразнил; как бы играл с ним в поддавки. Вот какой случай навёл меня на эту мысль.
«– Белинский – прекраснейший, благороднейший человек! – сказал мне однажды Полевой, когда я нарочно завёл с ним речь о Белинском: – горячая голова, энтузиаст, но теперь нам сходиться не для чего-с. Я здесь уже совсем не тот-с. Я вот должен хвалить романы какого-нибудь Штевена, а ведь эти романы галиматья-с.
– Да кто же вас заставляет хвалить их? – спросил я с удивлением.
– Нельзя-с, помилуйте, он ведь частный пристав.
– Что ж такое? Что вам за дело до этого?
– Как что за дело-с? Разбери я его как следует, – он, пожалуй, подкинет ко мне в сарай какую-нибудь вещь, да и обвинит меня в краже. Меня и поведут по улицам на веревке-с, а ведь я отец семейства!
У меня сжалось сердце при этом страшном признании. И это говорил тот человек, который некогда энергически преследовал всякую подлость, проповедывал о свободе духа, о человеческом достоинстве!»
Уверен, вы и без меня разберётесь, чего стоят эти «с удивлением» и «сжалось сердце». Но Панаев посчитал необходимым припомнить этого Штевена и в рассказе о дне похорон (см. в настоящей книге стр. 120): «Полевой, восхвалявший романы частного пристава Штевена...» Что ж, я разыскал эту рецензию. В ней 11 строк, из которых 3 – выходные данные. Штевен этот был основоположник русской научной фантастики. Один из. Наряду с Одоевским и Вельтманом. По всей видимости, действительно сочинял галиматью (или то, что принимали за галиматью люди традиционного вкуса, в том числе и Полевой). Вероятно, был добродушен, т. е. мания величия не омрачалась в его уме манией преследования. Потому что я бы на его месте, не колеблясь, подкинул бы Полевому в сарай какую-нибудь вещь и после обыска повёл бы на верёвке. За такую рецензию. Вот она:
«Магические очки. Сочинение И. Штевена. Четыре части. СПб. В типографии А. Иогансона. 1845, в 12 долю листа, стр. 214, 231, 298, 300.
При появлении таких книг, как при проезде известного человека, журналисту только надобно снять колпак и поклониться. Кто не знает прежних романов автора: Провидение, Цыган, или Ужасная месть, Солнечный луч? В Магических очках он ещё выше, ещё изящнее, и удивляться ли? Принадлежность дарования “шествуя, приобретать силы”. Ключ светлеет от употребления, а дарование тоже ключ: он откроет двери в храм славы.
Н. П.»
Так пишут лишь о самых безобидных дураках. Но спрашивается: кто же после этого Панаев?
48
Эпиграмма – неизвестно чья. Но странно знакомый размер.
49
Была, была у Белинского слабость и кроме устриц: не любил признаваться, что не владеет иностранными языками. Поэтому поневоле иногда блефовал. О первой публикации «Скупого рыцаря» отозвался так: «“Скупой рыцарь”, отрывок из Ченстоновой трагикомедии, переведён хорошо, хотя как отрывок и ничего не представляет для суждения о себе». Это, значит, 36 год.
Но в 38-м, обвиняя «близорукое прекраснодушие» (знаем, знаем) в недооценке пушкинского таланта, оспорил свою оценку как будто она совсем и не его. С укором и свысока.
«Так, например, сцены из комедии “Скупой рыцарь” едва были замечены, а между тем, если правда, что, как говорят, это оригинальное произведение Пушкина, они принадлежат к лучшим его созданиям...»
50
Должно быть, с этого дня – с 4 октября 1840 года – Белинскому и начисляется революционный стаж. С полным основанием: в письмах к Боткину великий критик выступает бескопромиссным борцом за счастье человечества («…чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную…»); в открытом (попавшем в самиздат) письме к Гоголю доходит прямо до исступления. Иное дело – в «Отечественных записках», журнале, конечно, передовом, но подцензурном. См., например, в Пятой статье о Пушкине (1844 год):
«Кто из образованных русских (если он только действительно – русский) не знает превосходной пьесы, носящей скромное и, повидимому, незначительное название “Стансов”? Эта пьеса драгоценна русскому сердцу в двух отношениях: в ней, словно изваянный, является колоссальный образ Петра; в связи с ним находим в ней поэтическое пророчество, так чудно и вполне сбывшееся, о блаженстве наших дней:
В надежде славы и добра...
Какое величие и какая простота выражения! Как глубоко знаменательны, как возвышенно благородны эти простые житейские слова – плотник и работник!.. Кому неизвестна также превосходная пьеса Пушкина – “Пир Петра Великого”? Это – высокое художественное произведение и в то же время – народная песня. Вот перед такою народностию в поэзии мы готовы преклоняться; вот это – патриотизм, перед которым мы благоговеем... А уж воля ваша, ни народности, ни патриотизма не видим мы ни искорки в новейших “драматических представлениях” и романах с хвастливыми фразами, с квашеною капустою, кулаками и подбитыми лицами...»
51
А раз день – прелесть, и семья на даче, пошёл бы прогуляться; летом в Петербурге одинокому человеку хорошо. По пустынному Невскому к Александринке. Спектаклей нет, а зато на будущей площади Островского, на месте будущей бронзовой Екатерины стоит чучело кашалота.
Огромное: от головы до хвоста 95 футов. Входная плата – рубль со взрослого, полтинник с ребёнка. В голове чудовища – гостиная, что-то вроде концертного зала. Играет оркестр: 24 музыканта.
Внутри кашалота слабо пахнет рыбьим жиром и сильно – сгоревшим одеколоном. В его голове полукругом расставлены мягкие стулья и диваны; сиденья обиты синим вельветом. Прикручены латунные фитили газовых ламп на вогнутых стенах. Динамики по обоим бортам невысокой сцены транслируют слабое завывание ветра, глухой треск и – откуда-то издалека – упорно вдалбливаемую группой ударных схему ритма. На сцене бесшумно и неутомимо пляшут вокруг электрического костра (кучки светящегося бутафорского хлама) какие-то трое. Держа руки в карманах, синхронно перебирают клетчатыми, в обтяжку, брючинами. Острый носок туфли склевывает с пола невидимую крошку. Чечётка на цыпочках; точно комары над поверхностью пруда. В афишке сказано: весь вечер на сцене – трио «Свояки» – Андрей Краевский, Иван Панаев, Николай Некрасов.
Динамики смолкают. Некрасов поворачивается лицом к залу, вынимает руки из карманов и делает шаг вперед. Двое других продолжают приплясывать, не то шипя, не то насвистывая – что-то вроде «тч-тч». За сценой ксилофон заводит прозрачную полечку тран-блан.
Некрасов
Прилежно я окидывал
Заморского кита.
Немало в жизни видывал
Я разного скота.
Но страшного, по совести,
Такого не видал,
Однажды только в повести
Брамбеуса читал.
Панаев подходит к Некрасову. Теперь за их спинами выделывает все те же странные па, шипя «тч-тч», один Краевский.
Панаев
Хвост длинный удивительно,
Башка – что целый дом,
Возможно всё решительно
В нём делать и на нём:
Плясать без затруднения
На брюхе контраданс,
А в брюхе без стеснения
Сражаться в преферанс!
Расходятся в разные стороны, опять подключаясь к ритму. Теперь выдвигается вперед Краевский.
Краевский
Столь грузное животное
К нам трудно было ввезть:
Зато весьма доходное,
Да и не просит есть.
Дерут за рассмотрение
Полтинник, четвертак,
А взглянешь – наслаждение
Почувствуешь в пятак!
Так и пляшут non-stop. И куплетов этих у них – миллион. И все – на злобу дня. Невзирая на лица. Погодите, дойдут и до литературы. Вот – уже и дошли.
Панаев
...Без вздоров сатирических
Идёт лишь Полевой
В пиесах драматических
Дорогою прямой.
В нас страсти благородные
Умеет возбуждать
И, лица взяв почётные,
Умеет уважать...
А сейчас они споют все втроём:
...Большой портрет к изданию
Списать с себя велю
И в Великобританию
Гравировать пошлю.
Как скоро он воротится,
Явлюсь на суд людской,
Без галстуха, как водится,
С небритой бородой...
Какой знакомый стихотворный размер, не правда ли?
52
Смешно: последним его текстом было открытое письмо Булгарину. В «Литгазете» (которую Полевой взялся редактировать: Краевский подкатился; уже и в «Отечественных записках» пол под ногами Белинского горел; Краевский искал только предлога, чтобы сказать ему: на выход, с вещами). Булгарин в очередной – в последний – раз предъявил Полевому (кажется, в «Северной пчеле») всё то же самое, что и Белинский, разве самую малость остроумней: вы берётесь за всё и ничего не доводите до блеска, у вас нет таланта, вы не настоящий писатель, а пишущая машина – «полевотип». Возможно, вы правы, отвечал Полевой, но этот полевотип, «положа руку на сердце, может сказать, что его дети не постыдятся ни гражданской, ни литературной жизни своего отца».
53
Белинский тоже понял, что вышло недоразумение. И попытался его загладить. Амнистировал Полевого посмертно. Написал в апреле 46-го большую статью (издав её отдельной брошюрой: из «Отечественных записок» он тогда же ушёл): «Николай Алексеевич Полевой». Теперь любой разговор о Полевом полагается начинать и заканчивать цитатами из неё.
«Три человека, нисколько не бывшие поэтами, имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи её исторического существования. Эти люди были – Ломоносов, Карамзин и Полевой...»
«...Он сумел на своём пути стать выше всех соперничеств и даже восторжествовать в борьбе против всех враждебных соревнований...»
«Романтизм – вот слово, которое было написано на знамени этого смелого, неутомимого и даровитого бойца, – слово, которое отстаивал он даже и тогда, когда потеряло оно своё прежнее значение и когда уже не было против кого отстаивать его!..»
«...Всегда, в жару самой запальчивой полемики, он умел сохранять своё достоинство, уважать приличие и хороший тон, и что в самых любезностях его противников было больше грубости и плоскости, нежели в его брани...»
«...Заслуги Полевого так велики, что, при мысли о них, нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках...»
Несчастный характер. Мучительно нравилось мстить. Чувствовать себя мстителем. Воображать. Как горячо сострадал Белинский шекспировскому Гамлету, который не умел насладиться местью. Герой его собственной драмы («Дмитрий Калинин», никто никогда уже не прочитает, это выше человеческих сил) – вот тот умел.
Самая первая публикация Белинского – стихотворение «Русская быль». Монолог удалого молодца, которого красна девица променяла на богатого боярина. Вот что мечтает молодец сделать за это с боярином:
...И он выйдет ко мне.
Как сокол на птиц,
На него напущу,
Буйну голову сорву,
Белу грудь распорю,
Ретивое выну вон,
Положу его на блюдечко
На серебряное,
К моей милой понесу...
Милой тоже мало не покажется:
...Таковы слова скажу:
«Ты любезная моя,
Ненаглядная моя!
Ты узнала ль меня?
Вот и я к тебе пришел:
Скажи, рада ль ты мне?
Вот гостинец тебе.
Ты спасибо скажи:
Мой гостинец хорош,
Мой гостинец пригож.
Ах! как кровь горяча!
Ах, как кровь-то сладка!
Ты отведай её,
Ею руки обмой,
Ей лицо окропи.
Как умильно глядит
Голова на тебя;
Посмотри на неё;
Поцелуй во уста
Во холодные!..»
Ничего себе – лит. дебют? Газета («Листок») с этими удивительными стихами вышла в самый день рождения автора: Белинскому исполнилось ровно двадцать. Однажды, десять лет назад пьяный отец затрещиной сбил его с ног. «Мальчик встал пересозданным; оскорбление и глубокая несправедливость запали ему в душу», – сообщает один его конфидент.
54
В «Аббаддонне» есть похожая страница:
«Хотите ли зажать рот наглости, если она хочет поразить вас насмешкою? Не стыдитесь только сами за себя, станьте смело перед ней, смело, потому что вы не возвышаете требований своих далее того, что вы есть на самом деле, обопритесь на смешное, чем думали испугать вас, на то, что вы есть в самом деле, обопритесь надежно и отдайте око за око и зуб за зуб.
Смело придвинулся Вильгельм к молодому франту, который заклеймил его ужасным словом: буржуа, взял за руку этого щёголя, крепко стиснул его руку и, усмехаясь и глядя на него, громко сказал:
– Вы не ошиблись, м. г. – je suis villain et trè-svilain (я мещанин, я мещанин)!
Шум одобрения раздался в толпе».
55
В. К. пишет мне: «...По-моему, это не гоголевский сюжет, а скорее шекспировский – Полевого назначил на роль Полония человек, который сам на роль Гамлета уж точно никакого права не имел, и П., по крайней мере, сделал всё, чтобы не быть заколотым тихо...»
Table of Contents
ИЗЛОМАННЫЙ АРШИН
§ 1. Нечто о кашалотах
§ 2. Приданое. Нечто о дефолте. Посажёный отец
§ 3. Ода. Пасквиль. Нечто о пурге
§ 4. Принцип торможения. Чернильная война. Нечто о Прекрасной Даме
§ 5. Нечто о бесах. Поприщин и Полиньяк. Теория сигнала
§ 6. Нечто о дундуке. Милый Фифи. Скачущее тело
§ 7. Идиот как сверхновая. Рецепт приготовления свободы. Нечто о мухах
§ 8. Нечто о жалости к мёртвым. О предрассудках. О созвездии Гончих Псов
§ 9. Интермедия I
§ 10. Интермедия II
§ 11. Ещё нечто о Застое. О «Литературной газете». О крокусах
§ 12. Нечто о прекрасном
§ 13. Нечто обо всём
§ 14. Нечто об искре и пламени. О призраках. О похождениях графа С***
§ 15. Нечто о платьях. Формула «3 Д»
§ 16. Нечто о лице. Ось времени. Европейская альтернатива
§ 17. Нечто о будущем. Скоростные характеристики птицы тройки. Попытка перехвата
§ 18. Нечто о тиражах. О ролевых играх. О роковых глупостях
§ 19. Нечто о Таировом переулке. О цене имени. О дедушке Крылове
§ 20. Нечто о милосердии. О справедливости. Опять о милосердии
§ 21. Нечто о лит. ненависти. Маркетинговый план
§ 22. Нечто о т. н. лит. совести. – Овса и вина! – Сюжет как недоразумение
Notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55