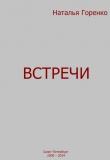Текст книги "Изломанный аршин"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
Но недаром же Булгарину принадлежит афоризм про искру (переделанный В. И. Лениным в боевой лозунг): что если на неё плюнуть – погаснет, а если подуть – разгорится пламень. (Не помню, с чем он искру сравнивал – с правдой, с неправдой; не важно. Любил-то больше правду. Говаривал: Варвара мне тётка, а правда – сестра!) Даже и эта первая, робкая публикация дала свой эффект. Выручила если не «Пчёлку» (которой, может быть, ничто и не угрожало), то Глинку – точно. Его в марте 26-го взяли опять, закрыли на три месяца, – но тот день, когда с остальных срывали ордена и ломали над головами шпаги, застал его, счастливчика, в пути.
Всего-то навсего переименованный в штатский чин, направлен для прохождения дальнейшей службы в Петрозаводск, на должность советника губернского правления.
И в новом декабре, когда его подельники уже прибыли в места лишения свободы и начали давать стране руду и соль, – а их матери, жёны и сёстры сбивались с ног, покупая и примеряя платья и драгоценности, в которых будут плясать на балах по случаю коронации, – Глинка вернулся к поэтическому творчеству.
Тема, без сомнения, предсказуема. Но обратите внимание на заглавие и подзаголовок. Автор явно сблизился с народом (что значит – природа севера!). Ушёл в фольклор, как бы говоря: единица – ноль, а этот текст выражает живое чувство пятидесяти миллионов.
Кто сей?
(Опыт русской народной поэзии)
Он будет русский Царь – и русским – Царь-отец!
Как Государь – любим народом,
Любим людьми – как человек;
Он в храм бессмертия пойдёт надёжным ходом,
И даст России новый век.
Дальше про этого пока не названного человека рассказано, что он поставит незыблемый закон на незыбкие граниты правды и покажет свой суд и свои дела векам; благодаря своему зоркому уму и твёрдому духу проведёт наш чёлн (незачёт: ведь имеется в виду, наверное, Россия, – а какой же Россия чёлн, когда она корабль? а впрочем, см. Путешествия Гулливера с иллюстрациями Гранвиля), – одним словом, сделает для нас всё:
Всё нам; Себе ж возьмёт, за все труды в награду —
Молитву сироты и нищего слезу!
Теперь сосредоточьтесь и постарайтесь угадать: о ком речь? как зовётся наш таинственный Спаситель? (– Исус Христос! – вскрикивает деревенский дурачок – и получает подзатыльник.) Ещё одна попытка:
О ком сии слова, сей отклик повторяю? —
Тире изображает напряженную паузу. Не оттого, что загадка трудна: разгадка слишком прекрасна. Но всё равно, дольше терпеть уже нельзя, чувство сейчас брызнет.
Но, на часах судьбы, пробил священный час:
Воскликнул стар и млад, и дружный россов глас
Гремит
(Ну подхватывайте же):
– Ура! ура! Монарху Николаю.
Как думаете – где напечатано? Правильно: в «Северной Пчеле».
Булгарин сводил вождя с образованщиной, промывая мозги одновременно ему и ей по тщательно продуманной системе.
Для образованщины каждый подобный текст раздвигал границы т. н. приличия, высвобождая таящийся в ней потенциал. (Дух соревнования, опять же.) Много значили фамилии. Фёдор Глинка – это, знаете, не пенис собачий, а – не слышно шума городского, в заневских башнях тишина, и на штыке у часового горит полночная луна! Или Лобанов М. Е. – мэтр стихотворного перевода (тотчас перед глазами, как наяву, – Семёнова в роли Федры), академик, – и вот, представляете, пишет про Николая I: Наук Хранитель, Любимцев Феба Покровитель, каждое слово – с прописной.
А, с другой стороны, почитать такие о себе мнения не последних в своём деле писак, – как по-вашему: приятно или нет? При всей вашей беспримерной скромности. При всём презрении к писакам вообще. Не застрянет ли у вас в голове, помимо вашей воли, пара-другая самых удачных рифм? не захочется ли новых – чисто для коллекции (о, сугубо приватной и, так сказать, виртуальной)? Нет, нет, никому не признавайтесь, но и не корите себя за якобы слабину. Дело-то – государственной важности. Такие тексты объединяют образованщину. О, дайте ей совокупиться на платформе любви к вам, – жалко, что ли.
Сейчас Ф. В. всё вам объяснит – специальной запиской, – а в Конторе Фон-Фок перепишет своей рукой и представит (А. И. Рейтблат через 172 года опубликует):
«В № 146 “Пчелы” напечатаны прекраснейшие стихи Глинки, заключающие самую благородную и самую справедливую похвалу Государю. В доказательство, что честные и добрые люди любят Государя, служит то, что кроме выдаваемых экземпляров по годовой подписке более 50-ти человек приходило покупать от своих господ сей нумер со стихами. Всем роздано даром. Пускай говорят, что журналы не действуют на общее мнение и что общее мнение не нужно! Поздравляю тех с большою проницательностью – в обратном смысле!»
Он дул и дул на заронённую искру неутомимо, – и после того как Пушкин сочинил наконец «Стансы», в 27 году, показался огонёк.
«Стансы» освободили образованщину от призраков. Ровно год и ещё одну неделю призраки исправно являлись на каждый бал, на каждую офицерскую попойку, – о литературных собраниях вообще не говорю: из-за нашествия призраков они вовсе прекратились. Призраки прятались за колоннами, их руки протягивались к бутылкам и бокалам, но хуже всего было то, что стоило музыке замолчать или разговору оборваться, в наступившей тишине слышались их голоса.
Крайне неудобно. Крайне неуютно. Кто-то должен был – кто же, как не первый поэт? – срочно найти и огласить хоть одну причину, по которой не стыдно их – ну, в общем, прогнать. В сущности, это так просто: всего лишь громко произнести один тост – и пригубить алкогольный напиток, улыбаясь и ясно глядя друг другу в глаза. Репрессированные в ту же секунду исчезнут (мы, современные люди, отлично знаем, что призраки обитают в голове и больше нигде, – а, например, не плетутся вот именно в эту минуту в шахту, придерживая руками невыносимо тяжёлую, невыносимо холодную цепь), – и жить снова станет легко, только подскажите причину, по которой это не стыдно. А лучше – сразу тост! скажите тост! За милосердие, за великодушие – неуместно, поздно, – тогда за что?
В «Стансах» (написанных 22 декабря 1826-го) причина названа: Он хороший! хороший! к сожалению, горяч и на расправу скор, но, вот увидите, отходчив. Всё дело в генах: Он вылитый прадед – и, помяните моё слово, будет, как и Великий Пётр, совершенно замечательным руководителем. Некоторые не сразу поняли Его – и горько поплатились; бывают такие роковые недоразумения. Может быть, чем скорее мы на время забудем про этих несчастных – тем раньше Он их простит.
Тост провозглашался отдельно. Скажем, в июле 27-го Бенкендорф писал тостуемому:
«Пушкин, после свидания со мной, говорил в Английском клубе с восторгом о Вашем Величестве и заставил лиц, обедавших с ним, пить здоровье Вашего Величества».
Стало быть, к этому моменту всю прежнюю неловкость сняло как рукой.
Вот агентурный отчет о типичной пирушке писателей. 27-й год, сентябрь. Место действия – Петербург, в районе Владимирской площади, квартира Ореста Сомова. Повод – новоселье. Гости: Дельвиг, Булгарин, Греч, Полевой, цензор Сербинович, кто-то ещё, в том числе, сообщает агент, – «несколько лучших поэтов».
«Говорили о прежней литературной жизни, вспоминали погибших от безрассудства литераторов, рассказывали литературные анекдоты, говорили о ценсуре и тому подобное. Издатель “Московского телеграфа” Полевой один отличался резкими чертами от здешних литераторов, сохраняя в себе весь прежний дух строптивости, которым блистал Рылеев и его сообщники в обществах».
(Ничего себе. А специалисты считают, что это булгаринский текст. Но всего несколько дней назад Булгарин, Греч и Полевой были в гостях у Свиньина и вроде как помирились. Ладно, несущественно, читайте дальше: какая красота!)
«За ужином, при рюмке вина, вспыхнула весёлость. Пели куплеты и читали стихи Пушкина, пропущенные Государем к напечатанию. Барон Дельвиг подобрал музыку к “Стансам” Пушкина, в коих Государь сравнивается с Петром. Начали говорить о ненависти Государя к злоупотреблениям и взяточникам, об откровенности его характера, о желании дать России законы, и наконец литераторы до того воспламенились, что как бы порывом вскочили со стульев, с рюмками шампанского, и выпили за здоровье Государя; один из них весьма деликатно предложил здоровие Ценсора Пушкина, чтоб провозглашение имени Государя не показалось лестью, и все выпили до дна, обмакивая “Стансы” Пушкина в вино».
(А? Какова картинка? Картинка, говорю, какова! Не прямо ли по Гоголю, см. выше? Только немножко отдаёт чёрной мессой. И всё ещё приходится отплёвываться от призраков.)
«– Если бы дурак Рылеев жил и не вздумал беситься, – сказал один, – то клянусь, что он полюбил бы Государя и написал бы Ему стихи. – Молодец! – Дай бог Ему здоровие! – Лихой! – вот что повторяли со всех сторон».
План Булгарина сработал26. Николаевская эпоха на глазах становилась пушкинской (и наоборот) по взаимному согласию сторон. Репрессии прекратились, ожидались реформы, открылись перспективы (получил же Гнедич за «Илиаду» персональную пенсию), совесть у образованщины совсем прошла, даже перестала поднывать.
Булгарин пригласил на обед Сомова, Дельвига, Пушкина. После с удовольствием докладывал Фон-Фоку:
«Шампанское и венгерское вино пробудили во всех искренность. Шутили много и смеялись и, к удивлению, в это время, когда прежде подшучивали над правительством, ныне хвалили Государя откровенно и чистосердечно. Пушкин сказал: меня должно прозвать или Николаем, или Николаевичем, ибо без него я бы не жил. Он дал мне жизнь и, что гораздо более, свободу. Виват!»
А, не правда ли, жаль, что Пушкин позволил себе такую плоскую остроту: что он – Николаевич? (Может быть, Булгарин – из наилучших, понятно, побуждений – прилгнул? – Нет, пожалуй, не посмел бы.) Пустяк, а грустно. Но учтём смягчающее обстоятельство – венгерское вино. И что вокруг сексот на сексоте.
Вот и за Николая Полевого (который мне не сват, не брат и тем более не Пушкин) почему-то немного совестно, когда читаешь все эти глупости:
«Как Русский, пламенно любящий славу Монарха, видящий в Нём не только моего Государя, но и великого, гениального человека нашего времени, я уверен, что Его светлый ум знает и ценит все, даже и малейшие средства действовать на подвластный Ему народ, сообразно мудрым Его предначертаниям».
Боюсь, нет никакой надежды, что он хотя бы отчасти кривил душой. Даже в этом, сугубо официальном документе. (29-й год, заявление генералу Волкову: Ваше Превосходительство изволили от имени Его Величества строго указать на перегибы, допущенные мною в фельетоне «Приказные анекдоты»; но если в пылу борьбы с коррупцией я и отклонился от линии партии, то это произошло нечаянно; чтобы впредь подобное не повторилось, прошу компетентные органы в Вашем лице просматривать мои статьи прежде чем они поступают в цензуру; это исключит возможность идеологической ошибки, а может статься, что и убедит Центр в чистоте моих намерений, далее по тексту.)
Ну да, у него была некоторая сумма политических надежд. Так сказать, программа Чацкого: ускорение, гласность, небольшая перестройка. Деколлективизация (по возможности без окулачивания), индустриализация (он говорил и писал: индю-). Отмена номенклатурных привилегий. Ну и насчёт прав человека, особенно в сельском хозяйстве.
Но руководящую роль Семьи как ведущей и направляющей силы общества – он не ставил под сомнение никогда. Чего не было, того не было.
Уверяю вас: если бы он допустил в «Телеграфе» хоть одно высказывание, порочащее местный общественный и государственный строй, – барон Брунов, наш незабвенный крокус, при всём своём легкомыслии со всем своим тупоумием, – засёк бы непременно. С наслаждением выписал бы, дважды подчеркнув, – и на полях три восклицательных знака.
Но реально-то в его зелёной тетради – сплошная туфта; подтасовки и передержки, скучно и противно разбирать, я уже говорил.
Да и незачем: советские тоже проверяли – ничего не нашли. Не то ухватились бы обеими руками. Ввиду отчаянного дефицита революционных идей в России. Сами посудите: декабристы уже отмотали каждый по десятке, давно пора переходить ко второму этапу освободительного движения, – а Герцен всё ещё в пижаме, прихлёбывая остывший кофе, дочитывает повесть Николая Полевого «Блаженство безумия»27. Про, вообразите, любовь.
Ничего не попишешь: многие тогда предпочитали политике изящную словесность.
Граф Соллогуб (тот самый, что впоследствии по просьбе Панаевых выхлопотал Герцену загранпаспорт) рассказывает в мемуарах, как он в 1835 году, служа в Твери, чуть было не овладел одной барыней:
– Все мы, золотая тверская молодёжь, за ней волочились, но я пользовался тем преимуществом, что знал главных представителей тогдашней литературы... Однако всякий раз, что я подходил к моей красавице с намерением и желанием завести нежный разговор, она опрокидывала на спинку кресла свою прелестную головку и томным голосом говорила: Ах, граф, говорите мне о Пушкине! или о Гоголе; или о Жуковском; ах, граф, говорите о Полевом!
Он, как дурак, рассказывал, упуская один удобный случай за другим, – а время уходило. Вскоре его отозвали в Петербург. Так и не овладел. Теперь, наверное, жалеют оба.
§ 15. Нечто о платьях. Формула «3 Д»
Кому как, а для меня хуже нет этих проклятых переходов – от параграфа к параграфу и даже между абзацами. Стоит позволить тексту оторваться от хронологии, как он начинает вихлять; разъезжается. И наводишь, настилаешь, прокладываешь эти, значит, литераторские мостки. Пиши объяснительную главу: за каким чёртом понадобилась предыдущая. Да смотри не пропусти опять поворот на главную дорожку. По ней до последней точки, наверное, совсем недалеко.
Должно быть, я хотел сказать (оборот отнюдь не бессмысленный – означает: я больше не буду, не бейте меня), что т. н. культ личности – отличная отмазка для образованщины, особенно – литературной. Дескать, сознаюсь: я действительно, как говорится, изменила народу с царём, но это было роковое увлечение – амок, слышали такое слово? а этот ваш пресловутый народ ничего и не заметил, он всегда был ко мне абсолютно холоден; ему, если хотите знать, кроме царя, никто не нужен; и они остались друзьями, – а я? что делать мне?
Да и вообще, Застой – это режим измены. Опирается на спасительную способность человека предавать самого себя. Которую нельзя же доказать на деле, не предав кого-нибудь ещё. И характеры ломаются, как спички.
Тем приятней посмотреть на Николая Романова I. Да, он отключил доставшуюся ему страну от европейской истории, но это была не измена (разве он присягал? где, покажите, написано, что он не имел права остановить в России время хоть навсегда? предъявите документы!) – а глупость, хотя и с трусостью пополам. Но уж зато личность свою (не путать с т. н. душой, насчёт которой ничего никому не известно) сохранил без единой царапины, и она вплоть до самого биоконца развивалась полно и гармонично.
Даже не знаю, найдётся ли в истории шоу-бизнеса другой такой же разносторонний талант. С таким потрясающим, например, чувством задника (см. т. н. фоновую застройку Петербурга, архитектуру периферийных обкомов и др.).
Приплюсовать доскональное знание машинерии, колонну ли воздвигнуть, эшафот ли.
А костюмы? Модельер уровня Николая сегодня считался бы мегазвездой, его небоскрёб в Эмиратах вознёсся бы превыше всех Ю***-ых.
Взять хоть парадные платья придворных дам – т. н. русские, в смысле – народные (эскизы подписаны 27.02.1834).
Во-первых, сугубо национальная конструкция – как бы двухслойная: верхнее бархатное платье с откидными рукавами и со шлейфом имеет спереди, «к низу от талии» (какое, во-вторых, понимание фигуры!) – разрез, открывающий юбку другого, нижнего платья из белой материи по выбору носительницы. Бархат же (и это в-третьих: какое чувство иерархии цвета!) – у гофмейстерины малиновый, у статс-дам и камер-фрейлин – зелёный, у фрейлин – пунцовый, у наставницы великих княжон – синий, у фрейлин великих княжон – светло-синий.
С фрейлинами великих княгинь вышла секундная заминка: перебой фантазии, то ли бархата не хватило, – но тем изящней отыскалось решение: опять пунцовый, но с шитьём серебряным. Тогда как всем прочим по «хвосту и борту» верхнего платья, а также «вокруг и на переди юбки» – золотое, «одинаковое с шитьём парадных мундиров придворных чинов».
Ну и последний штрих, тончайший: девственница да имеет на голове повязку (цвет – по вкусу) и белую вуаль, а дефлорированные официально – кокошник, в крайнем случае – повойник.
Всё продумано до последнего крючка, до последней складки – чтобы радовать и радовать глаз.
И, напротив, с каким экономным трагизмом исполнен концепт «Смертник» (подписан не позже 12.07.1826):
– Когда они собрались, приказано было снять с них верхнюю одежду, которую тут же сожгли на костре, и дали им длинные белые рубахи, которые, надев, привязали четырёхугольные кожаные нагрудники, на которых белою краскою написано было – «преступник Кондрат Рылеев», на второй – «преступник Сергей Муравьёв», и так далее.
Там – акварель и гуашь, тут – чёрная тушь и белая бумага; но руку мастера не спутаешь ни с чьей другой.
И технику перевоплощения оттачивал изо дня в день. В трёх ролях: Очарователен, Недоступен и Громовержец. Чередуя их в произвольном порядке.
Скажем, с утра в приёмной зале, оглядывая придворную толпу, вдруг в какого-нибудь одного впериться взором, полным невыразимой ярости, как бы внезапно встретив смертельного врага; и только когда тот поймет, что разоблачён, – отвернуться брезгливо.
Днём его же, полумёртвого, высмотреть в последнем ряду, мизинцем шутливо так подозвать – и обласкать: поделиться идеей преобразования; спросить совета; передать привет супруге. Довести дурака до истерики счастья.
Часа через три, на балу, когда он поклонится, – взглянуть, как в перевернутый бинокль, не узнавая.
А назавтра сыграть в эту же игру (в обратной последовательности ходов) с кем-нибудь другим.
Творческая непоседливость: он же не мог спокойно смотреть на проходящий мимо взвод – руки, ноги, шея подёргивались – часто не выдерживал, бросался возглавить, показать идеальное равнение направо ли, налево, идеальный оттяг носка. То же и в вальсе, и на молебне: перфекционизм.
Одним словом, очень жаль, что Бенкендорф не догадался (руки не дошли – ну поручил бы кому-нибудь) создать шарашку, чтобы в ней самородки изобрели кино.
Положим, навряд ли Николай, даже осознав, для чего на самом-то деле рождён, бросил бы престол совсем. Привилегии, то-сё. (Например, он пристрастился читать чужие письма: как это обогащает синтаксис! Или – приятно приказать высечь какого-нибудь молодого и с самолюбием в глазах: гимназиста, кадета, пажа. Ну и что с дамами – без проблем.)
Но какую-нибудь простенькую конституцию – которая давала бы ему хоть немного свободного времени – ради искусства мог бы и подмахнуть. Ставил бы ценные фильмы. Вместо того чтобы управлять государством, как кухарка.
Как раб на галерах.
Как никто, ставший всем, – раз всё позволено.
Боялся лишь выстрелов, морских волн и крови.
Никоим образом не оказывая давления на независимый Верховный уголовный суд, просто поставил его в известность, что «никак не соизволяет не только на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы, и, словом, ни на какую казнь, с пролитием крови сопряжённую».
Ну а гарротта – как известно, не наш путь, про костёр же почему-то вообще никто не вспомнил. Сами видите: ничего, кроме виселицы, не оставалось; а вы бы предложили – что?
Вот и у образованщины практически не было выбора – предавать, не предавать. Изменять, не изменять по манию царя прежним друзьям и мыслям, не говоря – угнетённому народу. Увижу ль, о друзья? – нет, не увижу, и слава богу, потому что надо же как-то поднять детей.
Взрослый человек, когда становится всё ясно, живёт по формуле «3 Д»: Дети – Долги – Деньги. Не знаю, какие подставить вместо тире математические символы: раз Долги есть – значит, Денег нет? Но как бы то ни было, по ночам просыпаешься и думаешь о деньгах. Причём всю жизнь.
Почему-то Застой – это непоправимо низкая производительность труда и – простите зияние гласных – инфляция. И не в теории (опять зияние – и опять), а просто: доходы от имений падают, а цены растут (незаметно и неумолимо – как дети), на импортный текстиль в особенности.
Но и на транспорт, и на сено, и на жилплощадь с дровами.
В 33-м Пушкин съехал с квартиры в конце лета, уплатив за неё по август включительно; домовладелец, по букве контракта, требовал платы и за последнюю треть года; Пушкин его, естественно, послал; тот выкатил судебный иск, – а пока дело разбирается, извольте представить в суд оспариваемую сумму – тысячу с лишним рублей – либо равнозначный заклад.
Ну вы понимаете: август месяц, денег нет ниоткуда, даже и занять не у кого, – все на дачах.
Выручила – вообразите, Гоголь! – Седьмая ревизия: вовремя окончилась. И зарегистрировала в Кистенёвке несколько д. м. п. новых, – т. е. родившихся после Шестой. Заложена Кистенёвка два года назад и оценена, разумеется, по описям Шестой – в которых, стало быть, эти души не значатся, – конвертируй свободно! Вот он и выход: в обеспечение иска впредь до окончания дела представляю в силе своего права 7 свободных душ из моего имения, расположенного там-то. В случае чего продать их, и пусть г-н Жадимеровский подавится.
Ничего страшного. Им-то не всё ли равно. Россия – не Англия.
«Посмотрите, что делается там при изобретении новой машины, избавляющей вдруг от каторжной работы тысяч пять или шесть народу и лишающей их последнего средства к пропитанию... У нас нет ничего подобного. Повинности вообще не тягостны. Подушная платится миром; барщина определена законом; оброк не разорителен... В России нет человека, который бы не имел своего собственного жилища. Нищий, уходя скитаться по миру, оставляет свою избу. Этого нет в чужих краях. Иметь корову везде в Европе есть знак роскоши; у нас не иметь коровы есть знак ужасной бедности. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу: каждую субботу ходит он в баню; умывается по нескольку раз в день...»
Конечно, если те же семь душ стоит бальное платье (материя – сто р. за аршин; плюс индпошив, плюс фурнитура и вся эта блескучая чепуха), одноразовое фактически, а балы – каждый божий день (во всяком случае, каждый зимний), – то никакой крестьянской рождаемости не хватит. Тем более – гаснущей. Сколько бы они там ни умывались.
– Опять в сторону! Опять про Пушкина! А где же этот несчастный Полевой?
Видите ли, несчастный Полевой – тоже жертва формулы «3 Д», даже числовые значения почти совпадают. А Пушкин – тоже жертва Застоя. Практически одинаковые обстоятельства, хотя один был гений, а другой – безусловно, нет, хотя всё-таки писатель не последний. Даже закрадывается подозрение, что автор(ша) истории литературы специально поставил(а) их в параллель: чтобы намекнуть, какой финал ожидал Пушкина, если бы он(а) не позволил(а) ему погибнуть на девять лет раньше. Позволил(а) – пожалел(а) любимчика. Вполне оправданная несправедливость, – вы и я тоже так поступили бы, – но это всего лишь художественный приём.
Ну а Полевому досталось по полной программе, и тут тоже не возразишь. В нищете, от отчаяния (опять зияние; а как избежать?) и геморроя – идеально логичная для литератора смерть.
Но совершенно, совершенно не обязательно было изображать его каким-то растоптанным червяком. Продавшимся (почему-то задарма) ренегатом. Лжедиссидентом, закономерно перешедшим в реакционный лагерь, так их мать.
А он ни лже-, ни просто диссидентом не был и ни в какой лагерь не переходил.
Вот уж кому клевета сопутствовала всюду. Переменялся только ветер клеветы.
Строго говоря, автор(ша) истории литературы тут как раз ни при чем. Он(а) оценивает каждого по его текстам. Хотя умеет, если надо, их забывать.
Что Полевой – невежда, жулик, опасный вредитель, лукавый сексот и, наконец (под конец), полное ничтожество, – уверял публику хор его врагов. У каждого из них был свой мотив – если разобраться, мелкий, конечно; литературная же т. н. среда.
А все эти СНОП и СНОБ не то что подхватили – а не сочли нужным возразить. (Хотя тоже знали правду.) Враги Полевого были почти все как один гении, классики – либо приятели классиков. Поэты пушкинского круга. Революционные демократы. Принципиальные люди передовых убеждений. Кто был не с ними, тот, значит, был против них, т. е. заодно с негодяем Булгариным и примкнувшим к нему негодяем Гречем. В таком виде история литературы как школьный предмет доходчивей. А что некто Николай Полевой негодяем точно не был – ну не был. Но ведь и не герой? Ну хотите, запишем: одно время играл положительную роль, однако не выдержал её? Не всё ли равно? Кого теперь волнует его репутация? да и нет у него, считайте, репутации, раз никто не помнит. (Тем более, революционные демократы давно его простили. Пушкинский круг злопамятней.) Вот если бы он написал хоть один бессмертный текст, – стоило бы заняться реабилитацией, – но ведь не написал.
Ну, во-первых, и он разок-другой соединил несколько слов (а хотя бы и чужих) навсегда. Например:
– Но я любил её, как сорок тысяч братьев
Любить не могут!
А во-вторых, всё-таки слишком несправедливо. Слишком высокомерны эти классики, а обслуживающие их науки подобострастны. Полевой для Пушкина – невежда и двурушник, а какой-нибудь Вяземский – умница, стилист и даже моральный авторитет. Не наоборот ли случайно?
Наводим монокль на Вяземского.
Находим, что, действительно, году так в 20-м размышлял и он «о средствах, нам предстоящих, врезать след жизни нашей на этой земле упорной и нам сопротивляющейся, и нашёл одно: заняться теоретическим образом задачею уничтожения рабства... Если самим не придётся нам дожить до созрения сей мысли, то, по крайней мере, от признательных потомков счастливейших не ускользнёт память бытия нашего».
Когда турнули с госслужбы и финансы иссякли, взглянул на вещи под другим углом:
– Теперь, когда мужики оброка не платят, надобно попытаться, не дадут ли дураки, то есть читатели, оброка.
И уговорил Полевого вложиться в издание журнала: бензин ваш, Николай Алексеевич, идеи наши, прибыль пополам.
Через два года, я говорил, на него прикрикнули, он отскочил или, верней, отполз. И очень скоро – уже в 29 году – всё понял. Осознал. Сам, своим справедливо хвалёным умом дошёл до диалектического материализма:
– Лучшее средство быть свободным под Самовластием есть служить Самовластию!
И постучался в заветную дверь. И его приняли обратно. Но ещё долго – пока не привык и не полюбил – единственным его утешением оставалась диалектика: употребляйте, употребляйте меня, ведь на самом-то деле это я – вас; поскольку ничего не чувствую и всю дорогу матерюсь в сердце своем. И мечтаю, мечтаю: как округлю имение, скоплю капитал, на худой конец – выслужу пенсион; имение – детям, а сам с капиталом и женой – адьё, немытая Россия! только ты меня и видела.
– Любовь к России, заключающаяся в желании жить в России, есть химера, недостойная возвышенного человека.
Свалить, свалить, причем – легально: чтобы активов не заморозили, не перекрыли канал поступлений. Чтобы культ личности отпустил по-хорошему. Но доверие надо заслужить, проявив патриотизм, а не носиться со своей гордостью, как с писаной торбой.
Вяземский проявил. И заслужил. А, скажем, Герцен пролез без очереди, хитростью и по блату.
А Пушкин не дожил. Хотя ярче всех выразил идеал осмысленного существования в эпоху Застоя: умереть, уснуть – очнуться лет через сто пятьдесят где-нибудь в Европе пенсионером – финским, немецким, японским:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
– Вот счастье! вот права – —
Но живут же люди и без счастья, и без прав – даже без покоя и воли.
– Опять Пушкин!
Ей-богу, в последний – или в самый предпоследний – раз. Такое совпадение: весной 34-го он радовался, что «Телеграф» запрещён, – что Полевой, очевидно, сломлен, – даже ходил к Уварову поздравлять с победой (заодно выбить Гоголю ставку в ЛГУ), – а летом царь сломал его самого. Причём без заранее обдуманного намерения; Пушкин нарвался сам. Ещё в феврале всё вроде бы складывалось ничего себе. Бенкендорф пригласил заглянуть, осведомился, как идёт работа над историей Петра, нет ли каких затруднений. Пушкин отвечал: работа идёт, но пришлось отвлечься на другую историю – пугачёвского бунта – единственно чтобы поправить материальное положение. Нет-нет, теперь-то всё будет хорошо: эта книга принесёт порядочный барыш, надо только где-то занять денег на типографские расходы. Отчего ж не у государя? – спросил, улыбаясь, А. Х., – и через несколько дней Пушкину выписали 20 000 – якобы на издание «Пугачёва», якобы взаймы и под процент; одновременно в гос. типографию поступило распоряжение напечатать «Пугачёва» за счёт казны.
Это было чрезвычайно кстати. В апреле Н. Н. с детьми отправилась в провинцию – повидать родных и поправить здоровье (неутомиомо танцевала весь сезон, но на последнем балу случился выкидыш), Пушкин, оставшись дома один, засел за корректуры. Очень скучал, очень беспокоился, писал к Н. Н. чуть не через день.
Николаю доставляли распечатку наиболее интересных писем каждую неделю, но ему, я думаю, нравилось проникать в почтовый ящик Пушкина самостоятельно. Сам угадал password, совсем несложный. Медицинские подробности в текстах его не шокировали, – ну как если бы он читал переписку собачек. Но в третьем же письме вместо «Христос воскресе!» (хотя 22 апреля как раз приходилось на Пасху) Пушкин позволил себе пассаж возмутительный (а ведь не мог не понимать, что его письма вскрываются):
«Все эти праздники просижу дома. К наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не намерен; царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать...»
Причина, что и говорить, убедительная; но посмотрите, что дальше:
«Видел я трёх царей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в пажи под старость лет, но променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут».
По правде говоря, я никак не возьму в толк, из-за чего Николай так ощетинился. Прелестный фрагмент и совершенно безобидный. Добродушный. С искренней теплотой.
Подумаешь, какая дерзость – не считать совершенно невозможной мысль, что Николай Романов I в принципе смертен.
Однако факт есть факт – царь был настолько взбешён, что проговорился Жуковскому. Тот примчался к Пушкину – причитать и отчитывать. И тогда Пушкин взбесился тоже.