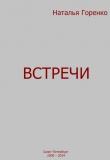Текст книги "Изломанный аршин"
Автор книги: Самуил Лурье
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Короче, век «Современника» измерен. Нелепо было и затевать его после «Выздоровления Лукулла». Вы полагаете, что сознательно идёте на риск отвратительных унижений (в номерах служить, – с гадливой тоской покорно повторяете вы за советским убитым писателем, – подол заворотить); но если вы на ножах с бригадиром – это уже не риск, а просто так и знайте: вы погибли; вам вообще нельзя было соваться в эти номера.
Мотылёк, атакуя лампу, чувствует себя, возможно, истребителем. Игрок, преследующий воображаемое числительное, пылает эйфорией боя. За 376 тысяч р. инженер Германн пошёл бы, не раздумывая, в альфонсы к восьмидесятисемилетней, но раз время не терпит (в первую же ночь она шифр сейфа фиг выдаст, – а что если на вторую вдруг перекинется?) – шантаж предпочтительней; скорей – значит практичней; благоразумней. Когда мы галлюцинируем, нам нет преград.
Вот и Пушкин решал свои арифметические задачи по правилам галлюцинации. Притом верил (в 36 году!) – что какое-то время у него ещё есть:
«Вижу, что непременно нужно мне иметь 80 000 доходу. И буду их иметь. Не даром же пустился в журнальную спекуляцию – а ведь это всё равно что золотарьство... очищать русскую литературу есть чистить нужники и зависеть от полиции. Того и гляди что... Чёрт их побери!»
А Уваров – ну что Уваров? На Уварова, думал Пушкин, у него есть царь. Точней – Бенкендорф. Ещё точней – Мордвинов. (Тем-то двоим вникать в дискуссии о формализме – влом.) Как бы ни было – практически прямой, всего через два разъёма, провод к гаранту. Другое дело, что там с прессой разговор короткий: защитить, если очень попросишь, – может, и защитят, но и посоветовать, в случае чего, – посоветуют. Или тоже попросят. И не отвертишься.
Презренный, одним словом, бизнес. Очень ненадёжный, но, главное, презренный. Вся эта ситуация страшно раздражала Пушкина.
«...У меня у самого душа в пятки уходит, как вспомню, что я журналист. Будучи ещё порядочным человеком, я получал уж полицейские выговоры, и мне говорили: Vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будет? Мордвинов будет на меня смотреть, как на Фаддея Булгарина и Николая Полевого, как на шпиона; чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом! Весело, нечего сказать».
Вот так вот. В письме к Н. Н. (от 18 мая 36 года) – не в простом письме, а в бессмертном (сколько кровоточащих самолюбий спасло: капнуть цитатой – до свадьбы заживёт) – ни с того ни с сего одним сравнительным оборотом – словно пулей муху в стену вдавил: вот ваш Полевой! нашли кому сочувствовать.
Запоминается, конечно, только напраслина на чёрта, но по краешку сетчатки всё равно пробегает: Полевой = Булгарин = шпион. А тут ещё старуха СНОП, встрепенувшись, появляется из-за ширмы. Всеми своими мимическими средствами давая понять, что, во-первых, ничего не случилось, а во-вторых – она тут совершенно ни при чём.
– Ну да, примечание науки гласит: «Пушкин полагал, что Н. Полевой, подобно Булгарину, был связан с III отделением». Полагал и полагал, что тут такого особенного? Нормальный ход.
– Как это – ничего особенного? А разве не этот же самый Пушкин или не про этого же самого Полевого писал два года назад: «мудрено с большей наглостию проповедовать якобинизм перед носом правительства»? и что полиция дала слабину, не распознав его вражескую сущность: «умел уверить её, что его либерализм пустая только маска»? То есть ещё недавно Пушкин полагал, что Полевой – опасный и бесстрашный экстремист. И вот – такая резкая перемена. В чём дело? Открылись какие-то новые факты?
– А это не к нам. Не наша компетенция. Подайте запрос в подсектор Полевого. Шутка. Да не волнуйтесь вы так. Не сказано же: имел основания полагать. Просто зарегистрирован один из рабочих моментов умственной жизни великого поэта. Человеку вообще, а русскому литератору в особенности – свойственно и полезно полагать про ближнего своего, что он – агент. Тем более – про дальнего.
– Чьим агентом можно считать человека, про которого думаешь, что III Отделение он сумел переиграть?
– А двойным: Бенкендорфа и мировой буржуазии. Допускаете же вы, что и сам Бенкендорф работал не только на Николая, но и на галактическую закулису. А если серьёзно – вспомните, как мирволил вашему... подзащитному начальник политической полиции; потакал, покровительствовал фактически. Ценил дарование, говорите? Уважал как человека и писателя? Бенкендорф? Ну-ну. А после разгрома «Телеграфа»: откуда нам знать, на каких условиях оставили Полевого в Москве, вообще – в литературе? Не заставили ли – хотя бы для виду, для отчёта о проведённой с ним профилактической беседе – дать соответствующую подписку? Нет, нет, никаких доносов – кому они нужны, и так выше крыши, не успеваем обрабатывать. Но мало ли – возникнет, предположим, надобность поправить слог во всеподданнейшем ежегодном обзоре настроений, – ведь не откажетесь помочь? Разве не идеальный был момент для вербовки? разве Полевой не идеальный был объект? А что документов не осталось – это в порядке вещей.
– Но если документальных данных нет и всё это одни только домыслы – жалко вам, что ли, указать невежественному потомству: Пушкин полагал и так далее – безосновательно?
– Не понимаете. Это было бы ненаучно. Нет данных за – но ведь нет и против. Те или другие могут ещё когда-нибудь быть откопаны. Хотя вероятность ничтожна.
– Что это вы такое говорите! Данные против – разве бывают? Как вы их себе представляете? В виде справки на бланке Большого дома: предъявитель сего в картотеке А (сексоты), а равно и в картотеке Б (стукачи) не числится? О да, с такой бумагой в нагрудном кармане можно смело смотреть потомству в глаза! Никаких улик. Сбережение агентуры – первая заповедь. А. И. Рейблат рассказывает: Фон-Фок собственноручно переписывал сообщения информаторов, после чего уничтожал. А, наоборот, лжеулики, я думаю, копил, как валюту. Записку Пушкина о Мицкевиче небось не сжёг.
– Прекратите. С этим клочком бумаги давно разобрались. Только любитель дешёвых сенсаций способен...
– Кто же их не любит. Кстати, не клочок: обыкновенный канцелярский лист качественной казённой бумаги. И разобрались вы с ним – извините – как всегда: типа да будет стыдно тому, кто задаст вопрос, и поэтому отвечать на него нет смысла. Типа ну совершенно ничем не примечательный текст. И действительно так. Заурядная объективка. На французском языке, без подписи, с датой: 7 января 1828. Адам Мицкевич привлекался тогда-то и там-то, дал такие-то показания, отсидел столько-то, выслан туда-то под присмотр такого-то и такого-то; в настоящий момент надеется, «что если их отзывы будут благоприятны, власти разрешат ему вернуться в Польшу, куда его призывают домашние обстоятельства». Всё. Ровно ничего интересного, если бы не эта неприятная подробность: рука – Пушкина, его самый лучший, парадный почерк.
– Ни малейшей неприятности, наоборот. Великий русский поэт ходатайствует за великого польского. Благородный пример профессиональной солидарности.
– Поднадзорный – за поднадзорного? Вам ли не знать, ему ли было не знать, на каком он там счету, какой вес имеет там его мнение? Но допустим. Тогда – каково же оно? Что он предлагает, чем аргументирует? И – почему не подписался?
– Ходатайство было, по-видимому, устное. В личном разговоре. И собеседник сказал Пушкину: а набросайте-ка мне основные факты; чтобы я, докладывая наверх, ничего не упустил.
– Вот! Это уже теплей. Стандартная, многажды изображённая процедура – мягкая вербовка втёмную. Как дела, над чем работаете, нет ли проблем? Говорят, завтра вы завтракаете (смешной оборот, а не вывернешься из него) у господина Булгарина? И господин Мицкевич там будет, его друг; вы ведь с ним знакомы ещё по Москве? Мы в курсе. В гостях – у Николая Полевого, кажется? – пили за его здоровье, участвовали в складчине на какой-то серебряный кубок... Большой артист, не правда ли? Ах, вы читали только переводы... Но ведь он мастер? мастер? Что вы говорите: тоскует? по семье? бедный! Послушайте, это очень, очень важно; вы можете оказать Мицкевичу неоценимую услугу: напишите это – вот то, что вы только что сказали; напишите прямо сейчас... Прекрасно, прекрасно. Погодите, не подписывайте – давайте-ка вместе придумаем ник; что-нибудь из вашего неопубликованного; может быть – Арион? Это что-то мифологическое – говорящий конь, да? Тут Пушкин, конечно, опомнился и, конечно, взбеленился. Убедительно, надо думать, взбеленился. Основательно. И его оставили в покое. А бумажку – на всякий случай – в досье; такая глупость: забыл разорвать.
– К чему этот скучный плагиат из советской антисоветской беллетристики?
– А к тому, что если бы почерк записки был чей-нибудь другой, – признайтесь: мы не стали бы сочинять никаких версий. Сочли бы её за едва ли не безусловное доказательство сами знаете чего. Но тут – мы абсолютно точно знаем: этого не может быть! Просто потому, что если в это хоть на секунду поверить – нас самих больше нет. Рубенс был шпион – фламандская живопись восхитительна. Дефо был шпион – Робинзон Крузо лучший друг советских школьников. Дидро, говорят, был шпион, – никого не колышет. Но если бы тот же я, например, мог представить себе, что Пушкин – – —! Это как тотальный, фатальный инсульт. В одно мгновение вы превращаетесь в слепоглухонемого идиота. По крайней мере, на русском языке больше ни говорить, ни даже думать нельзя. Не то что читать или писать... А вы – о доказательствах! Ни один человек в России никому и ничем не может доказать, что он не агент и никогда не был агент, – ничем, кроме всей своей жизни, до агонии включительно. Кроме всей своей жизни, всей своей жизни. Пушкин – доказал. А Полевой, скажете – нет?
– Ваш Полевой – никто. Для всех и давным-давно. И звать никак. Некто, кого Пушкин (и не он один) не любил, – не всё ли равно, за что? За многое. В 36-м – я скажу, а вы сразу забудьте! – даже и за то, что сам в 34-м аплодировал победе Уварова над «Телеграфом». Которой ведь и поспособствовал чуть-чуть. О, совсем чуть-чуть, – но как отрадно думать, что человек, вынудивший вас сделать гадость, ничего другого и не заслуживал: потому что он гад. Якобинец, шпион, какая разница? Это всего лишь бранные эпитеты, по-разному мотивирующие неприязнь – одну и ту же.
– Пусть никто. Но ни в коем случае не гад. Остаться в истории литературы никем (т. е. не остаться, потеряться) – это одно, а остаться кем-то, про кого Пушкин написал: шпион, – это немножко другое, согласны?
Давайте прикинем: с какой стати ему пришло на ум именно такое слово, а на память – имя: Полевой.
Осенью 36-го один молодой историк, Устрялов, намереваясь защищать докторскую диссертацию, напечатал её отдельной брошюрой. Там он оспаривал какие-то положения Карамзина, в чём-то соглашался с Полевым, – ну, как должно быть в добросовестной научной работе. Вяземский написал разбор. В виде открытого письма к министру Уварову. На тему: все враги России – противники Карамзина, и все противники Карамзина – враги России. По-видимому, князь Петр Андреевич окончательно забросил чепчик за мельницу. Три цитаты:
«...Г. Устрялов не усомнился вывести на одну доску Карамзина и Полевого: стройное творение одного и хаотический недоносок другого! И столь двусмысленно или просто сбивчиво опутал собственное мнение своё оговорками, пошлыми фразами и перифразами, что поистине не знаешь, кому из двух отдаёт он преимущество!»
«...Письмо Чаадаева не что иное в сущности своей, как отрицание той России, которую с подлинника списал Карамзин».
«...И самое 14 декабря не было ли впоследствии времени, так сказать, критика вооружённою рукою на мнение, исповедуемое Карамзиным, то есть Историею Государства Российского...»
Чудовищный этот текст Вяземский предложил «Современнику».
Печатать его, разумеется, было нельзя, неприлично; Пушкин написал Вяземскому: цензура не пропустит. Разве при каком случае удастся использовать отрывок-другой. И отчеркнул в рукописи самый подходящий – насчёт хаотического недоноска. Сбоку приписал:
«О Полевом не худо бы напомнить и попространнее. Не должно забыть, что он сделан членом-корреспондентом нашей Академии за свою шарлатанскую книгу, писанную без смысла, без изысканий и безо всякой совести, – не говорю уже о плутовстве подписки, что касается управы благочиния, а не Академии наук».
Обвинение немного странное, если вдуматься: от человека, пятый год получающего солидную плату за труд, которым занимается – скажем так – спрохвала.
Что характерно: именно тут СНОП не выдерживает; считает своим долгом вмешаться. Ход её мыслей – по умолчанию – примерно такой: Пушкин обозвал Николая Полевого шпионом – оставим это на его совести; якобинцем – просто забудем (великий поэт погорячился, с кем не бывает); но невеждой, но халтурщиком, но жуликом – это уж перебор. Если и это оставить без комментария – потомство, чего доброго, решит, что гений не всё понимал; не так уж безошибочно разбирался в книгах и в людях; и разрешал себе не совсем литературные поступки. К примеру – готовил печатное нападение на писателя, лишённого возможности возразить. Так знайте же, дети: в данном конкретном случае Пушкин поддался вполне естественному желанию – дискредитировать конкурента. (Что-что, а такой мотив потомство радостно поймёт.)
Она проговаривается!
«...Пушкин болезненно воспринимал любые известия (ага!), которые ставили под сомнение ценность подготовляемого им труда или могли осложнить его положение как историка. Надо думать, что именно это обстоятельство обусловило резкость Пушкина по адресу Н. А. Полевого на полях открытого письма Вяземского».
Позвольте, позвольте: а думать, что Пушкин считал Полевого сексотом, – получается, уже не надо? Ведь если, наоборот, думать, что считал, то зачем искать ещё какое-то оправдание резкости тона?
Она проговорилась, она проговорилась, наша добрая, справедливая, компетентная старушка СНОП! Она знает, что Пушкин обругал Полевого шпионом не по делу, а в запальчивости, со зла! Был повод, и была ядовитая подсказка.
Собака зарыта в злосчастной заявке Полевого на грант. Кто-то уведомил Пушкина и порадовал его подробностями: так и так, Бенкендорф поддержал, император отказал, однако тема не закрыта.
Кто же как не бесценный сотрудник Краевский.
Которому слил информацию, без сомнения, Владиславлев. Без сомнения же – дополнительно отравив.
Мы ещё увидим, на какую грубую ложь был способен этот человек, когда речь заходила о Полевом. Должно быть, ненавидел. Должно быть – за полное равнодушие погибшего «Телеграфа» к владиславлевской прозе, столь ценимой другими, тем же Белинским.
Маленькие литераторы (особенно – бездарные) и вообще-то ненавидят больших; обожают (особенно – связанные с ГБ) на них клеветать; стравливать их. А также нельзя исключить, что штабс-капитан действительно подозревал, что его начальство заступается за Полевого и церемонится с ним – неспроста.
Вот все мотивы и сошлись.
Я предупреждал: кашалоты и гении бывают свирепы. Без причины кашалот обычно не нападает, но осознав маневры преследующих его плавсредств как согласованное и целесообразное поведение коллективной злой воли – и что участь его решена, – разворачивается и идёт в контратаку35. Таран, ещё таран. Кашалот теряет ориентацию, слепнет, глохнет, но бьёт и бьёт своей огромной головой по деревянным – а если стальные, то по стальным – бортам и днищам. Большой промысловый корабль ему не потопить, а вот у катеров, не говоря уже о шлюпках, – шансов нет, перечитайте Мелвила.
Портфель был тощ. Журнал надо, как печку, топить, – а чем? Не Кукольника же прозой, не стихами Бенедиктова? Мемуары ветеранов ОВ – непортящийся товар, но на благородных стариках далеко не уедешь. Переводные романы программой не предусмотрены. Марлинского не пропустят. Гоголь дезертировал. Натуральная школа пока не открылась. Лермонтов, к счастью, не сочинил ещё «Смерть поэта». Откуда же возьмутся тысячи подписчиков, чтобы доставить десятки тысяч рублей?
А впрочем, 25 января 37 года, в понедельник, около полуночи, в гостиной у Вяземских, всё это утратило вдруг для Пушкина смысл.
И это настолько печальная – как сорок тысяч братьев – история, что я больше не хочу о ней говорить. Выпишу на прощание с Пушкиным страничку из одной мартовской того же года статьи (написанной Полевым; напечатанной Сенковским; Уваров утёрся).
«В толпе поколений, которые теснятся по дороге, ведущей от колыбели до гроба, спеша сменить пелёнки саваном, являются иногда пришлецы – странные скитальцы на земле, бездомные и сирые. У всякого из нас есть какое-нибудь занятие в жизни. У этих странников нет занятия. Они лепечут только какие-то гармонические звуки, иногда так внятно, что даже толпа людей слышит их, приходит в восторг, останавливается и, указывая на пришлеца, восклицает: “Поэт!” Где он? Где он? Неужели явился новый поэт? Да, явился новый фигляр на ваше позорище, новый безумец. Бегите, бегите за ним! Послушайте его песен! Смотрите – вот он! И толпа смотрит. “Да он как все? Он как все мы?” Разумеется,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он!
Но что ж он не поёт? Он, кажется, страдает чем-то? И он опять запел. Как это нехорошо, неправильно! Прежде он лучше певал. Посмотрите, как он дурачится! А вот ещё запел другой: этот поёт лучше, в этом больше надежды. “Надежды?..” Бедные люди! на чью могилу споткнулись вы? “Как? Это его могила? Жаль, жаль поэта! Он рано умер!” И суетливо пробежала вперёд людская жизнь, оставивши за собою потомству могилу вдохновенного, могилу, окроплённую тёплыми слезами немногих, у кого сердце билось к нему сочувствием. Одни только они стоят, погружённые в мрачную думу, над его гробом!
Не вините толпы, не вините людей; она права, они правы. Поэзия – безумие, непонятное, странное безумие – тоска по небесной отчизне. Её ли понимать нам на земле?..»
Я думаю, что это написано хорошо. Что этот приподнятый тон не фальшив. Что это, конечно, романтизм для бедных, – но другого и не бывает. Что нет жанра неблагодарней, чем лит. критика. Тут скорей эссеистика, вы говорите? Ну да.
«Не вините людей. Действительно, так: сами поэты виноваты перед людьми – факиры-мечтатели, добровольные скитальцы, лунатики, повинующиеся силе непостижимого луча, который падает на них откуда-то свыше и приводит в вещее прозрение. Не думайте, чтобы толпа всегда отвергала этих дивных собратий, чтобы она не давала им иногда гремушки своей дружбы, не дарила их дурацким колпаком своей любви. Но с презрением бежит поэт от её объятий, и, как слёзы крокодила, отвергает он слёзы толпы. В ярости своей за сострадание к нему, он платит эпиграммою – участию, насмешкою – любви. От него люди отвергнулись: он мучится. Его похвалили: он насмехается. И, вечно недовольный собою, другими, жизнью, – он гибнет, гибнет, когда его обхватывают холодные объятия света, гибнет, когда на него сыплются все дары земного счастия, гибнет, когда зависть обременяет его позором бесславия...»
Про отвергнутую слезу крокодила – смешно. И факиры – ни к селу ни к городу. Но всё же, согласитесь, текст – не фуфло, а похож на человека.
И сестра Пушкина писала отцу:
«Вы, конечно, читали статью г. Полевого об Александре в “Библиотеке для чтения”. Она мне чрезвычайно понравилась. Это всё, что можно было сказать лучшего. Правда сквозит в ней, похвала без лести, без преувеличения, ощущение, чувство потери без аффектации...»
Дописывать ИРН (оставалось ещё шесть томов) и «Русскую историю для первоначального чтения» (четыре тома) и наполнять рецензиями (анонимными) критический отдел «Библиотеки для чтения». Очень много работы, очень мало денег.
«Работать и видеть, как бесплодно гибнет труд и время, менять векселя на векселя...»
В цейтноте и отчаянии человек начинает делать роковые глупости. Вернее, прибавлять новые к сделанным уже.
Личные нас не касаются, а литературная до сих пор была одна: не надо было объявлять эту проклятую подписку на ИРН.
Нет, была и другая, но выглядела сначала вполне ничтожной: некто Бегичев попросил просмотреть рукопись его романа; Полевой просмотрел: графоман, а впрочем, что-то есть; какой-то юмор, какие-то живые сцены; только слог невозможный. А не согласитесь ли вы его поправить, любезнейший Н. А., – ну что вам стоит, вы же профессионал, такой блестящий мастер. Полевой взялся. Будучи, чёрт возьми, бесхарактерным, а также падким на комплименты генералов. (Этот Бегичев, приятель покойного Грибоедова, предполагаемый прототип Горичева из «Горя от ума», был воронежский губернатор.) Текст был огромный, времени отнял бездну, но книга – «Семейство Холмских» – вышла и даже имела успех. Автор не ударил палец о палец, Полевой сам нашёл издателя, даже сам держал корректуры. Наконец, проездом из Воронежа в столицу, внезапно Бегичев явился: говорят, мой роман отлично идёт, – где мои деньги? Причиталось много, и, как назло, в этот день всей суммы не было: «Телеграф» тогда ещё действовал, и деньги беспрерывно вращались. Ну что ж, сказал Бегичев, ничего страшного, выдайте мне на эти остальные пять, что ли, тысяч заёмное письмо. Что же Н. А.? Выдал! Из абсолютно неуместной щепетильности. Вместо того чтобы сказать наглецу: и не подумаю! напротив того, я удержу их как гонорар за литобработку вашей писанины, на которую потратил бог знает сколько вечеров. Но кто же знал, что «Телеграф» рухнет. И что приятель Грибоедова окажется бессовестным человеком. За прошедшие годы вексель переписывался несколько раз, и пять тысяч этого нелепого долга превратились в десять, – а сколько унижений, – да что говорить!
А с «Гамлетом» – какой прокол! какой – не побоюсь этого слова – облом! Нет, не подумайте: перевод Полевого – совершенно замечательный, для русской тогдашней (а то и теперешней) сцены – лучший, и вообще – первый на русском языке текст о смысле всего, – но за него можно было получить деньги! Большие: чуть ли не эти же самые десять тысяч. (Полагался полный сбор за первый после премьеры спектакль.) Но Полевой подарил «Гамлета» Мочалову на бенефис (о, тщеславие драматического писателя! – страсть лютая, беззаветная, см. «Театральный роман»), – и пьеса навечно перешла в собственность театральной дирекции.
К 37 году размер долга простирался уже до 40 тысяч.
Пришло письмо из Петербурга. От Смирдина. Не хотите ли взять на себя редакцию «Северной пчелы» и «Сына отечества»? Я покупаю их у Греча, собираюсь вложить и в газету, и в журнал много денег, вообще – возродить, но без вас это невозможно. Греч и Булгарин остаются сотрудниками, однако препятствий с их стороны не опасайтесь, вся власть – вам и только вам. Жалованье – какое скажете, аванс и подъёмные – само собой.
Полевой ухватился за этот вариант. Бросился, как в омут, в эту аферу. Очередная роковая глупость. Но она не казалась очевидной. И сделана была не только ради шанса избежать позорного разорения.
«...Что́ было первоначальною причиною мысли о побеге из Москвы, – читаем в его письме к брату месяца через три, – ты знаешь и согласишься, что меня ничто не могло спасти от моего несчастия, от этого проклятия, наложенного судьбою на жизнь мою, от огня, сжигавшего меня медленно и страшно, – ничто, кроме побега? Бежать, задушить себя работою, трудом, уединением... Разумеется, что от этого лекарства умереть можно (да, кажется, этим дело и кончится, и – слава Богу!), но, по крайней мере, я умру в бою с жизнью, не теряя достоинства человека, стараясь ещё быть, сколько могу, полезным моему семейству, моему отечеству, людям, может быть... Воздух Москвы был тлетворен для меня, губил меня, жёг меня... Итак... бежать!»
Примечание Ксенофонта Полевого: «Это место его письма, тёмное для читателя, не может быть пояснено мною. Скажу только, что он говорит о тайне сердца, унесённой им в могилу».
А я-то позволил себе в одном из предыдущих параграфов упомянуть о ней так легкомысленно и нетактично. Вот вам и шуры-муры. Да, с femme fatale. Трагические, да.
Убыл из Москвы 12 октября 1837 года. Провожали Ксенофонт, Мочалов и один фанат из молодых – Белинский.
«Проехав с версту по шоссе, – говорит Ксенофонт Полевой, – мы остановились; Николай Алексеевич вышел из своего экипажа, и когда мы крепко обнялись на прощанье – слёзы невольно полились из наших глаз... Он спешил броситься в дилижанс... Долго и безмолвно стоял я на дороге, покуда экипаж не скрылся из глаз. Когда, наконец, опомнился я от моих ощущений, я увидел стоявшего вблизи меня Белинского – в слезах!..»
§ 19. Нечто о Таировом переулке. О цене имени. О дедушке Крылове
Девятнадцатый параграф напролёт – как пьяная землеройка, карабкайся – с типографским свинцом в груди и жаждой мести – по перевёрнутому дереву причин снизу вверх, от отдалённейших к ближайшим, пока они не сольются, не разбухнут комлем (ну, ещё рывок!) – да, комлем, но, увы, – пня. Где же развесистое дерево последствий? А тут прошлась зубом таинственной бензопилы – безносая; в пройденном ею времени все глаголы, а также существительное правда и ему подобные имеют сослагательный уклон.
Через три недели после того, как Николай Полевой переселился навсегда в Петербург, 6 ноября 37-го года там состоялось писательское собрание. Посвящённое, как нетрудно догадаться, знаменательной дате: ровно без двенадцати дней 80 лет до штурма Зимнего дворца. Стопроцентная гарантия, что никого из присутствующих не поставят к стенке (ни детей, – разве что который-нибудь, зазевавшись, заживётся на свете), – это ли не повод выпить?
На халяву, за счёт миллионера Жукова, короля махорки. Которого Владиславлев и Воейков уговорили инвестировать сколько надо тысяч в совместное предприятие – новую типографию. Пай Владиславлева – помимо наличных – административный ресурс, пай Воейкова – деньгами вряд ли более тысяч пяти (от Краевского, за аренду «Лит. прибавлений к Русскому инвалиду»), но такое имя – дороже денег, все знаменитости – в друзьях.
Лит. стаж – сорок лет. Создатель «Инвалида». Сочлен «Арзамаса» (ритуальное имя – Дымная Печурка). Был графоман от нечего делать, пока не набрёл на специальность по душе: завистливый хулитель; но бедность – такой дрессировщик, который даже скунса сделает ручным. Покровителю – слюни, всё остальное – всем остальным. Насмешника оклевещет, на конкурента и настучит (см. много выше: Булгарин и Греч – буревестники Декабря), а случайного прохожего отправит в химчистку меткой струёй из-за угла – просто так, от избытка.
И, например, покойного Пушкина эти извержения потешали. (Тем более что Воейков не жалел для него слюней.) Как и все, немножко презирая старика, Пушкин, как и все, бывал у него (на Невском, 64, над советской «Лавкой писателей») по пятницам ближе к вечеру. Как и все, после чая упрашивал почитать новое из «Дома сумасшедших» – или хоть не новое, – не надоело ничуть и никогда не надоест. Поэма, не поэма – экскурсия по жёлтому дому словесности, у каждого пациента – отдельный нумер с койкой и железная цепь. Каждому – шарж (по-моему – убогий) и эпиграмма (по-моему – тупая, но). После каждой полагалось хохотать, – и хохотали. Воейков рассказывал её творческую историю. Как нелегко дался перу тот же Полевой. Несколько лет – не поверите: лет! – ничего не получалось, хоть брось.
– И вот однажды иду из церкви после заутрени, вдыхаю полной грудью колкий воздух весны, внимаю благовесту – вдруг ниоткуда слышу строчку, за ней вторую, третью, ещё... Я как пущусь бегом – только бы до дома не забыть.
– Беспорточный и бесчинный, – с явным (возможно, притворным) удовольствием припоминает слушатель. – Сталось что с его башкой?..
Этот текст вам ещё процитирует вы удивитесь кто, а покамест А. Ф. Воейков покорнейше просит почтеннейшего Н. А. и всех-всех-всех товарищей по цеху (кроме своих кровных врагов – гг. Греча, Булгарина и Сенковского) пожаловать на банкет. Ввод в строй нового гиганта отечественной полиграфии, – такой отрадный факт нельзя же не обмыть. В торжественной обстановке, в производственном помещении: первый этаж бывшего публичного дома, а прежде – больницы, той самой, из окон которой в 31 году трудящиеся выбрасывали на мостовую распространителей холерного вибриона – врачей-убийц. В Телячьем переулке, он же Сенной, он же Таиров. (Не в честь ли местного руссоиста, подпольного человека из ещё не написанной оды: Таирова поймали! Отечество, ликуй! Конец твоей печали – Ему отрежут нос!) В котором переулке, если уж всё говорить, девица Дуклида познакомится с Раскольниковым: – Подарите мне, приятный кавалер, шесть копеек на выпивку!
Все-все-все, от Крылова до Панаева, явились. Конечно, и секция цензуры в полном составе. И профессор Никитенко, спасибо ему, не забыл включить свой бесценный диктофон. И сохранил запись:
«...человек семьдесят. Тут были все наши “знаменитости”, начиная с Бурнашева и до генерала Данилевского. И до сих пор ещё гремят в ушах моих дикие хоры жуковских певчих, неистовые крики грубого веселья; пестреют в глазах несчётные огни от ламп, бутылки с шампанским и лица, чересчур оживлённые вином. Я предложил соседям тост в память Гутенберга. “Не надо, не надо, – заревели они, – а в память Ивана Федорова!”
На обеде присутствовал квартальный, но не в качестве гостя, а в качестве блюстителя порядка. Он ходил вокруг стола и всё замечал. Кукольник был не в своём виде и непомерно дурачился; барон Розен каждому доказывал, что его драма “Иоанн III” лучшая изо всех его произведений. Полевой и Воейков сидели смирно.
– Беседа сбивается на оргию, – заметил я Полевому.
– Что же, – не совсем твёрдо отвечал он, – ничего, прекрасно, восхитительно!
...У меня пропали галоши, и мне обменили шубу».
Тоже, значит, был хорош. Однако ушёл одновременно с благоразумными или ненамного позже. А отчаянные и восторженные остались, как всегда бывает, допивать.
До этого вечера никто и никогда не видел Николая Полевого пьяным. И даже похоже на то, что до этого вечера он вообще почти не пил. Иногда заказывал в английском магазине ящик настоящего портера (любил Англию, корабли, повесть Марлинского «Фрегат “Надежда”»), – ящика хватало надолго.
А тут, очевидно, его развезло. И он не заметил, как ушли лит. генералы Крылов и Вяземский, а за ними лит. штаб-офицеры. Погрузился в какие-то мысли – наверное, мрачные: эти три недели были тяжелы. Умерла Немочка, слегла Mutter; проклятая петербургская погода, проклятая холодная квартира; не хотелось ему, наверное, домой.
И он сидел и дремал – вдруг встрепенулся – и (вот оно, коварство алкоголя!) ни с того ни с сего вообразил, что находится среди замечательных, выдающихся и очень расположенных к нему (глупец!) людей и что ему с ними очень весело.